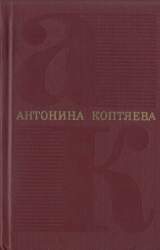
Текст книги "Собрание сочинений. Том 6. На Урале-реке : роман. По следам Ермака : очерк"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 36 страниц)
– Читать, что ли? – нетерпеливо спросил Андриан, спеша еще раз проверить собственные впечатления. – «Совет сам упорно добивался участия в государственной жизни страны, когда забывались интересы казачества».
– И добился, участвуя в событиях пятого июля! – ввернул Константин Котов.
– «Последнее земское положение окончательно указало на невозможность сохранения казачьих особенностей жизни».
– Когда речь идет об этом пресловутом образе казачьей жизни, Дутов вполне искренен, тут он готов лезть на рожон, ни с чем не считаясь, – снова перебил чтение письма Кобозев. – И впрямь: крестьянская община, в которую так веровали народники, не оправдала себя, но и казачья, с ее войсковым кругом и переложным земледелием, – архаика.
– Дайте дочитать до конца! – взмолился Левашов. – Вот самое-то главное: «Теперь от нас требуют заявления и как бы суда над генералами Корниловым и Калединым. Мы не судьи, а представители двенадцати казачьих войск, в списках коих состоят генерал Корнилов и генерал Каледин, а потому осуждать их мы не можем, не узнав всех подробностей. Как вы, господин министр, так и бывший управляющий военным министерством Савинков неоднократно утверждали, что генерал Корнилов – боевой генерал, любящий родину, но вовлеченный в авантюру неизвестными выскочками».
– Какие подробности им нужны, когда уже говорилось об этой авантюре неоднократно! – заметил Кобозев с иронией. – В ультиматуме Корнилова Временному правительству написано черным по белому: хватит, поиграли в революцию! Дутов тоже обеими руками подпишется под этим ультиматумом.
– Само собой! – согласился Левашов и снова уткнулся в газету: – «Так как же мы, казаки, можем заклеймить боевых сынов казачества столь позорным именем без суда и следствия? Разве вам недостаточно, господин министр-председатель, заявления в нашем воззвании о полном подчинении Временному правительству? Большего мы сейчас не можем дать, и если вы будете настаивать, угрожать и оказывать давление на нас, то мы, совет, будем вынуждены просить свои войска сложить с нас полномочия, считая дальнейшую работу под давлением несовместимой с достоинством выборного органа всероссийского казачества…»
– Да, теперь он, братцы, и правда может к нам в Оренбург нагрянуть! – заключил Левашов.
– Дошло? – спросил Кобозев.
– А ты говоришь – герой! – опять укорил Стрельникову Георгий Коростелев.
62
Первые дни сентября. Золотые возы плывут, качаясь, к «обрывам» гумен возле поселков и станиц – хлеб идет с полей. Медленно шагают по степным дорогам скованные парным ярмом могучие круторогие быки. Скрипят колесами большие телеги-фурманки, запряженные верблюдами, важно несущими чубатые головы на лебяжьи изогнутых шеях; из-под широких двупалых ступней с тупыми коготками-копытцами бьет фонтанчиками пыль: на всю мозолистую подошву ступает покоритель пустыни, а копытца только против скольжения. В фурманках навалом арбузы, дыни, нарядные тыквы с прокаленных солнцем бахчей.
За глубокими рвами – «обрывами», берегущими хлеб от потрав и пожаров, растут скирды, сложенные плотно, как исполинские сундуки. Некоторые хозяева, еще не перевозив все с полей, сразу приступили к молотьбе: урожай так богат, что не хватит места в «обрывах», да и время беспокойное, ненадежное… Не верится, глядя на обилие даров здешней осени, что по всей России, по взбаламученным ее городам пухнут с голоду люди! Станичники знают о народной беде, многие видели голодающих, но только чаще твердят:
– Кто с хлебом в тяжелый год, тот кум королю, государю дядя.
Сердце – на замок, деньги – в кубышку. Пусть голодают рабочие в Ташкенте, пусть в Москве и Петрограде работницы и солдатки осаждают хлебные магазины. Не привыкли казаки заботиться о далеких чужих краях: Россия большая, там хоть трава не расти. Свои поля, свои родные курени, своя река рыбная под боком – вот что дорого и мило.
Фрося и Харитина помогали работникам на молотилке. В рыжих облаках летящей половы, укутанные платками до глаз, обе тоненькие и ловкие, они подавали снопы, пока не появился Нестор, приехавший с поля на сытом мерине, заложенном в легкую бричку.
– Справятся тут и без вас. Я одного батрака привез – за троих сойдет, – сказал он, везде оберегавший Фросю от непривычной, тяжелой для нее работы. – Лучше нам в степи обед приготовите.
Пока они забирали свою одежонку, спрятанную между скирдами, он постоял на высокой земляной насыпи, наблюдая, как Демид Ведякин с братьями – колченогим Прохором и младшим, румяным, узкоглазым Николаем – разгружали очередной воз.
Сбив набок фуражку, из-под которой до черных сросшихся бровей висел по-казачьи отпущенный «висок», Николай играючи подбрасывал снопы на верх клади, посматривая на статную Дорофею; она заправляла молотьбой на току в этом же «обрыве».
– Как дела, станичник? Что там ишо о Корнилове слышно? – спросил Демид Нестора. Его мучило желание покурить, но это в «обрывах» было строжайше запрещено, и он совсем загонял братьев.
– Судить грозятся. Но верно, нет ли – проходит слух, будто казаки на Дону волнуются, не хотят отдавать своих атаманов. Все казачество за Каледина горой! Зато не тянут пока на германскую, хотя уже поговаривают об отправке нескольких полков из Оренбурга.
– Подвезло тебе в запасе быть.
– Да и тебе, сосед, видать, неплохо. Еще не гонят обратно в строй?
– Так я освобожденный. Работать, конечно, могу. И на коне с шашкой… ежели по доброй воле. Но нету ее, доброй-то воли! По мне, лучше сделать бы это самое замиренье – и всем домой. Три года кровь проливал – за смертью гонялся, а смысла-то какая? Покуда чужи земли добывали, свои здесь чуть не упустили.
Дорофея, рослая, как гвардеец, щуря нежно-голубые глаза, сама отгребала обмолоченное зерно, с мужской силой и сноровкой бросала новые снопы под ноги лошадям, волочившим по кругу «магазинные» камни – вертевшиеся в рамах тяжелые желобчатые катки из гальки с цементом, которые разминали колосья. На лошадях сидели добровольцы из станичных мальчишек и сыны Демида и Алевтины (один – еще малолеток – привязан к седлу, чтобы не свалился под ноги коня).
– Богатая у тебя команда! – пошутил Нестор.
Белый круглый подбородок девушки, плотно охваченный сдвинутым от духоты платком, стал совсем меловым, и еще ярче выделились на этой белизне, сбереженной от загара, плотно сомкнутые алые губы. Ничего не ответив, она отвернулась, сердито кинула тяжеленный навильник соломы.
– Мы теперь с вами не разговариваем! – поддал жару Николай, готовый дурачиться и с Дорофеей, как с задорной Харитинкой, и даже с Алевтиной, не боясь крепких, хотя и незлобных тумаков брата Демида.
– Трепач ты! – укорил его Нестор, зная о ревности влюбленной Харитины.
– Быват и не с трепачами! – огрызнулся тот, сдабривая ехидные слова солнечной улыбкой.
Демид, оставив вилы на возу, спрыгнул вниз, перемахнул через «обрыв» к соседям, подошел к Нестору, обдавая его теплом разгоряченного потного тела.
– Слух прошел, будто Керенского по шеям теперь? Дутов ладно отчистил его в своем письме. Поделом! Мы Дутова председателем совета на Всероссийском казачьем съезде выбрали, а Временное правительство его в щель загнало! Значит, казаков вперед только тогда, когда нужно наводить порядки!
Теперь, после женитьбы Нестора, солидный казачина Демид Ведякин начал разговаривать с ним как с равным. Это льстило Нестору: до сих пор его, как и других молодых парней, не допускали ни к заседаниям казачьего круга, ни к серьезным беседам.
Ответил он не торопясь:
– Батя слыхал в станичном правлении, будто обещали выпустить и Корнилова и Каледина. Если, говорит, таких героев будем променивать на министров, которые шашки в руках не держивали, то пробросаемся. Нам, дескать, казакам, от этих Керенских толку мало.
– Эдак! Я тоже говорю: как поход либо усмирение – сейчас казаков. Почему наше самоуправленье не утвердят по новому закону?
– А Советы казачьих депутатов? – неуверенно напомнил Нестор, плохо разбиравшийся в политике и не очень интересовавшийся ею.
– Советы?.. – Словно топором вырубленное, отягощенное густыми усами лицо Демида Ведякина осветилось лукавой, но приятной усмешкой. – Советы – это всероссийска контора. Ежели мы ее заведем у себя в станицах, то будем такими же хлеборобами, как просты крестьяне, и такими же гражданами, как рабочие. При чем тогда наша вольность казачья останется? Что будут делать станичный круг, войсково правленье, атаманы? Выходит, побоку все казачье?
Нестор задумался. Поглощенный сердечными делами и службой в полку, он мало обращал внимания на события в стране.
– Царя не стало? Ну и что из того! – сказал он однажды Фросе. – Значит, достукался Николай Романов до ручки; столько охраны, войска, министров, а даже не вступился никто. Выходит, не нужен стал, отжил свое. Старые казаки жалеют, правда… Но они всегда жалеют о том, что было. Да и не об этом Николае Романове они скучают, а хотят такого царя, чтобы стукнул кулаком в Питере, и вся Россия тряслась бы от страха… Но где его взять? Теперь против Керенского ополчились… Пожалуй, хорошо было бы, если бы власть взяли казачьи атаманы. Тогда Корнилов сидел бы в Петрограде, а мы тут сами по себе.
Поэтому Нестор сказал Демиду:
– Раз мы за вольность свою, а революция сделана, чтобы народу волю дать, так почему побоку все казачье?
Демид, тоже недоумевая, пожал плечищами, азартно шевельнул губами – должно быть, ругнулся, слова потонули в шуме, неумолчно стоявшем над «обрывами».
На току у Караульникова шумели сразу две молотилки. Нынче он, как никогда, спешил с уборкой и нанял новую артель, чтобы обмолотить даже те клади, что стояли с довоенных лет.
– Торопится, видно, до покрова подчистую управиться, – сказал Нестор, считая разговор о политике исчерпанным и намекая на сватовство старого вдовца к Дорофее.
Лицо Демида опять осветилось приятной улыбкой, зажигавшей карие его глаза тепло-золотистым блеском:
– Боится красного петуха! Кабы не подпалили большевики. Монастыри-то и усадьбы они палят!
– Какой им расчет? Городским и так есть нечего. – Неуместная улыбка Демида удивила Нестора больше жестких его слов по адресу станичного богача. – Что ж ты накликаешь беду на будущего зятя?
– Это мы еще посмотрим. Насчет зятя-то! Алевтина Дорофеюшкой знашь как дорожит? Боится, не ушла бы от нас, да еще к старому вдовцу, у которого ко двору смерть дорожку проторила: двух ведь жен схоронил! Мы бы ее лучше за своего отдали… Старые порядки пошатнулись – можно, пожалуй, деверям на свояченях жениться: не родна ведь кровь. Только у нашего Николая тоже ветер в голове. – Демид прямо взглянул на Нестора и, не желая обидеть его, добавил: – Как и у его тезки, царя Николая, свистит, говорю, сквознячок у братана в голове.
63
– Что опять стряслось в Питере? – спросила Фрося, заглядывая в лицо Нестора, прилегшего головой на ее колени.
Он молчал, растянувшись на старой попоне, брошенной на колкое жнивье, влюбленно следил, как шевелились нацелованные им припухшие губы жены, как влажно блестели ее глаза под черной сенью ресниц – темные, даже зрачков не видать!..
Вскинув руки, он сцепил пальцы за спиной Фроси, заставил ее нагнуться и, осыпая поцелуями, прошептал:
– Стряслось такое, что я с ума сойду, если хоть на один день разлучусь с тобой.
– Погоди, ведь люди кругом, смотрят…
– Пусть смотрят. Отчего нельзя целовать? Я теперь ночи жду, словно сокол взлета с руки охотника, и, чтобы мне белый свет не возненавидеть, ты должна меня и днем хоть немножко приласкать. Хотя бы, как котенка, погладить.
– Хорош котенок! – смеясь, сказала Фрося. – Ты меня держишь, будто тигр!
– Так я рад своей добыче. – И Нестор поцеловал ее в губы, крепко, пьяняще.
«Нашли время миловаться!» – подумал Григорий Прохорович, вывернувшись из-за составленных бабкой снопов, но помешать молодым не решился, то ли осознав скрытую в душе зависть к этой безрассудной любви, то ли пожалев о ненадежности свитого сыном гнезда: вот-вот обрушится и на станицу Изобильную бурный ураган грозно надвигавшихся событий, и все может пойти прахом.
Довольно испытал на своем веку старый казак Григорий Шеломинцев, встречаясь со смертью и в Закавказье, на войне с турками, и на сопках Маньчжурии. Ранен был. В плен попадал к «желтолицым чертям». Из плена ушел со своими казаками, прихватив «языка» да пулю в бедро на придачу.
Но что значит для казака рисковать собою в бою? Об этом раздумывать не приходится. Дадут команду, и с богом – марш, марш вперед. Рубил истово, словно молился, не успевала кровь сбегать по шашке. Находясь в запасе, в чине и при всех Георгиевских крестах, обучал теперь Шеломинцев рубке молодых казаков. И однажды до того увлекся, что в присутствии генерала из штаба сказал:
– Эти нарядны генеральски сабли с эфесом вокруг руки – г…, а вот простой клинок с кровоточинами исключительно хорошо берет. Если ударить им противника на скаку с потягом, так и развалишь по коню. Даже бурка – она ведь будто валенок – не задержит клинка.
Генерал не обиделся только потому, что был восхищен образным выражением есаула, и, уезжая из лагеря, все повторял:
– «Развалишь по коню»… Как точно сказано! Значит, седок в седле распластан надвое.
А командир полка сказал потом Григорию Шеломинцеву:
– Моли своего бога, что генерал с умственными наклонностями, а то припаял бы тебе за генеральское «г…».
Какие наклонности имел в виду полковник, Григорий Прохорович понял только тогда, когда случайно узнал, что генерал пишет книжку под заглавием «Мемуары».
– Вроде не военно названье-то, – сказал Шеломинцев дружкам-однополчанам. – Значит, он писатель таковский… Вот, я слыхал, есть книга «Война и мир». Это, чувствуется, крепко завернуто. А то – «мемуары»!
Не получив образования, Григорий Прохорович был зато слепо предан престолу и родине. Правда, понятие «родина» связано для него прежде всего с той местностью, где он родился и «возрос»: с вольною землицею Оренбургского казачьего войска. Она-то, единственная, и вызывала самые трепетные его переживания и самые острые страхи. То пожар всполошит станичников, то падеж накинется на отары и табуны. Сибирская язва в одночасье сваливала лучших быков и лошадей. А пахоты – сравнить нельзя с тем, что у иногородних мужиков, царапавших сохой арендованные полоски!
Пашни у станичников Изобильной неоглядные. Зато и недороды и градобои – для хозяев великий урон. Но как ни велики потери, а прибыли больше того. И можно ли не любить родную эту землицу? Вот она раскинулась без конца и края под блекло-голубым куполом осеннего неба, покрытая золотой щетиной жнивья и кучами сложенных снопов.
А там все убрано, свезено на «обрывы», и уже сворачивают набок черноземные пласты зяби лемеха плугов, серебром сверкающие на поворотах. Ведут привычно борозды неторопливые быки, по три и по четыре пары в упряжке (а упряжек-то у Шеломинцева по степи больше десятка!), и все шире раздаются черные перебоины в желтеющих полях.
«Хлеб растим для людей. Всю Расею кормим. Да ишо защищал ее. Самая опора власти – постоянной ли, временной ли – казачество. Как же можно наших атаманов за решетку?! Уму непостижимо. Большевики против власти и порядку. Не глянется мне ихняя воля – для кого она? Отрезать бы им языки-то да сослать… Только не в Сибирь (туда поселенцы охотой едут – отбою нет!), а в тундру бы упечь, на острова бы в Ледовитом море, где, почитай, круглый год ночь стоит.
Однако, что же творится? Ну смутьяны разны сроду были, а теперь ведь и Керенский, главнокомандующий, на ту же линию тянет со своими министрами. Но ежели казачества не будет, рухнет Расея. С голоду все передохнут. Что это за министры без головы? Чего стоит такой главнокомандующий?»
Отступив незаметно от того места, где Нестор целовался с Фросей, Шеломинцев прошел к табору и шумно обрушился на Харитину и Аглаиду, сидевших в тени возле фурманки. Распряженные волы, лениво помахивая хвостами, доедали поблизости остатки снопов, трясли их, громко шурша колосьями. Костерчик под котлом с густой похлебкой из свинины, заправленной знаменитым оренбургским пшеном, еле дымился.
– Вы чего сели, поприжали ж…! Как старшего рядом нет, так будто малые ребята – одни поигрунки да побасенки на уме!
– Мы работаем не покладая рук с утра… Вот только-только присели, папаня! – вскочив, словно девочка, несмотря на дородность, начала оправдываться Аглаида.
– Обед на целу артель сготовили, – похвалилась Харитина, привычно робея перед отцом.
– Вижу. Работа ваша – огонь, и работу вашу – в огонь! – Шеломинцев глянул на еще не вывезенные снопы, подосадовал за кинутые на ветер слова, чего не терпел, как и ругани «чертом», поддал ногой новенькую пустую цибарку, увидел разом сделанную вмятину на боку ведра и еще пуще распалился: жалко стало. – Чего вы быкам хлеб травите, не могли соломы прихватить с молотилки? Транжирите отцовско добро! Зовите Нестора, кулеш-то уж пригорел, поди. В этаком довольстве живете, а благодарности никакой. Достукаетесь с новыми-то властями, что и самих упекут на север…
Тут он вспомнил, как целовались Нестор и Фрося, отмяк, усмехнулся, но пробормотал все еще сердито:
– Небось в тундре ледяной не стали бы миловаться на каждом шагу!
64
– Господи Исусе, неужели это все мое? – Вирка, не веря глазам, обошла каменную каморку – пристройку во дворе редакции газеты.
Пять шагов от порога до единственного окна да поперек почти четыре… Столик настоящий, табуретки – две. Коечка железная, кадка с водой и печурка в углу, сложенная из кирпичей.
Всплеснув руками от радостного потрясения, девушка обернулась к целой ораве ребятишек мал мала меньше, несмело толпившихся посреди своего нового жилья, к Мите и Косте, стоявшим у двери с узлами.
– Чего вы стоите, товарищи? Присаживайтесь, устали, чай, покуда наше барахло несли!
Нюшка, старшая, одиннадцати лет, востроносенькая, смуглая, косичка тонкая до пояса, заторопилась подвинуть парням табуреты.
– Кладитя узлы-то на койку, – сказала она, как взрослая, по-казачьи напевно. – Зойка, Мотька, чего вы застыли? Рядом во дворе полешки сложены… Дворник сказывал – нам привезли. Растопочки бы сыскать. Таганчик тута нельзя: ишо пожар наделам. Как нам чай-то скипятить, чтоб дров поменьше?
Младших, Зойку с Мотькой, белобрысеньких, запуганных, и еще меньших, Яшку со Степкой, будто ветром выдуло из каморки: мальчишки побежали взять во дворе щепочек да обрывков бумаги.
– Дворника спросите, оглашенны, не то погонит взашей! – крикнула вслед Вирка, все еще не совладевшая с внезапной радостной растерянностью: пустая была утром вычищенная, вымытая ею каморка!.. А сейчас – мебель! И стоит среди чистоты вместо убежавшей оравы один трехлетний Илюша, худющий, глазастый, обеими руками держит банку, в которой что-то живое шевелится, пищит.
– Что там у тебя? – спросил Митя с чувством вины перед маленьким печальным человечком: жили почти по соседству и допустили, чтобы загнал в гроб многодетную мать пьяный самодур.
– Цыплят ему подарила бабка Зыряниха, сказала: на новоселье. Самоволкой высидела в бурьянах парунья, на зиму глядя, – ответила за малыша Вирка.
Она развязала узелок поменьше, достала стаканы, сделанные из обрезанных бутылок, две тарелки с отбитой эмалью, погнутую кружку (не жила и металлическая посуда в землянке Сивожелезова – все крушил отец!). Проведя для порядка тряпицей по столу, Вирка поставила посуду, снова оглянулась на малыша.
– Подойди к дяде Мите, покажи цыплятков.
Мальчик, сильно прихрамывая, послушно направился к парням и, приоткрыв банку, показал три желтеньких пушка с черными бусинками глаз.
– Чего он чикилять стал? – тихонько спросил Костя, расстроенный вчерашней поездкой в Изобильную и страшным скандалом у Сивожелезовых перед уходом детей.
– Ножка-то? Все тятенька, – ответила Вирка, снова вспыхнув от злости. – Пнул его весной, когда мы на шерстомойке работали, да каку-то косточку сломал.
– К доктору надо бы, в больницу, – сказал Митя, лаская ребенка, который, прислонясь к нему, разглядывал своих «цыплятков».
Вирка возразила сердито:
– Чудишь, однако! Чем платить-то? Лечил наш нахаловский рабочий Никита Мутнов. Спасибо, все ж таки поставил пацанчика на ноги (на войне-то Мутнов ротным фершалом был). – Она налила воды в банку с проволочной ручкой, ставя ее на печурку, уже растопленную Нюшкой, подумала о кривобоком чайнике, который забрал отец.
Если бы и отдавал его – не взяла: на всю жизнь запомнилось, как швырнул он им, полным кипятка, в мать, обварив ей руки и ноги. Страшнее всего показалось тогда Вирке то, что не заплакала маманя, даже не вскрикнула, а только посмотрела на детей огромными – в пол-лица глазами, и так задрожали, задергались раньше морщины возле ее рта, будто улыбнуться она хотела, да не смогла.
– Чтоб тебя громом убило, ирод! – сказала Вирка отцу, захлебываясь от обуявшего ее гнева. – Душегуб проклятый, что ты с нами делаешь?!
Рассвирепевший пьяный «душегуб» накинулся на нее сначала с кулаками, а потом схватил шашку… Не чуя под собой ног, девушка выскочила на крылечко, но убежать не успела: длинной рукой поймал ее родитель за косу и рванул к себе изо всей силы. Падая на ступени, Вирка зажмурилась под блеснувшим лезвием, а когда грохнуло мимо, взвилась стрелой и помчалась, пугаясь того, что странно легкой, вроде пустой стала ее голова. Показалось, что отрубил ей затылок папаня и летит она через двор, как обезглавленная курица. Обмирая, холодея, Вирка взялась ладонями за макушку, но не было крови, цела голова, только вместо тугой светлой косы торчали коротко обрубленные пряди волос, будто встали дыбом от ужаса.
А недели через две хоронили мать, и только Вирка да притерпевшаяся к людским бедам Зыряниха знали, какие черные кровоподтеки были на ее теле.
– Пикнешь – убью! – пригрозил Вирке папаня, а она, вся опухшая от слез, одуревшая от горя, от мысли, что теперь на одни ее плечи свалилась вся тяжесть жизни, только целовала лицо матери да трогала, прикрывала ее обваренные руки, покрытые болячками.
Если бы можно, легла бы с нею в могилу, да жалость к малышам, врываясь в сердце болью, отрезвляла сознание, приказывала: живи!
– Из какого ада вырвались, дай бог здоровья Александру Алексеичу! Порадел он о нас. Перед самым отъездом в Петроград, при таких больших хлопотах, не забыл распорядиться, чтоб отремонтировали тут, – сказала Вирка Мите. – Но кабы не вы да не работники Совета, не отпустил бы нас Сивожелезов, захлестнул бы чем попало… Ты куда, Костя? – остановила она Туранина, который вскочил с места.
– Сбегаю хлеба куплю да чаю немножко.
– И не думай! У вас самих шесть ртов дома.
– Ну и что? Все меньше, чем у тебя, а работников двое. Раз новоселье, то и мы с Митей участвуем не хуже бабки Зырянихи…
– Ездили к Фросе? – спросила Вирка Митю, едва Костя скрылся за дверью.
Митя кивнул и не сразу глухо сказал:
– Ездили. Нашли…
Вирка так и загорелась жарким любопытством:
– Как она там?
Митя только рукой махнул.
– Неужто не взял он ее за себя?
– Взял.
– Плохо живут, что ли?
– Богато живут и, похоже, дружно.
– Тогда чем ты недовольный? Чего хмуришься?
– Чего?! Маленькая разве, не понимаешь? В богатом доме живет теперь наша Фрося. Муж офицер, хоть и низшего звания. А свекор эдакий бородач-держиморда. Сразу видно – в карателях ходил. Чему тут радоваться? Об Косте говорить нечего. А мне, думаешь, легко было Коростелеву рассказывать, а после с папаней толковать?
– Все ж таки про Нахаловку-то она спрашивала? Неужто и поклона нам не послала?
– Гостинцы матери навязывала, я не взял.
Вирка развеселилась:
– Взял бы да нам отдал. Не вроде платы за невесту, а как военну дань. С врага-то можно брать? Берут всегда!
Когда Костя вернулся, Виркина орава была снова в сборе и вода в котелке кипела: хозяйственная Нюшка сообразила сунуть сначала в топочку два кирпича, и огонь горел под самой плитой.
Отрезали каждому хлеба, дали крошек и цыплятам.
– Надо за ними смотреть, а то кошка их утащит, – сказал Костя.
– Да теперь уш они вше равно не выраштут, – ответила восьмилетняя шепелявая Мотька.
И всем стало смешно, улыбнулся даже Илюша, который прилежно следил за тем, как Яшка и Степка устраивали на низеньком широком подоконнике гнездо для цыплят.
– Об этом нечего печалиться, – вздохнув, сказала Вирка. – Надо думать, как пробиться, покуда я настоящим наборщиком стану. Я уж так стараюсь, так стараюсь, чтобы ни одной буквочки не пропустить, не напутать чего. Глаза у меня востры, руки быстры, да вот грамота подкачала. В школе еще учиться надо.
– Ну и учись себе. Дома без тебя управимся, на своей-то воле, – заявила Нюшка, преданно глядя на старшую сестру. – Зойка и Мотька теперь помощницы…
– И мы поможем, – пообещал Митя, желая рассеять тревогу всегда задорной, смелой девушки.
– Я вам из Тургая баранчика пришлю, – сказал Костя, мысленно уже переселившийся в киргизские степи.
Нюшка ахнула:
– Живого?
– На что он вам, живой! Мяса пришлю.
Ребятишки притихли, представив такой богатый гостинец, а Мотька даже облизнулась. В это мгновение и раздался тяжкий удар в дверь, затем она распахнулась, и кто-то лохматый, большой, сопя и склоняясь под низким потолком, ввалился в каморку.
– А-ба! – взревел он диким голосом, растопырив жилистые руки, будто собирался задушить всех. – Чаи распиваете, а отец рыщет, как собака, голодный? Детушки родны – черт вас надавал! Целу жизню свет мне застили со своей маманей. Вирка, тварь, собирай манатки, марш домой!.. Чего смо-отришь? Ну, дерзка, последни космы вырву.
– Не вырвешь. Хватит тебе. Проваливай.
Вирка не растерялась, не опустила глаз, а стояла, гордо выпрямясь, прикрывая собою малышей.
В Нахаловке были большие нары; из-под них родитель, как людоед, выволакивал детей для избиения то за ноги, то за волосы. Но если успеешь забраться подальше – все-таки какое-то убежище, а тут спрятаться негде.
– Никуда мы с тобой не пойдем!
– Врешь – пойдешь! Отцовска воля главней ваших Советов! – злорадно изрек Сивожелезов. И, отшвырнув метнувшегося навстречу Костю, размахнулся, делясь в дочь полупустой бутылкой денатурата.
Митя, никогда не участвовавший в драках, подстегнутый криком детей, бросился на помощь Косте. Вдвоем они держали его за руки, а он, будто обрадованный возможностью побуйствовать, выкрикивал матерные слова, заполнив чистенькую каморку винным перегаром, плевался и пинался.
– Что тут происходит?! – Резкий окрик вошедшего Александра Коростелева заставил всех обернуться к двери. – Гражданин Сивожелезов, за свои безобразия вы будете задержаны и арестованы.
– Да я ничего, – неожиданно сникнув, трусливо забормотал буян. – Я вот к дочке… Вирке своей. На новоселье… Детишков-то навестить надо.
Вирка чуть не разрыдалась при виде Коростелева, только что приехавшего с вокзала, мертвенно-бледная, подошла вплотную к отцу, посмотрела в упор, дыша непримиримой ненавистью:
– Ты нам никто. Понял? И не ходи сюда больше. Не смерди! Я тебя на порог не пущу.
– Ведите его, ребята, к постовому, а я позвоню в Совет, чтобы дали ему суток двадцать для прохлаждения и раздумья.
– А я не желаю к постовому! – попытался еще покуражиться Сивожелезов.
– Тогда именем Советской власти заявляю вам: вы арестованы, и извольте подчиняться.
– Плевал я на нее!
– На кого, гражданин арестованный?
Сивожелезов нагло ухмыльнулся:
– Да вот на дочерю свою – Вирку… – И, выходя, подталкиваемый с обоих боков, бросил от двери угрожающе: – Я тебе припомню «именем Советской власти», комиссарска потаскуха!
– Что же это, Александр Алексеич?! – ломким голосом сказала Вирка. – Радости-то у нас сколько было сегодня! Вроде праздник светлый. И вот явился, наплевал в душу.
– Держись, дорогой товарищ! Самое страшное теперь у вас миновало. – Александр Коростелев взял на руки Илюшу, легонько потормошил его и поцеловал. – Все будет хорошо, ребятишки! Отличнейшим образом все наладится при нашей будущей Советской власти. – Глаза Александра сияли: он был доволен поездкой и откровенно радовался. – Такие безобразники, как ваш отец, скоро подожмут хвосты. А ты, Вира, помни всегда о том, что ты теперь в рабочий класс вошла. Наборщик газеты – это самая почетная профессия. Подумай, сколько мозолистых рук будут держать газету, набранную тобой и твоими товарищами по работе. А мы, коллектив редакции, защитим тебя от любых бед. Помогать станем, словно многодетной матери.
– У меня и правда, как у детной матери, вся забота сейчас – ребятишек вырастить, – сказала Вирка, снова воспрянув духом.
– Вырастем, раз тятенька нам мешать не станет, – пообещала Нюшка. – Испужался он Советской-то власти. Небо-ось заюлил!
Александр Коростелев посмотрел на заплаканную девочку, и его глаза тоже вдруг увлажнились слезами.








