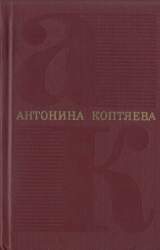
Текст книги "Собрание сочинений. Том 6. На Урале-реке : роман. По следам Ермака : очерк"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 36 страниц)
22
Четырнадцатого ноября в Караван-Сарае собрался Совет рабочих и солдатских депутатов, созванный партийным комитетом.
Заседали в большом зале, когда в окна уже смотрела черная ночь. Несмотря на поздний час, народу пришло много. Семенов-Булкин и Барановский со своими приверженцами тоже явились, надеясь разрушить единство рабочих, дружно перешедших на сторону большевиков.
– Похоже, они проведали о нашем решении создать Военно-революционный комитет и хотят сорвать заседание. Неужели рассчитывают, что и мы пойдем на поклон к Дутову? – сказал Александр Коростелев Цвиллингу. – Но как они брызнут отсюда, когда услышат наш ультиматум атаману!..
– Ты прав: сразу сбегут, когда услышат, что мы готовимся драться с ним. Страшно ведь идти на смерть…
– А тебе не страшно? – спросил Александр, заглянув в глаза Самуила.
– У нас выбора нет: уступка Дутову хуже смерти.
– В том-то и дело!..
Александр умолк, ласково улыбнулся: оживленная группа девушек занимала места в креслах. Рослая Соня Бажанова, держа под локоть Лизу, совсем тоненькую в черном, строгом жакете, что-то шептала ей на ухо. Мария Стрельникова, на ходу переговариваясь со знакомыми, пробиралась вперед и, может быть, от сознания важности момента казалась неприступно-гордой. Виринея Сивожелезова прошла между рядами сидевших депутатов, тоже заносчиво вскинув голову, но это для того, чтобы скрыть смущение, заняла свободное кресло и с преувеличенным старанием стала поправлять концы темненького полушалка.
Переглянувшись с товарищами, Александр Коростелев направился к президиуму: надо было утвердить ультиматум Дутову и первым приказом ревкома сразу взять власть в свои руки. Цвиллинг уже сидел за столом, положив рядом шлем, связанный из верблюжьей шерсти.
– Надо спешить, – сказал он Коростелеву. – Казаки могут напасть на нас в любую минуту. Открытую мобилизацию наших сил они дольше терпеть не станут.
Текст ультиматума атаману был принят с воодушевлением. Когда депутаты дружно проголосовали за создание Временно-революционного комитета, а потом за его приказ, предлагающий Дутову немедленно сдать власть, Александр вскочил с места.
– Чего ты?.. – Самуил оглядел зал, держа проект резолюции по следующему вопросу – о военной мобилизации, увидел, как заторопились к выходу Барановский и Семенов-Булкин, и насмешливо улыбнулся: – Уносят свои грязные хвосты! Доносить побежали?
– Я бы их арестовал сейчас и хотя бы до утра продержал в кутузке, – сказал Александр.
– Следовало бы, – согласился Цвиллинг. – Но вроде неудобно с этого начинать. Все равно завтра предъявим ультиматум и приказ ревкома.
– Ультиматум силен неожиданностью. Да еще и дожить надо до завтра…
– Чего ты волнуешься? – Андриан Левашов с чувством торжества, как и многие в зале, посмотрел вслед уходившим соглашателям. – Теперь наша взяла.
– Вы беспечны, словно дети!.. – Коростелев покачал головой и передал ему проект резолюции о мобилизации красногвардейцев. – Зачитывай!
Послушав, как энергично зазвучало в зале решительное слово ревкома, он подумал: «Ход истории сам диктует тактику своим движущим силам. В конце-то концов черт с ними, с этими подонками!»
Долго гремели аплодисменты. Рабочие и солдаты не жалели ладоней, довольные тем, что наступило время переходить к настоящему делу. Но за окнами вдруг послышался топот скачущих конников.
– Нас окружают казаки! Не меньше сотни! И школа прапорщиков! – крикнул, вбегая в зал, Харитон Наследов. – С винтовками, с клинками! А у нас? Только вот!.. – Он протянул к столу президиума тяжелые пустые руки. – Ну хоть бы берданки разрешили прихватить! Хоть бы дробью полоснуть гадов!..
У входа уже началась свалка: вооруженные казаки, отбрасывая рабочих, стоявших на страже, врывались в зал.
– Вот этого я тоже боялся!.. – почти спокойно сказал Цвиллинг, натягивая свой шлем и рассовывая по карманам бумаги из папки.
23
Депутатов вытеснили в полуосвещенный уличным фонарем двор Караван-Сарая. Метавшаяся из стороны в сторону, но не впавшая в панику толпа, выдерживая наскоки вооруженных дутовцев, плотно сбивалась, пряча вожаков. Тогда началась расправа: казаки стали избивать нагайками депутатов, выхваченных наугад, угрожая расстрелом. Чтобы прекратить эти истязания, Александр Коростелев, Цвиллинг и член Совета Мария Макарова сами вышли вперед.
Подсвечивая себе фонариками, казаки обыскали их. Найдя в кармане Цвиллинга приказ о назначении его комиссаром, они ударили его рукояткой револьвера по голове, потом стали бить куда попало, а войдя в раж, принялись избивать всех подряд.
Когда под нагайкой упала Макарова, Коростелев кинулся в защиту, как хаживал раньше в кулачные бои, и сразу потеснил нескольких казаков, но два дюжих бородача повисли на нем, точно волкодавы, третий взялся охаживать его нагайкой.
Рабочие старались держаться теснее, чтобы не дать затоптать лошадьми тех, кого сбивали с ног. Так казаки и вытолкали всех слитной толпой со двора Караван-Сарая, а там, выстроив по четыре в ряд, погнали по Николаевской улице, едва освещенной фонарями. По бокам – конвойные казаки с шашками наголо, офицеры с револьверами, чуть поодаль – верховые, а позади, на автомобиле, пулемет.
Холодный ветер бросал мерзлой крупой в разгоряченные лица, лаяли за высокими заборами охрипшие от злости собаки, и голоса конвойных звучали дико, хрипло. С Николаевской повернули на Неплюевскую и повели всех к дому хозяйственного управления Оренбургского казачьего войска, с большим залом на втором этаже.
«Девчат наших не видно. Значит, убежали… Неужели и Лизу били эти мерзавцы? – думал Александр, в темноте и суматохе потерявший сестру из виду. – Вот опять им с мамой тяжелые переживания!..»
– Я все жалею, что мы упустили с собрания Барановского и Семенова-Булкина, – сказал он Цвиллингу, шедшему в соседнем ряду. – Продержались бы денек, тогда сила была бы на нашей стороне.
– Ма-алчать!.. – Казак, покачивавшийся в седле с краю колонны, угрожающе взмахнул нагайкой. – Горячих захотелось?..
…А Лиза Коростелева и Соня Бажанова бежали в это время домой мимо наглухо закрытых ставнями окон в домишках предместья. Шавки и барбосы бесновались у подворотен, заслышав дробный стук каблучков.
– Сашу-то опять в тюрьму… – говорила запыхавшаяся Лиза. – Мучить ведь будут… Хорошо, Георгий успел уехать в Сибирь от губпродкома, а то с его больным сердцем… и мама… какой удар для нее!
– Не один Александр Алексеевич… – сказала Соня, чтобы успокоить подругу. И сама ужаснулась: – Все погибло!..
– Дело революции не погибнет! – с горячностью возразила Лиза. – Есть Петроград! Ленин! И мы!..
Соня подхватила ее под руку.
– Я понимаю…
Мать, Наталья Кондратьевна, заслыша стук в дверь, открыла сразу: видно, ждала, томясь беспокойством. По звуку шагов, по прерывистому дыханию девчат поняла: опять стряслась беда. Но спросить на могла: удушье сжало горло. Только смотрела широко раскрытыми глазами, полными горестной тревоги.
«Догадалась!..» – мелькнуло у Лизы, и она сказала с деланной беспечностью:
– Всех наших заграбастали! Так и повели целой толпой.
– Били?
– Нет, что ты! – Лиза поймала взгляд матери, устремленный на порванную жакетку Софьи, прикрыла рукой горящий след нагайки на своей шее, будто поправляла косу. – Это мы в саду… Об кусты, когда убегали от казаков…
– А Саша?
– Сашу увели… – И, сразу представив себе смертельную опасность, угрожавшую брату и его товарищам, Лиза обняла мать и заплакала.
Короткая передышка кончилась, и снова надо отчаянно бороться за лучшее. Мать была первым товарищем детей в этой жестокой борьбе. Никогда ни одного упрека не бросила она им за беспокойную долю, за трудную старость, и Лиза, вытерев слезы, нежно потерлась щекой о ее плечо, обтянутое бумазейной кофтой, прислушалась, как сильно билось ее растревоженное сердце.
Пока оно бьется рядом, любое горе можно перенести.
Соня, прислонясь к косяку двери, молча смотрела на Коростелевых, которые были для нее ближе всякой родни.
В квартире тихо, только тикали на кухне часы-ходики. Пахло свежеиспеченным хлебом, щами и картошкой, томленной в печи.
Может, обойдется по-доброму?
Грохот лошадиных подков и бешеный стук в дверь вспугнули женщин. Бросившись к окнам, они увидели: дом окружили конные казаки. Наталья Кондратьевна, отстранив девчат, открыла дверь сама, и сразу ввалились бородачи в папахах, грубо затопали по тесным комнаткам, перевертывая все вверх дном: искали Георгия. Пока шел этот погром, мать успела собрать для Лизы узелок с едой: мягкий калач, бутылку молока, шаньги с картошкой.
– Узнай, как там Саша? Да пишите, пишите мне хоть изредка!
Соню казаки не взяли…
Утром начальник милиции – меньшевик Гомпашидзе, – увидев Лизу среди арестованных, удивленно поднял чернущие брови: он принял ее перед этим на службу в канцелярию уголовного отдела.
– Вы зачем здесь?
– Ночью забрали.
– Идите домой. Мы своих не преследуем.
– Я хочу узнать, что с братом. Александр Алексеевич Коростелев мой брат.
– Ай-яй-яй!.. Такая миленькая девушка – и такой брат! Не думал, не предполагал!
– Куда его поместили? Надолго ли? Я должна о нем хлопотать.
– Пусть сам сатана о нем хлопочет. Вам с ним общаться нельзя: он политический преступник. Надо порвать с ним. Иначе мы доверять вам не будем.
– Я не могу оставить брата в беде.
Гомпашидзе нетерпеливо поморщился, с досадой стукнул по барьеру кулаком, туго обтянутым перчаткой:
– Неразумная девушка! С должности увольняю. Хочешь помочь ему, иди к полковнику Дутову, вот с ними вместе. – Он кивнул сизовыбритым подбородком на женщин, теснившихся за барьером. – Одного поля ягодки.
24
Небольшую открытую машину, которую женщины выпросили в губпродкоме, подбрасывало на застывших ухабах дороги. Непривычная к такому способу передвижения Лиза держалась обеими руками за облупленный борт, отворачиваясь от резкого ветра, думала о братьях и матери, о разговоре с Дутовым.
Он принял просительниц неожиданно быстро, коротко поговорил, прямо ответил на вопросы об арестованных:
– Ваши в Сакмарской.
Разрешил передачу и выпроводил, холодно кивнув на выход крупной большелобой головой. Запомнились его серые выпуклые глаза, короткая шея и крепко поджатые губы.
– Настоящий бугай! – сказала сердито одна из женщин, выйдя за дверь.
– Молчи-ка! Спасибо, разрешил свидание, – испуганно оглядываясь, одернула ее другая, постарше.
А Лизе показалось, что быстрый доступ к атаману, и сухая деловитость его, и разрешение это – все от уверенности в успехе, от желания показать свою силу.
«Пожалуй, нам правда нелегко будет справиться с ним! И почему он отправил наших в Сакмарскую? Неужели хочет, чтобы казаки растерзали их самосудом? Там же все богатеи, да еще старой веры держатся. А других большевиков в такие же станицы по Уралу?..»
Потрепанный «форд» шел по безлюдной осенней степи, пересчитывал бревна на тряском мосту через Сакмару у села Татарская Каргала, катился по лесистой сакмарской пойме. И вот показались добротные дома на широких улицах, белые стаи гусей во дворах, цепные собаки за частоколами и плетнями. Зажиточно, неприступно жили казаки Сакмарской станицы.
Неприветливо глянули на приезжих бородатые старики, сидевшие на лавках вдоль стен в станичном правлении.
– Чево вам? – Узнав, злобно оскалились, завозились, точно лохматые псы: – Большевички!.. Носит вас!.. Комиссарши советски! Прижали вам хвосты, а туда же, на автонабиле раскатывают. Спихнуть бы с моста в Сакмару с вонючей этой коляской…
Однако бумагу Дутова станичники приняли с уважением, долго рассматривали, задевая бородами, – почти все были неграмотные. Прочитал ее вслух писарь. Старики пошушукались, вызвали двух молодых казаков и наказали проводить женщин в кутузку к арестованным.
– Нужно добиться, чтобы нас перевели в городскую тюрьму, – говорил Лизе обрадованный Александр, согревая ее озябшие руки в своих ладонях. – Дутовцы (и меньшевики, конечно!) рассчитывают на то, что нас тут убьют. И могла быть сразу самочинная расправа. У-у, как нас приняли! Сбежалась вся станица, бабы и те с дрючками, а одна православная старуха икону притащила!.. Лезет вперед, вопит: «Глядите, у них хвосты и рога! Антихристово племя!» Спасибо, рассмешила народ. Сначала-то все шарахнулись. Вот дикость, вот темнота! А живут богато, настоящие помещики.
– Ну какие они помещики! – Лизу поразили кудлатые старики в станичном правлении, то, как беспомощно они вертели в заскорузлых руках приказ Дутова. – Просто оседлые скотоводы.
– Ишь ты, экономистка! Ну, давайте попьем чайку со всей компанией. Отдохнете, согреетесь.
Сложенный из дикого камня амбар, где сидели большевики, стоял во дворе возле высокого, как в остроге, частокола. В маленькое оконце виднелись большой пятистенный под железом дом и копны сена, наметанные на крышах скотных базов.
Выйдя раньше других, Лиза увидела у коновязи пару лошадей, запряженных в рессорный тарантас, и красавицу казачку в нарядной шубе и белом пуховом платке, стоявшую в повозке. Собака, бесновавшаяся на цепи у амбара, исчезла, но где-то близко за плетнями слышалось ее грозное рычание. Что-то знакомое померещилось Лизе в лице степнячки. Всмотрелась и, ахнув, торопливо пошла к ней.
– Наследова? Фрося?
Фрося вздрогнула, спрыгнула с повозки, порывисто шагнула навстречу, залившись алым румянцем.
– Лизавета Алексеевна!
– Ну зачем так?.. Зови меня просто по фамилии. Это ты совсем другая стала, а я все та же.
– Не попрекайте меня! Не ради богатства польстилась я на замужество.
– Любовь? – строго спросила Лиза.
Глаза Фроси еще ярче заблестели, еще сильнее зарделись щеки, но только вздохнула легонько: видно, стеснило грудь волнение.
– Значит, счастлива?
– Почти.
– Чего же не хватает?
– Со своими помириться хочу. С маманей, братьями.
– Братья у тебя стоящие люди, – уважительно сказала Лиза. – Но с казаками нам сейчас не по пути: они с Дутовым против Ленина и рабочих пошли…
– А при чем тут я?
– Ты?.. Выбирать тебе, наверно, не придется, выбрала уже.
– Нестор не пойдет против рабочих, – шепнула Фрося и обернулась: из ворот база выплыла вторая невестка Шеломинцевых – Аглаида в богатой шубе, из-под которой выпирал, колыхаясь на ходу, целый ворох сбористых юбок. Кашемировая шаль, подбулавленная под жирным подбородком, туго обтягивала щекастое улыбчивое лицо.
– Сичас работники Верного на нову цепь посодют. Чуток своих не разорвал, проклит. Редко бывам у моих папани с маманей, вот он и отвык. Мишаню, поди-ка, вовсе бы не признал. А ты чаво тут с комиссаршей бобы разводишь? – насмешливо спросила она Фросю. – Они на машине прикатили к своим арестованным. – Подошла к Лизе, уперев руки в боки, пышная, большая, румянощекая, оглядела ее победоносно: – Чаво вы с нами боритесь? У нас пушки да полки конны, а у вас, рабочих, одни штаны драны, и жрать вам нечего.
– Не надо так! – попросила Фрося, заливаясь снова жгучим румянцем, но уже от стыда за грубость старшей снохи, которую Нестор нарочно сразу завез из Оренбурга погостить к родителям, чтобы без помехи заглянуть потом в Нахаловку. – Разве рабочие виноваты в том, что им есть нечего?
– Пили бы поменьше! – бросила Аглаида.
– У нас никто не пьет, – с досадой ответила Фрося.
– Ну и того хуже, коли ни пожрать, ни выпить… Ты не заступайся за свою бузотерску родню! Погостили бы у моих в Сакмарской. Все равно твои братья вас с Нестором опять турнут, хотя этак-то лучше будет: по крайности, перестанешь, как волчонок кормленый, в лес глядеть.
25
Когда машина снова завиляла по улице села, Лиза оглянулась на двор родителей Аглаиды, где дюжий работник распрягал взмыленных лошадей. Суетились у тарантаса женщины, доставая узлы и свертки, передавали с рук на руки, как сноп, укутанного в одеяло горланящего малыша. Появился откуда-то красавец хорунжий, зашагал к дому рядом с Фросей, прильнувшей к его плечу. Это невольно задело сердце Лизы, и она на миг оправдала дочь Наследова: сразу видно, как счастливы молодые!
Но наивные слова Фроси о казачьем атамане вызывали досаду.
«При чем здесь я?» Вот здорово!.. Братья – революционеры, отец хоть и прихрамывал за эсерами, но тоже настоящий пролетарий, а она будто с другой планеты свалилась. Кем ей теперь доводится эта толстомордая? «У нас пушки! У нас полки конны!» Надо же!..
Подростки-казачата, подкараулив машину на выезде из станицы, стали бросать в нее камни. Одной женщине пробили голову. Бывалый шофер прибавил скорость и остановился только в пойме, когда крыши Сакмарской скрылись за чащами голых белокорых осокорей с пепельно-русыми верхушками. Все понимали, что возвращаться и жаловаться бессмысленно. Глядя, как Лиза перевязывала раненую женщину разодранными платками, шофер сердито сказал:
– Казачье, точно крысы, осатанели бы, кабы эту кровь увидели. Набросились бы на нас – терзать. А что вы думаете?.. Крысы – самые хищные животные. Летом мы видели на фронте, как они через окопы перли с германской голодной стороны – вся земля кругом шевелилась, кошек, собак моментально сжирали. Лошадь была привязана, и ту слупили.
Лиза, хлопоча возле раненой, вспомнила ночь ареста в Караван-Сарае, когда казаки избивали всех подряд. Тогда в темном дворе, тесном от многолюдства, они походили не на крыс, а на волков. И теперь мысли о Фросе, сияющими глазами смотревшей на своего мужа, одетого в форму казачьего офицера, вызывали у Лизы только жаркое негодование: Подумаешь, любовь! Будто нельзя было взять себя в руки! Правильно сделают Наследовы, если не пойдут на мировую…
В Оренбурге, едва въехали в пригород, сразу узнали, что объявлена всеобщая забастовка. Напуганные лица обывателей, торопливо шнырявших по улицам, усиленные казачьи разъезды, разгонявшие толпы рабочих, собиравшихся в группы, – все наполнило Лизу тревожным и гордым предчувствием бури. «Свободу нашим братьям рабочим!», «Позор атаману Дутову!», «Всеобщая забастовка – ответ палачам!» – грозно заявляли броские надписи, выведенные на стенах и на заборах.
– Видно, товарищи не дремали! – говорил шофер, одобрительно посматривая по сторонам. – Вот смелость!.. Смотри ты: пекари и колбасники тоже забастовали? А что господа будут кушать?
Дома Лизу ждала тревожная радость: вернулся Георгий. Обнимая брата, она с трудом удержалась от слез после пережитых волнений.
– Значит, уволили тебя за неблагонадежность? – полушутя спросил Георгий и добавил уже серьезно: – Ничего, сестренка, сейчас весь рабочий класс Оренбурга сам увольняется.
– Чем жить-то будем? – сокрушенно, но покорно сказала мать.
– Ничего. У многих дома – шаром покати, и детишки малые, а смотри, как дружно забастовали! Завтра идем к Дутову с ультиматумом. Первое: выпустить наших из-под ареста.
– Саша сказал: надо требовать, чтобы их немедленно перевели в городскую тюрьму. – Лиза прильнула к голландке, греясь после злого ноябрьского ветра. – Их нарочно рассовали по разным станицам: надеялись, что казаки сами учинят суд и расправу. Ну и злоба там против рабочих!.. Даже мальчишки…
– Наши мальчишки тоже маху не дадут. – Георгий улыбнулся, и его смугловатое лицо выразило застенчивую доброту, выдававшую всякий раз, когда он говорил о детях, скрытую тоску по семейной жизни. – Только что у меня связные были из Нахаловки: Ефима Наследова сынишка, Павлик, со своим дружком. Такие самострелы сделали себе – держись! Ежели драка будет, разве их удержишь?
26
– Вот как обернулось! – Нестор остановил лошадей, озадаченно посмотрел на Фросю, поправил на ней, словно на маленькой, завернувшийся край шали.
Она и выглядела подростком: так посвежело на степном раздолье смуглое ее лицо, оттененное белым пуховым платком.
И хотя обстановка в Оренбурге складывалась трудная, проходившие мимо «кавалеры» с веселым любопытством рассматривали молодушку Шеломинцева. Военные крутили усы, звякали шпорами, иные, поразвязнее, подкашливали. Но ни Фросе, ни озабоченному Нестору не было дело до этих лестных, а то и оскорбительных знаков внимания.
– Ну сама посуди, как мы теперь явимся в Нахаловку? Да нас там булыжниками закидают! – Нестору снова вспомнился разговор в землянке Наследовых. – Твои родители меня в прошлый раз чуть на кулаках не вынесли, не мог же я против них оружием обороняться!.. А сейчас вовсе гиблый момент…
– В такую даль ехали!.. – В голосе Фроси жалоба, на глазах – слезы.
– Я думал: приедем, когда мать с дедом будут одни. А тут забастовка. Значит, все дома.
Фрося молча склонила голову – слезы брызнули в белый пух шали. Она столько готовилась! Напекли с Харитиной сдобных лепешек, в сумах кругло сжатые комки желтого масла, битые утки, даже поросенок жареный… И вдруг она засмеялась:
– Ты думаешь, когда бастуют, дома сидят? – Лицо ее озарилось почти вдохновением. – Во время забастовки – митинги. Пикеты ставят у заводских ворот… Нестор, миленький, ну ведь не убьют нас!..
Не чувствуя за собой вины, Нестор только говорил, что забросают булыжниками, в глубине души в эту возможность не верил. С какой стати?! Другое дело, что родные Фроси недовольны ее уходом.
Был у них, оказывается, свой рабочий парень на примете – Костя Туранин… Чутко-ревнивый Нестор, поймав однажды Фросю на слове, сразу уверил и себя и ее, что в этом-то и заключалась сущность домашнего конфликта. Иначе отчего так взъярились Наследовы против него, сына зажиточных, уважаемых родителей?
Унижаться еще раз ему, конечно, не хотелось. Не зря он постарался (хотя и не по пути было) избавиться от такого ехидного соглядатая, как Аглаида. Но все равно не пошел бы он сам в Нахаловку. Чего эти рабочие ершатся, зачем прут на рожон? Ведь с голоду сдохнут без работы, а вот, поди ж ты, объявили забастовку, требования войсковому атаману предъявили. Дескать, наших не тронь. Но атамана забастовкой вряд ли испугаешь!
– Заедем? – упрашивала Фрося, ласково заглядывая в лицо мужа. – Чего нам бояться, ведь не маленькие, не подневольные. Если что… повернемся да ходу!
– Ну ладно. Только, чур, не плакать, если выволочку дадут! – Нестор поправил упряжь, сел в тарантас, разобрав вожжи, притянул к себе обрадованную Фросю. – Гляди, Шеломинчиха, не поддавайся ни на окрики, ни на улещивания. Вздумаешь остаться – и тебя и себя жизни решу.
– Тьфу тебе, глупый! Разве можно такими словами шутить?
– Шутя люди мед пьют. Живем шутя, а помираем взаправду.
– Не надо о страшном… – Фрося просунула руку под локоть Нестора, изо всех сил тряхнула его, но он только усмехнулся, кося на нее из-под чуба повеселевшим глазом.
В Нахаловке было многолюдно, несмотря на будний день. По ухабистым улицам, припорошенным снежком, то и дело проскакивали разъезды казаков, обдавая нахаловцев горячим дыханием лошадей и ошметками мерзлой земли.
Повозка пересчитывала уличные колдобины, Фрося смотрела по сторонам, и сердце ее тоже прыгало по каким-то своим ухабам. Сколько времени не была она в Нахаловке? Пять месяцев или целую вечность?
Вот здесь она с Лешкой наскочила ночью на бывшего жандарма Хлуденева. У этой землянки играла с подружками. По той улочке бегала с Виркой в пойму Сакмары за цветущим жимолозником – убрать землянки к троицыну дню. А здесь… Все прошлое, словно перечеркнутое встречей с Нестором, вдруг ожило… Потом она заметила отчужденные взгляды непривычно праздных рабочих и женщин, сразу умолкавших при виде богатого выезда. Булыжниками кидаться никто не собирался, но смотрели сурово, даже с ненавистью, на отличную повозку, запряженную парой выхоленных лошадей, с бравым кучером – казачьим офицером и на нее – бывшую босоногую девчонку, не ко времени, не к месту нарядную и оживленную.
Лица все были строгие, с впалыми щеками и глазами, окруженными въевшейся копотью. Не цвела улица пестрыми полушалками, низко над землей лежали кровли жилья, поросшие мхом да щетинистой бурой полынью. И Фрося вдруг заробела: как-то примут ее с Нестором дома, может, и на порог не пустят? Шутка сказать, общая забастовка! Значит, решили с голоду умереть, но настоять на своем: освободить из тюрьмы товарищей. Снова, опаляя тревогой, возникла мысль, что, может быть, и из родных кто-нибудь сидит в атаманском застенке. Вон они какие ершистые: отец, братья (Харитон особенно!), Туранины, Левашов, рабочие Хлуденевы и муж беленькой Зины – Заварухин. Сидят они, наверное, за решеткой, и порют их там розгами, оттого и лица у встречных темные, как у святых на иконах.
От таких мыслей Фрося совсем сникла. Но вот завиднелась землянка родителей с новыми окнами, с гладко умазанной земляной крышей, и Нестор, от напряжения и неловкости заносчивый с виду, круто осадил лошадей у ворот, сколоченных из тонких тесинок.
Заслышав шум экипажа, выглянул из сеней сам Ефим Наследов и словно пристыл на порожке. Сутулясь под низкой притолокой, он молча сверлил светлыми глазами бледное лицо дочери, подходившей к нему неровной от волнения походкой.
– Папаня! – вскрикнула Фрося и, не выдержав холодности встречи, точно вихрем подхваченная, с плачем бросилась перед ним на колени.
Нестор нехотя подошел к Наследову и тоже опустился рядом с Фросей, приневоленный ее бурным порывом.
– Папанька, чего они просят? Кто это? – изумленно спросил вывернувшийся из-под руки отца Пашка, веснушчатый, с торчащими рыжими вихрами, но догадался, смутился и от неожиданности заорал во все горло: – Мамань, Харитоша, дедушка, гляньте: Фрося!..
– Брось ты!.. – отогнал его Ефим и, сутулясь сильнее обычного, вышагнул из сеней: – Зачем пожаловали?
– Прощенья просить… Маманьку… – задыхаясь от рыданий, заговорила Фрося.
– Я не поп. Грехи не отпускаю.
Нестор глянул снизу смело, даже дерзко.
– Какие же у нас грехи? Мы перед богом и людьми муж да жена, честно обвенчанные. Фрося вам кланяется, чтобы до матери допустили – повидаться.
– Так чего же вы передо мной, ровно перед архиереем, по земле елозите? – спокойно, но потому и жестко спросил Ефим. – Я не киргизский бай, жену за занавеской не прячу. Пусть повидаются.
– А вы, папаня, с нами и поговорить не хотите? – Фрося медленно поднялась, вытерла ладонью заплаканное лицо.
– Об чем нам разговаривать?! Мы теперь люди вовсе чужие, можно сказать, из разных лагерей.
– Вовремя, гостеньки дорогие! – поддал жару Харитон, вразвалочку вышедший из сеней.
Он стал возле отца, вольно развернув мощные плечи, сунул кулаки в бока, задиристый, непреклонный. На широком лице кровоподтеки и ссадины, один глаз заплыл синей опухолью – еле светится из щелочки.
Дед Арефий протолкнулся вперед, расцвел в детской улыбке, но улыбку как сдунуло при виде Нестора. Неловко замявшись, подался старый обратно в сени.
Фрося растерянно вскрикнула:
– Харитоша!.. Дедушка!..
Мать выбежала, на ходу поправляя завязки чистого фартука, густые пряди рыжих волос упрямо вылезали из-под наспех повязанного нового ситцевого платка, взглянула на застопоривших у двери мужчин, на дочку, такую нарядную среди крохотного бедного дворика.
На миг будто обожгло испугом: на какие деньги смогла приобрести Фрося белую пуховую шаль с кружевной каймой, кто ей купил богатую шубу, крытую тонким сукном, отороченную дорогим мехом? Да и вся шуба, сразу видно, не на рыбьем меху! А сама-то Фросенька еще лучше стала: выровнялась, расцвела, знать, в холе живет!
И зачем тут оказался молодой казачий офицер, оттесненный от столпившейся семьи широко растопыренными локтями Харитона? Однако по тому, как он тянулся к Фросе преданным взглядом, по колечку, блестевшему на ее руке, Наследиха сразу поняла: зять это.
«Значит, не ради утешенья говорили мне ребята, что Фрося за богатого казака вышла. И с виду молодец хоть куда…»
Гордость ворохнулась было в материнском сердце, подтолкнула к беглянке, но, снова взглянув на враждебно холодные лица своих домочадцев, Наследиха подумала о Мите. Лежал милый сын, после казачьего налета, почернев, захлебываясь кровью, со следами конских подков на окровавленной разодранной рубахе. Словно щенка растоптали, и ни с кого спросу нет!
Протянутые было руки опустились, и уже с острой неприязнью мать посмотрела на сытых лошадей в добротной повозке, пряча глаза от Фроси, сказала сдержанно, сухо, даже жестко:
– Что ж ты? Пропала вовсе…
– Маманя! – Фрося с мольбой придвинулась к матери. – Не пропащая я. Вот, с мужем приехали. Все по закону выполнили, маманя!
– Господи, да разве о том разговор? Только нету нам радости от твоего замужества. Какая же это родня, когда они, станичники твои, наших смертным боем бьют? Лучше бы ты в подоле принесла… Мы бы тебя, по крайности, жалели.
Наследиха закрыла лицо фартуком, словно горячий чугун ухватила, и не то застонала, не то зарычала от нестерпимой душевной боли.
Фрося ошеломленно слушала мать: какие страшные слова говорит!
– Митя-то лежит, кровью плюется. – Пашка, точно затравленный волчок, сверкнул глазами на сестру и Нестора. – Помяли его ваши лампасники… Эх, ты-ы, променяла нас на жирный кусок!
– Не смеешь так со мной! Мал еще, – тоже ожесточись, крикнула Фрося и опять заплакала. – Почему Митю-то?.. Он лучше всех! Он самый добрый…
– За то и искалечили его казаки. Хуже зверья накинулись на рабочих, когда разгоняли собранье… Лежачих лошадьми топтали, – сказал отец, не повышая тона, но такое прозвучало в его голосе, что Нестор, еще не опомнившийся от оскорбления, вздрогнул, увидев глубину пропасти между собой и этими людьми, и впервые устыдился своего казачьего звания.
«Чего наши все лезут в чужие дела! Себе воли требуем, а других в бараний рог гнем!»
Фрося, потрясенная семейным горем, кинулась к повозке, выдернула баул с гостинцами и, потеснив родных, направилась в землянку.
– Это еще зачем? Кому привезла? – зло спросил Харитон, загораживая ей путь.
– Мите. Его нельзя сейчас морить голодом. Плохо, когда кровь горлом… Ведь не мы с Нестором виноваты. Почему вы нас так встречаете? Меня его родные, хоть и богачи, по-людски приняли.
– Они тебя, донюшка, как перебежчицу взяли, а ты и поверила… – скорбно отозвался из сеней дед Арефий.
А Харитон грубо вырвал из ее рук тяжелый баул и разом вытряхнул все, что в нем было, за ограду.
– Не нужны нам ваши подачки! – мрачно проговорил он, глядя, как покатились желтые комки масла, тяжело шлепнулись потрошеные утки, мешок с кокурками и в развернувшейся бумаге настоящее чудо – зажаренный поросенок.
Раскрыв рот, Пашка смотрел ошалело на выкинутые богатства. Мосластый, заморенный пес вывернулся неизвестно откуда на своих широко раскоряченных лапах, схватил поросенка вместе с промасленной бумагой.
– Ах ты!.. – крикнул мальчик, кинувшись вслед, но спохватился, смущенно сказал: – К кирпичным ямам потащил. Бездомовый…
27
Словно чем-то отравленный ходил в эти дни Ефим Наследов, прислушивался к хриплому дыханию Мити, поправлял немудрящие подушки под его головой, вытирал кровь, сочившуюся тонкими струйками изо рта при каждом движении, а то подолгу стоял во дворе, на холодном ветру, глядя в мутное ночное небо.








