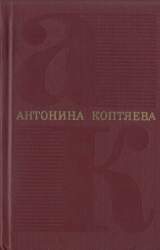
Текст книги "Собрание сочинений. Том 6. На Урале-реке : роман. По следам Ермака : очерк"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 36 страниц)
– Отлично! – сказал Кичигин. – Сегодня же приступим к созданию агитбригады.
– Новоселье справили? – спросил Ефима Наследова Коростелев. – Как землянка? Построили?
– Ну-у, настоящий дворец получился! Не хуже того, что был у Пугача в Бердах.
– Жалко, что Первомай у нас сорвался из-за пожара в Форштадте, – сказал Котов. – Казаки себе не землянки, новые дома мигом отстроят. Чего им сочувствовать? Надо бы показать буржуям единство рабочих, пускай они не мечтают о реставрации, а то царские портреты висят кое-где по-прежнему!
– Ничего, скоро все почувствуют нашу силу, – ответил Георгий Коростелев, уже составлявший для своей бригады список агитаторов. – Семеновы-Булкины сегодня корчились, как береста на огне, а то ли еще будет!
25
Землянка, конечно, мало похожа на дворец, но тогда, в первое утро своего появления, она так приветливо глянула на строителей, что они обрадовались, словно дети.
Илья Заварухин большими шагами обошел вокруг низкого, обмазанного глиной жилья, над двускатной крышей которого победно торчала желто-красная кирпичная труба.
– Семь аршин на девять! Потрудились на славу!
Не было еще потолка, не вынута земля внутри и не выровнен пол, но заранее приобретенные рамы со стеклами закреплены в просветах окон, и дверь прислонена к проему без порога и косяков. Участок, самовольно занятый под постройку, огорожен врытыми столбами с привязанными плетешками, а где и просто голыми жердями.
Яма, в которой сложена печь, оказалась почти на середине будущей землянки.
– Вот и отлично! – сказал Левашов, потеребливая вымазанные глиной усы. – Теперь тут, когда будете выемку грунта делать, можно земляные подушки оставить, чтобы доски для нар настлать.
Дедушка Арефий и Наследиха не согласились:
– Больно-то нужно! Летом – сырость, зимой промерзать будут. Потихоньку выберем всю землю. После саманны стены сложим, потолок настелем.
Ефим Наследов весело похаживал вокруг, что-то подправлял, подтыкал, уже без опаски вколачивал гвозди.
– Живет баба за барином! Теперь тут можно городить что угодно.
Федор Туранин крепко сжал локоть Ефима:
– Гляди у меня, домовладелец, не забывай рабочую дружбу, не то приду и, как медведь, раздавлю твой теремок.
Фрося оживленно хлопотала на новоселье, вытрясала одежонку, постели, помогала матери вносить и размещать домашний скарб.
– Радуешься? – спросил дед Арефий. – Добро, внученька, и я рад: все-таки в своем углу помирать спокойней.
– Типун вам, батя, – посулила Наследиха. – Выстроили, чтобы жить. Теперь надо прибраться да по обету свечу божьей матери-заступнице поставить в соборе. Доделки разные – это успеется.
Явился после утренних гудков Игнат Хлуденев с другими милицейскими.
Он тоже обошел вокруг землянки, для чего-то постучал по крыше, спускавшейся краями до его пояса, обтер с кулака приставшую глину, испытал прочность изгороди и осуждающе покачал головой, увенчанной форменной фуражкой:
– Вы бы еще половину улицы захватили!
– Нам и тута не тесно будет, – бойко отозвалась Наследиха, победоносно сияя рыжими прядями, вылезшими из-под тесного будничного волосника.
– «Тута»! – Бывший жандарм презрительно сплюнул себе под ноги. – Городская земля каких денег стоит, а вы нахалом… Да еще плачетесь: угнетают вас, иксплотируют!
– Самый Иуда Искариот, – убежденно молвил дедушка Арефий, глядя ему вслед выцветшими, но непотухшими глазами. – Сколько шкур спустили с нас жандармы да казаки!
Он взглянул на Фросю, усердно чистившую возле плетешка самовар, и, захваченный нахлынувшими воспоминаниями, продолжал раздумчиво:
– Лет этак полсотни назад у нас каждое утро людей через строй гоняли. Без того день в городе не зачинался, и никто уж вниманья на эти казни не обращал. Вроде утренней разминки обыденно драли. Стоят этак на плацу Форштадтском либо на площади от Водяных до Чернореченских ворот две шеренги солдат с прутьями, а промежду ними, будто по зеленой улице, волокут человека с голой спиной, распятого на чем придется. Попервоначалу-то он ногами шагает, с боков только распорку держат, а после волоком тащат, сердешного. А с обеих сторон ему отвешивают, только кровь брызжет да лохмотья мяса летят. Бывало, иные, перекрестясь, на эту дорожку сами твердо ступали, но чтобы до конца дойти… Нет! Ежели еще назначат тыщу шпицрутов, кой-кто доходил. А как три тыщи – каюк! Я тогда в военном лазарете санитаром работал и насмотрелся всячины. Раз казачьему уряднику так шкуру спустили, что врач лазарета сожаленье возымел: самовольно допустил к нему ручного медведя кровь лизать. Зверь смирный, сытый, дескать, раны вычистит, а заодно и занозы вынет. Да куда – к утру помер казачок.
Фрося сидела на корточках, обернув вокруг колен широкий подол, опустив руки в грязно-зеленых разводах от дрожжевой закваски с золой, соболезнующе морща юное личико, смотрела на деда:
– Кто же бил-то, дедушка… если казачьего урядника?..
– Солдаты били. Известное дело: любой дури подчинена солдатская головушка! Наши губернаторы страх охочи были народ пороть. В мое молодое время в Оренбургской губернии, поди-ка, всех перепороли. Только что дворянство неприкосновенность имело.
– А казаки?
– Пороли и казаков. У губернаторов это запросто. Казаки для них – те же мужики. Они ведь в моду вошли, только когда всякие усмиренья понадобились. Тогда-то они для нас, рабочих, в такое преткновенье и обратились. – Дед Арефий подкатил поближе чурбак от кучи дров, присел, кряхтя, вытянул ноги и начал сворачивать цигарку. – Казаков сильно пороли, когда на новые укрепленные линии переселяли, на Илек да в киргизские степи. Не хотели они уходить от своих обжитых куреней по Уралу. За упорство против церкви тем, которые раскола придерживались, крепко перепадало. Опять же – это уж не на моей памяти, а раньше, при губернаторе Перовском, пороли казаков за отказ от запашек для общества. Теперь у них засыпка хлеба в общественный анбар на черный день как закон. А тогда бунтовали. Ну им и вкладывали. Самая внятная агитация! И еще шибко мужиков пороли под Челябинском.
– А тех за что?
– Счас скажу. Только принеси мне сперва, лапушка, уголек прикурить. Мать, должно, таганок еще не погасила.
Арефий, прищурясь, с видом знатока полюбовался трубой, мощной даже для такой большой землянки. Чуточный, почти бесцветный дымок дрожал над нею в голубом безветрии, значит, таганок на шестке горел потихоньку.
– Слава те, господи, чудо какое сотворили! – пробормотал старик, перекрестясь на трубу и совсем не удивляясь другому чуду – внучке своей, вывернувшейся из темного проема, сделанного для двери.
А она шла по дворику, вся залитая солнцем, жарко светя черными глазами под белым платочком: осторожно несла тлеющий уголек на куске коры, легко ступая маленькими чириками на босу ногу и колыша зонтиком широкой юбки.
Присела и снова занялась своим делом, посматривая на деда, молчаливо торопя его рассказывать дальше.
– Мужичкам челябинским за бестолковость всыпали, – сказал дед, смачно пошлепав губами и окутавшись облачком махорочного дыма. – Были они казенные крестьяне… Их переделали в государственные, а они – на дыбы. Дескать, царь проиграл нас министру в карты. Чиновники приехали объяснять, а они чиновников в холодную воду посадили. В прорубь, стало быть. И пытать начали у них: что да как? Тогда наш губернатор сам за дело взялся: поехал с отрядом и всех подряд там перепорол. Схватят, скажем, мужика… Тот рубаху на голову: дескать, уж обработанный. Глянут, – и дальше. Всех перебрали. После того народ сразу успокоился. А губернатору – орден.
– Кому же всех хуже жилось, деда?
– Рабочему, знамо! Ни кола ни двора у него. Житье впроголодь. Работы и посейчас десять да двенадцать часов в сутки, а тогда кто ее усчитывал? И все нас терзали: войска губернаторские, казаки, жандармы, городовые. До той поры кровь пускали, пока не стало у рабочего ни страху, ни терпенья. И вот гляди чего получилось: спихнули ведь и царя и губернаторов!
26
– Дедушка! – Фрося бросила быстрый взгляд на проем двери, где то и дело мелькала мать, гнувшаяся под низким пока потолком (Пашка вместе с Гераськой убежали разведать о поденных работах к болгарам-огородникам, что снимали в аренду пригородные земли в поймах возле устья Сакмары). – А ты дружил с кем-нибудь… из казаков?
– Дружить не дружил, а смолоду знался с одним из Бердинской станицы… В лазарете его выхаживал. Раненый он был не шибко тяжело и вскорости опять в полк уехал. Легкий характером человек – долго я его вспоминал. А в войске он артиллеристом служил.
Фрося ходила в Берды с подружками. Это всего верстах в шести-семи от Нахаловки вверх по берегу Сакмары. Там, говорят, была столица Емельяна Пугачева. И хотя казнили этого казака в Москве лютой казнью, но бердинцы вроде гордились тем, что станица их прославилась такой историей и с оглядкой, а все же охотно показывали место, где стояла дворцовая изба.
– Он и сейчас живет в Бердах, твой знакомый казак?
– Не-е, в японскую его убили где-то в Порт-Артуре.
– А почему ты долго о нем вспоминал?
– Я же говорю: веселый был. Тогда еще казаки летом белые рубахи носили. Они же форсуны первеющие! Ну, понятно, на службе ихней только и дела при полном замирении: то себя чистит, то коня скребет. И чтобы на рубахе пятнышка не было. Едут, бывалоча, с пиками, кони блеском играют, сами в рубашках белых, как лебеди, с-под фуражек кудрявые «виски» на отлете. Да все с песней, со свистом да гиком – бравые ребята, ничего не скажешь!
Дед Арефий тяжело вздохнул и умолк.
– Говори еще! – Фрося совсем забыла о самоваре, похожем теперь на пузатого бухарца, лежавшего на боку в грязно-полосатом халате. – Правда, что, когда казаки в поход собираются, по всем станицам набат враз ударяет и слышно его от Уральских гор до моря Каспия?
– Правда, – уже неохотно подтвердил Арефий. – Чего они тебе дались, эти казаки? И думать-то о них – изжога одна! А походы?.. Вот мой знакомец из Бердов рассказывал нам однова, как еще в старину отличились бердинские казаки… В старые времена они, когда с походу домой являлись, по станице гнали наметом, из ружей палили, в джигитовке удаль показывали. Теперь за это вроде за фулиганство в околоток забрали бы… Ныне казаки свою удаль по-другому показывают: безоружных людей лошадьми топчут, баб да ребятишек нагайками урезают…
– А раньше? Что он тебе рассказывал?
– Раньше казаки с врагами внешними сражались… И вот ехали с боевого походу бердинские… Вел их атаман еще молодой – горячая голова. Шибко гнал. К любушке, видно, торопился и замотал конников совсем. С нашей Маячной горы уже повестили станишников, что казаки на подходе. Девки с подарками на бугры высыпали. А казаки к станице подъезжают, нахохлились в седлах, ровно куры на насестах. Атаман глянул на них и охнул: позор войску! Видит, у дороги поля Богодухова монастыря… Подсолнухи – корзинки спелые… Вздыбил коня, шашку вон: «Сотня, на противника в атаку лавой!» И первый заполосозал шашкой. Полетели головы подсолнушков: казаки ожили, развернулись.
А пушкари стоят на дороге. Завидно им. Теперь только и разговору будет о казачьей рубке.
Командир батареи, не будь плох, тоже скомандовал:
«Пушки к бою! По наступающему противнику огонь!»
Девок с бугров будто ветром сдуло. А пушкари разошлись вовсю:
«Огонь!»
Да промазали в небо – угодили в церкву. Она вспыхнула – и дотла сгорела.
Протоиерей нашенский донес письмом епископу в Казань, а владыка, осердясь, начертал: «В Бердах церкву вместо сгоревшей строить запрещаю. Войска Оренбургского казакам Бердской слободы на моление ходить (ходить, а не ездить, анафемы!) в Форштадт. Вечно». Ладно, не проклял, а мог бы анафеме предать.
– Неужто это правда, дедушка?
– Так я ж тебе быль пересказываю. Видишь, какие они – казаки-то! Ради гонора отца-матери не пожалеют.
– Ты их все-таки не любишь?
– А пошто я их должен любить? У меня до сей поры их отметины чувствуются. Вот они, рубцы-то! – Дед Арефий пошарил сквозь рубашку на тощих ребрах и пониже спины. – Ровно у волка травленого. Ты меня еще спроси, как киргизцы за волками с камчой охотятся… Плеть это тяжелая со свинчаткой, – пояснил Арефий и, помаргивая сморщенными веками, пытливо посмотрел на присмиревшую Фросю.
27
Росли в здешних садах только желтые акации с невзрачными цветами на колючих ветках, а в городе, уже уставшем от военных поборов, мобилизаций, недостатка продуктов, пели, как и по всей России, романс «Белой акации гроздья душистые». Это было словно поветрие. В ресторанах гремели цыганские песни и пляски, и цыганки из таборов, обложивших город шатрами, будто вражеская орда, подметали пыльные улицы широкими юбками.
Задыхаясь от среднеазиатской жары, Оренбург справлял пир во время чумы, потрясаемый пьяными скандалами, грабежами, убийствами, бешеными разгулами купцов и военных.
– Перед пропастью бесятся, – говорили рабочие.
Нахаловка жила суровой трудовой жизнью. Наследовы всей семьей дружно углубляли, утепляли и охорашивали свою землянку: закончили городьбу, срубили сенцы из тонкого леса. Уже по-настоящему скрипела дверь, умазан гладко глиной земляной пол, и окна превратились в глубокие бойницы, когда были сложены стены из саманных кирпичей. И грядки для лука да моркови сделаны во дворе, и сарайчик появился для дров и кизяка, а Наследиха, теперь владелица всех этих чудес, не спешила поставить обещанную свечку в соборе перед образом божьей матери.
– Гляди, рассердится богородица, – сказала ей Фрося, когда мать, умаявшись, снова не пошла ко всенощной в субботу.
А девушка принарядилась, причесалась, даже напудрила умытое личико и вот металась в тоске. Нестор-то ждет, ищет ее, наверное, и вся площадь перед собором, широкая, с аллейками сирени, с тополевыми шатрами на поворотах дорожек, шумит народом. Идут, конечно, барышни в длинных, светлых платьях, отделанных кружевами и лентами. Барыни волочат по ступеням паперти тяжелые подолы, придерживая их и показывая красивую обувь.
Глядя на свои дешевенькие, на низком каблуке баретки, Фрося вспомнила, сколько радости доставила ей эта обновка. О модах в Нахаловке разговору мало. Но когда Фросе было лет десять, бегала она в праздник с подружками к мельницам у вокзала, чтобы получить по копейке – дар богатого мельника. И еще тогда заметили девчонки на Ташкентской улице два дома с широкими парадными, на ступенях и перилах которых сидели нарядные барышни. Какие яркие платья, какие туфельки с бантами, со шнурками и блестящими пряжками! И на соседней Пиликинской улице в некоторых домах праздно сидели у окошек стайки пестро одетых девушек.
– Что они там делают? – спросила дома Фрося у матери.
– В заведении. На службе, – неясно отговорилась мать.
Приглядываясь в другой раз с жадным детским любопытством к вычурно одетым, намалеванным красоткам, Фрося решила:
«Когда подрасту, тоже пойду сюда работать».
Теперь-то она все поняла и боялась даже подумать о поганой той жизни. Вместе с матерью нанималась на поденные работы, жила на заработок отца и братьев. Пока… А что потом? Один выход для честной хорошенькой девушки – замужество. Но ведь не ради куска хлеба! Вот Нестор сватать хочет… Отчего же при одной мысли об этом холодеют, отнимаются у Фроси руки и ноги? Дорог, люб он ей, но даже матери боязно сказать о нем. Неужели испугалась отцовской угрозы? Нет, не может еще она разобраться в своих чувствах и намерениях. Обязательно нужно увидеть Нестора, тогда они вместе решат, как им быть дальше. Не верится, что в самом деле хочет сватать, но, если придет он к отцу, разве согласятся родные отдать ее в казачью семью? Да еще за офицера! Уж на что добрый дедушка Арефий, и тот не любит казаков!
Не гнева богородицы опасалась Фрося, когда мать, нарушив обет, не пошла ко всенощной, а всей душой переживала за Нестора. Он ведь ждет в соборе, где гулко отдаются под сводами в немыслимой высоте громоподобный бас протодьякона и ангельское пение детей и женщин, то перекликающееся со звучным гудением мужского хора, то единым дыханием с ним славящее «жизни подателя». У Фроси от этого пения теснит в груди и слезы просятся на глаза. А Нестор, наверное, опять ничего не слышит: ждет ее, оглядывается по сторонам… Да разве разглядишь в тысячной толпе!.. Повсюду огоньки колеблются в голубом дыму ладана, и то ли от них движутся тени на иконах, то ли, внемля молящимся, склоняются, как живые, лики святых. Смотрит, не мигая, глазастый спас, скорбно сдвинув брови. Грозно-задумчивы очи архангелов. Хмурится и Нестор: обманула, не пришла. «Что же я могу?» – мысленно обращается к нему Фрося.
– Если уж собралась, сходи в нашу церкву. – Мать порылась в сундучке, потом в кубышке. – Вот две копейки, поставь свечку богородице. А в ту субботу пойдем к соборной. Сегодня мне невмоготу, чтой-то совсем расклеилась.
«Да нельзя ждать до той субботы!» – хотела крикнуть Фрося, но только губы закусила и отвернулась, чтобы скрыть свое огорчение.
Тихо вышла во дворик. Постояла в смятении возле грядок, сжимая в кулаке платок, обшитый дешевыми кружавчиками, с завернутыми в уголке двумя копейками. Как раз ударил колокол соборной колокольни, стали мерно вторить ему другие по всему Оренбургу, и Фросе вдруг показалось, что можно запросто пойти в город одной. Быстро-быстро пройти по пустырю мимо карьеров кирпичных заводов, мимо скотобойни и вокзала к центру, прямо на сияющий среди садов бело-розовый минарет Караван-Сарая, одетый доверху светлыми изразцами. А там до собора рукой подать.
«К нам! К нам!» звал Фросю средний, но все равно выделявшийся среди множества других, соборный колокол, а она стояла недвижно, оцепенев в непонятной растерянности.
Звонили и в нахаловской деревянной церквушке, где за стеной помещалась начальная школа, в которую две зимы бегала Фрося. Жалко дребезжал вблизи знакомый колокол, и Фрося, покорно опустив голову, пошла на его зов. Какая серенькая, убогая, под стать всей Нахаловке, эта заводская церквушка, – просто амбарчик рубленый. Даже сравнить нельзя со строгой, словно из исполинских кубов сложенной церковью Петра и Павла, сияющий купол которой и золотой шпиль колокольни манят богомольцев Гостинодворского района. А собор…
– Точь-в-точь куличи с нарядными маковками на большом подносе, – сказала как-то Вирка Сивожелезова.
«Может, и правда похоже», – подумала Фрося, мысленно находясь там, возле Нестора.
Нахаловская церковка была полна народу, и так же, как в соборе, строго смотрели на людей со стен разные святые.
«Отчего они только строжатся над нами? Почему никогда не улыбаются? Чем недовольны: все им кланяются, целуют руки, зовут на помощь в беде… Если вы правда добрые, сделайте так, чтобы Нестор пришел сюда! – попросила Фрося. – Подскажите ему, где я…»
Мысли ее путались, в ушах звенело от духоты и кадильного чада, голубоватой дымкой висевшего над тесно сбившейся толпой. Тихонько пробравшись вперед, она поставила зажженную свечу в свободное гнездышко паникадила, стоявшего перед иконой на высокой подставке, и, пятясь обратно, лаская взглядом тонконосое, большеглазое лицо богоматери, прошептала страстно:
– Матушка, помоги! Приведи Нестора ко мне. Отдай его мне в мужья. Ведь я больше ничего хорошего не смогу – только любить и беречь его.
Стоявшая рядом старуха с нервным, злым лицом, похожая на монашку в своей черной кашемировой шали, осуждающе покачала головой, но смолчала, вдруг смягченная ребячески невинным выражением лица девушки и слезами, копившимися в ее широко открытых, чудных глазах, вздохнула, размашисто вынося костлявую руку, истово закрестилась, сгибая в поклонах молодо послушную спину.
28
Нестор не пришел в Нахаловку ни в тот вечер, ни в следующий. Он будто решил наказать Фросю за нарушенное ею обещание. И через неделю в соборе не увидела она его, сколько ни оглядывалась, как ни вертелась, вызвав строгое порицание соседок и матери…
Май нагрянул жаркий, сверкающий, заполнивший пышной пеной цветения сады богатых казаков и поймы рек. Особенно буйствовал терн, местами совсем загородив колючими белыми зарослями доступ к берегам. Желтым кружевом накинулись кусты колючей чилиги, розовыми цветами покрылся дикий персик-бобовник и лишь семик-жимолозник крепился, набирая восковые почки, чтобы к троице – духову дню сразу одеться в белоснежный наряд. Тогда побегут девки и ребятишки в пойменные леса, чтобы принести охапки жимолозника украсить красные углы в избах и ворота.
Только Фросе сейчас не до цветов, не до весны. Похудела, краски сбежали с лица, но будто еще красивее, желаннее стала, еще ярче заблестели горячие глаза. По улице пройти не могла без того, чтобы не увязались ухажеры. И наконец, сам епископ Мефодий во время проповеди обратил внимание на необыкновенное лицо юной богомолки.
Слушая его, вздыхали мужчины, не стыдясь вытирали слезы женщины. О родине-матери говорил епископ, о гибели, грозящей ей от безвластия при многовластии, об оскудении веры Христовой в час тяжелых испытаний. Скрадывая дыхание, слушали страстную речь убежденного и опытного проповедника сотни людей. Гибкий мощный голос его проникал в сердце, грозил бедою.
– Только верою Христовой укрепимся, братья и сестры, что твердыней своей спасала наших предков от набегов половецких, как щитом укрывала под игом татарским трехсотлетним, избавила от польских захватчиков в смутные времена, вдохнула силу разящую в годину французского нашествия. Ею единой силен перед врагом и чист перед богом великий русский народ. Крест господень, аки меч, бриллиантами звезд усыпанный, сияет ныне в руке архангела во мраке, объявшем родную землю. И слышен глас, скликающий под воинские хоругви его, внушающий народу русскому твердо стоять на рубежах отечества. Да не ослабеет карающая десница его до дня великой победы, когда приумножится слава оружия нашего и воссияет Россия вкупе и влюбе с союзниками на поле брани. Памятуя о святой церкви нашей, о благе родины, отриньте прельстительные слова подкупленных Вильгельмом богохульников-большевиков, что внедряются в ряды православного воинства и в тылу среди верующих сеют смуту и раздор.
В этом месте своей патетической речи и обратил внимание отец Мефодий на вспыхнувшее не то испугом, не то гневом лицо молоденькой девушки, ярко выделившееся из множества расплывчато колебавшихся перед ним женских лиц.
Всего несколько секунд он помедлил в молчании, но так необычна была заминка, так явно оробела девушка, поймав на себе его исступленно сверкавший взгляд, что Алексий, верный служка архиерейского дома, стоявший на страже у амвона, успел мгновенно подметить и по-своему оценить положение.
– Соборному хору пополнение требуется, – сказал он после вечерни, загородив девушке дорогу к выходу возле прилавка церковного старосты, где продавали восковые свечи, образки и крестики.
– Да я не смогу. – Густо покраснев, Фрося обернулась к матери, завязывавшей в уголок платка новый нательный крестик для Пашки, утерявшего свой вместе с гайтаном. – Ведь правда, маманя, не пела я никогда в церкви?
– Дар божий бывает до времени скрыт в человеке. Голос твой в обиходе ласкает слух. Подойди для испытания завтра после заутрени к регенту хора… Природный алмаз огранки требует, чтобы засиять всеми цветами радуги, – явно заимствуя цветистость речи епископа, говорил Алексий, а сам тем временем оценивал нежный овал девичьего лица, отметил прямизну точеного носа и тяжесть опущенных ресниц. Шейка высокая, и маленькие два голубеночка шевелились от дыхания под простенькой кисеей платья, отчего так и хотелось накрыть их ладонями (прости, господи, прегрешение!). И руки у нее округленные, с гибкими еще пальцами. Станом тонка, а плечи гордые, сильные…
– Нету у нее никакого дара, батюшка, – заявила Наследиха, заметив далеко не отцовские взгляды ухажера в поповской рясе. – Поищите лучше в пансионе благородном, там пограмотней, побойчей.
– Что ж ты ему не присоветовала еще в Москву съездить? – грустно спросила Фрося, озираясь на паперти, где осаждали выходивших богомольцев попрошайки да нищие.
Кавалеры, ожидавшие барышень, теснились на развилках дорожек, по которым рассыпалась валившая из церкви нарядная толпа, но все они были чужие, незнакомые, ненужные. Нестор, значит, не пришел, и Фрося, не выдержав, вздохнула с таким разочарованием, что Наследиха, уже настороженная, сразу заметила ее огорчение.
– Уж ты не свиданье ли назначила? – без обиняков спросила она, заглядывая искоса в лицо дочери. – Ежели и впрямь офицер – убить тебя мало. То-то я и гляжу: к вечерне – в колокол, всю работу – об угол. И думать не смей! Видно, ты, девка, совсем ума решилась… В храме божьем вертишься, как сорока на колу. Людей вводишь в искушение: не зря тебя батюшка-то приметил…
– Ну что вы ко мне пристаете, запугиваете! – воскликнула Фрося, но в голосе ее прозвучал не испуг, а ожесточение. – И так живу, ничего доброго не видя.
29
Поздно вечером, когда епископ закончил статью «Об опасности сектантства» для созданной им же газеты «Церковный вестник», Алексий, приготовив все в опочивальне, завел речь о соборном хоре и своем разговоре с девушкой, красотою подобной шемаханской царице. Мефодий слушал, как пересказ светской книги, бесстрастно, даже позевывая, но в этом и открылся опытному служке затаенный его интерес.
– Не исчез еще страх божий в народе. С матерью девица приходит к вечерне. И то: ночью по пустырям хождение опасно. Тут недолго на вербовщика из вертепа наскочить. Они таковские: где легким житьем улестят, а где и силой… Хотя нахаловским девицам терять нечего, кроме пролетарских цепей, как говорят ораторы-большевики. Дома в черном теле содержат, и замужество добра не сулит: женихи-то заводские – голь перекатная. Но матери, известно, строжатся, – добавил Алексий, вспомнив отповедь Наследихи.
– Отчего же… нахаловским девицам?.. – В голосе отца Мефодия новая нотка: не властная, не елейная – нетерпение страстное прорвалось, любопытство мирское.
– Проследили-с до самого местожительства, – с торопливым угодничеством и затаенным торжеством ответил Алексий.
– Ну, добро. Иди пока. Я помолюсь.
Слушая, как затихали шаги верного служки, епископ рассеянно смотрел на исписанные листы бумаги. Сам сочинял он передовицы для своей газеты, сразу оценив великое значение печатного слова в заварившейся борьбе за власть, сам писал целые подвальные статьи, щедро вкладывая в них пыл врожденного политика. Готов он был без страха ринуться в бой за реставрацию царского режима, увлекая за собой всю громаду подвластного ему оренбургского духовенства, и только ждал настоящей силы, на которую мог бы опереться.
Пробегая бездумно взглядом по набросанным строкам, он напрасно силился вернуть настроение одухотворенности, утраченное после сообщения Алексия.
«Истребляйте сектантство, как зараза проникающее во все слои общества. Иноверцы других стран, наипаче всего в Америке и Англии, не жалея средств, готовят проповедников для русских сект. Сильны и многолюдны их миссионерские школы и самым щедрым поощрением пользуются от своих правительств. Они и засылают к нам тысячи сектантов с единой целью подрыть устои православной церкви – исконной хранительницы государства Русского!»
Нет, ничего не говорили сейчас ни уму, ни сердцу епископа недавно волновавшие его слова. Пропало вдохновение, заглушенное яростным зовом взбунтовавшейся крови. Легко встав, разминая на ходу еще не огрузневшее тело, он подошел к освещенному лампадами киоту, истово осеняя себя крестом, отвесил несколько поясных поклонов и опять забылся, стоя у образов, заложив под мышки ладони скрещенных на груди рук. Спохватись, опустился на колени, с жаром ударил челом в пол:
– Прости мя, господи! Знаю – непотребно сие для пастыря, облеченного столь высоким саном. И Алексий… Ох искуситель во образе человеческом! Возлюбивший злобу чтит ю паче благостыни…
30
В наследовской землянке свои дела. Раньше всех, еще до гудка, проснулся на полатях дед Арефий – свесил вниз бороду, посмотрел, как спят его потомки. Только Ефим с Дуняшей за занавеской в углу, остальные вот они: Фрося на железной коечке спит, притянув лоскутное одеяло к носу, а коса висит чуть не до полу: Пашка изогнулся между братьями на нарах так, будто ведет жаркую драку: один кулак торчит над Митиным ухом, другой закинут на грудь Харитону, и нога подогнута, как у боевого петуха.
«Надо же так исхитриться! – влюбленно усмехнулся Арефий, глядя на внуков. – Добрые парни!»
С сегодняшнего дня вся семья будет уходить на работу: мужчины в ремонтные мастерские, остальные на шерстомойку к богачу Хусаинову, и дедушке Арефию предстоит домовничать одному. Опять у Пашки ноги покроются царапинами, ссадинами и цыпками. Ну-ка, потопчись день-деньской в грязной и мокрой овечьей шерсти! В ней и прилипший песок, и щепки, и разные колючки. От непрерывного полоскания с утра до ночи в воде Урала даже у Фроси опухают пальцы, о матери и говорить нечего: лицо отекает, все суставчики болят. Но надо! Надо к зиме одеться, обуться, дровишек припасти.
Кряхтя, Арефий сползает на печь, а уже оттуда вниз. Второй просыпается Евдокия…
Заревел гудок и словно сбросил с постелей Наследовых. Один плещет в лицо пригоршню воды, другой тянет на ноги опорки, взмахивают рукава рубах, и семья уже за столом.
Харитон тащит с улицы бунтующий самоварчик. Ефим привычно режет на доли каравай хлеба, по-крестьянски прижимая его к груди. Молчаливо едят подогретую на таганке похлебку и бегом на работу, благо мастерские рядом.
«Вторым эшелоном» отправляются на шерстомойку Фрося, мать и Пашка. Эти собираются дольше. Хотя вначале им путь лежит через пустыри, но от вокзала до моста к Зауральной роще – по городским улицам. Не пойдешь в нищенских отрепьях. В корзину их – и на закорки (Пашка понесет на клюшке).
Фрося украдкой смотрится в зеркальце, закладывая прядку волос за ухо так, чтобы виднелась из-под платочка. Много народу встретится и на мосту, что ведет на ту сторону широкого Урала. Там, налево, за старицей, дачи оренбургских богатеев, а направо, где Урал, – пройдя вплотную под кручей, на которой красуется южная часть города, – опять круто отходит в степи, устроена шерстомойка. Дальше прямая дорога к линейным станицам по реке Илеку, в одной из них и живет Нестор. Кто знает, может быть, он мчится сейчас с казачьей сотней. Там, в степях, бараки, где проводятся военные учения… Мог и домой отпроситься – поговорить с грозным отцом…
Надежда на встречу вспыхивает с новой силой, Фрося успевает надеть красные стеклянные борочки на шею и еще раз заглянуть в крохотное зеркальце.
Уже прогнали городское стадо, а пыль еще не улеглась – висит тонким розоватым облаком. Какие в степи корма? В пойме лучше. Но вдоль нее ездят сторожевые казаки, берегут свои покосы, чтобы не было потравы.








