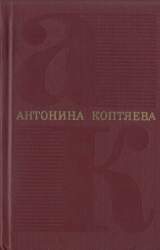
Текст книги "Собрание сочинений. Том 6. На Урале-реке : роман. По следам Ермака : очерк"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 36 страниц)
– А дальше что? Чего хорошего там ты добьешься? Будешь, как Харитон и твой папаня, чертомелить за гроши до седьмого поту! – Фрося умолкла, но взгляд ее выразил такое раздражение, что Костя поневоле упал духом.
Славная, тихая девочка, а вот ощетинилась, точно еж! Может быть, это и к лучшему: начала понимать глубину социальной несправедливости. И тут Костя впервые заметил, как выдаются из коротких рукавов армяка его большие руки в старых варежках, неумело заштопанных Гераськой, как заношен армяк, особенно убогий возле добротных одежд городских обывателей. И сразу по-иному неловко стало ему перед девушкой: ну не чудак ли! Просто-напросто стыдится она, хотя и сама не нарядная, разговаривать с ним на богатом празднике. Значит, льстит им, девчатам, внимание только видных кавалеров!
– Не сердись, Костя! – сказала Фрося ласковее, заметив его грустную задумчивость. – Я сама не пойму, что со мной творится. Но нельзя же всегда – до старости, до смерти – жить так, как мы живем. У маманьки кости вылезли из плеч от коромысла, от худобы. А ведь красивая была смолоду…
У Фроси даже слезы навернулись, такой затерянной и несчастной почувствовала она себя в этой шумной толпе, ожидавшей новых развлечений.
– Что же ты собираешься сделать, чтобы тебе жилось иначе? – спросил Костя, подавленный противоречивыми мыслями.
– Не знаю. Но все жду чего-то. Вроде чуда. Маманька сказывала: когда она еще девушкой была… Будто вышла она ночью во двор, и вдруг озарилось все голубым сияньем. Небо, до того вьюжное, черное, разверзлось у нее над головой, и идет оттуда этот чудный свет. Ни солнца, ни луны, а что-то белое и золотое… Будто крылья ангельские веют, будто ризы божьи приближаются. Маманьке молитву бы сотворить, попросить у господа жизни счастливой, а у нее голова от страха кругом пошла, и пала она наземь, как мертвая. А опомнилась, уж нет ничего, только метелица снегом шуршит в потемках. – Фрося замолчала. Как отраженье сказочного видения-сна, лился из ее широко распахнувшихся глаз яркий свет. – Нет, я бы не сробела. Я бы попросила за нас всех!
– Мистика… То есть самый настоящий религиозный дурман, – промолвил Костя угрюмо. – Счастливая жизнь не явится по божьему веленью. За нее бороться надо.
Не раз хотелось ему рассказать Фросе о партийной подпольной организации, да клятва, данная товарищам, сдерживала. А сейчас он решил твердо: нельзя такие тайны выдавать девочке, у которой невесть что бродит в голове. Больно уж она размечталась о какой-то легкой жизни! Этак недолго и до поисков богатого жениха. Кто же иной обеспечит ей возможность жить без горя и забот?
И вдруг Костя увидел давешнего казачишку в белой папахе. Сдав на казарменной конюшне скакуна, он шел в поредевшей толпе, то и дело, вытягивая шею, кого-то высматривая.
Фрося тоже приметила его. Сначала ей захотелось убежать, затеряться среди людей, но странное любопытство и подсознательное желание противоборствовать нагловатому казачьему офицерику пересилило, – она осталась на месте. И чем ближе подходил он, тем сильнее поднималось в ней чувство досады за свою недавнюю растерянность – чего ради оробела она перед ним?
Зато растерялся Костя: подружка детства, похоже, утаила от него знакомство с молодым хорунжим. Что-то особенное появилось в выражении их лиц, когда, подойдя к девушке, он молчком стал перед нею, будто загораживал, оттеснял ее от Кости Туранина, от зазевавшихся братьев.
Фрося не отступила ни на шаг, только слегка откинула голову. Плотно стиснуты губы, сурово нахмурены брови, но этот недоступный вид не обманул Костю. Он понял – боится Фрося выдать себя, вот и напустила гордыню.
Стремясь отвести ее от беды, Костя произнес сдавленным от волнения голосом:
– Пойдем, Фрося! Наши, наверно, уже ушли.
– А фейерверк? Бенгальские огни будут бросать, – напомнил Нестор Шеломинцев. – Сейчас самое гулянье начнется.
– Кому гулянье, а нам домой пора, – заносчиво и невольно грустно сказала Фрося: хотя озябла она, но ей, как и подошедшему Пашке, совсем окоченевшему, тоже хотелось взглянуть на эти бенгальские огни.
– Я вам сейчас тулуп достану, – пообещал Нестор, заметив, как вздрогнула девушка то ли от мороза, то ли от волнения, однако не двинулся с места, словно боялся, что она исчезнет, едва он отойдет от нее.
– Мне ваш тулуп без надобности. Подумаешь, какая забота! Пойдем, Костя, пошли, ребята, а то обморозитесь. Харитон-то где?
– Уходите? – спросил казак.
Фрося, охваченная смятением, ничего не ответила.
Звеня бубенцами, разлетались по улицам, над которыми уже сгущались синие сумерки, пары и резвые тройки. Кучера еле сдерживали застоявшихся рысаков.
6
– Причитается с тебя, Нестор? – спросил Антошка Караульников, похожий на батрака-молдаванина в надетой набекрень папахе, из-под которой выбивался целый ворох черных кудрей. Он был в засаленном полушубке и поношенных шароварах без лампасов, заправленных в подшитые пимы, но на лошади и без седла сидел, как настоящий казак; подогнал скотину к обледеневшей колоде у проруби и, пока работник-киргиз черпал и, расплескивая, лил воду под исходящие паром морды сгрудившихся коров, проехал немного рядом с Нестором. Лошади, коровы и овцы Шеломинцевых, сопровождаемые пешими батраками, уже двигались, ископытив широкий изволок, к станице, расположенной на высоком береговом бугре.
Нестор, ездивший к прорубям напоить коня, а главное, чтобы без помехи встретиться с Антошкой, рассеянно глядел на родные сердцу картины, впервые не решаясь на откровенный разговор.
Был час утреннего водопоя. Скрипели ворота на базах во дворах станицы Изобильной и в кардах – обширных загонах в пойме Илека среди высоких тополей, где за плетнями дымили саманушки «киргизцев-кормельщиков». Натужно, будто жалуясь, мычали волы и коровы, бойко блеяли овцы, важно шествовали знаменитые оренбургские козы, одетые, словно попонами, длинной шерстью, и лошади – звонкие конские табуны – спешили к пойменным озерам, заметенным снегом. Все богатство казачье выперло из-за высоких плетней Изобильной и «пригородов» ее.
– Как на параде! – сказал Антон, озирая живые потоки, хлынувшие по дорогам поймы между кардами и над яром, где горели червленым золотом окна вынесенной на видноту богатой станицы, которая называлась на Илеке офицерской. Почти в каждом доме отражалось в окнах по нескольку солнц, а настоящее – голое, без сияющей короны лучей, взошло над белыми лугами и облачно-седыми от куржака пойменными рощами и напоролось прямо на черные кресты, раскинувшие тонкие руки по бугру сурового – ни кустика – станичного кладбища. Кресты из полосового железа, звенящие на всю округу при отковке, упруго покачивающиеся летом на выбитой скотом голой земле от бешеного степного ветра. Есть и маленькие каменные надгробия с глубоко врезанными надписями – могилы станичной знати. Сейчас на кладбище снег, а между крестами краснота зари, как кровь, стекающая с края неба на сугробы. И на фоне этой красноты течет с бугра к старицам Илека еще один бурный поток – движется над выемкой дороги живая темная стена, унизанная острыми рогами.
Где еще, в каком поселке столько скота? Хотя гурты и табуны – гордость всего оренбургского казачества. А станица красуется на виду, как богатая невеста, не из хвастовства… Если крестьянские деревни прятались от летнего зноя и зимних буранов в укромных низинах у речек, то поселения казаков, как сторожевые дозоры, всегда ставились на юру.
– Нынче прощеный день у нас так прошумел – еле живы остались. Кислушки, самогона и медовки сотни бочат выдули.
Нестор опять промолчал. Красота зимнего утра, радовавшая Антошку, совсем до него не доходила.
– Ты чего такой тусклый сегодня? Или тоже малость переложил вечор?
– Ладно, если бы переложил…
– Тогда с чего? За джигитовку приз получил?
– Дали.
– Чем-то недоволен?
– Сам не знаю, должно быть, не выспался, – ответил Нестор, все еще стесняясь заговорить о полонившем его необычном чувстве к совсем незнакомой девушке.
С минуту молодые казаки ехали рядом молча. Очень разные по характеру, оба из богатых семей, они подружились еще в начальной школе. Потом Нестор учился в Оренбурге, а Антошка, понаведавшись несколько раз в станицу Краснохолмскую к дяде, растившему целый взвод сыновей-казачат, стал частенько задумываться, избегать молодежных гуляний. И когда в возраст вошел, вовсе сделался вроде умом тронутый: ни казак, радеющий о войсковой службе, ни гуляка – охотник до девок и зелена вина. То-то намаялся с ним папаня, войсковой старшина Семен Караульников. Станица Изобильная недаром называлась офицерской: казаки здесь жили сплошь зажиточные, заслуженные, хвалившиеся воинскими отличиями, и вдруг такая проруха не только для фамильной чести, но и для всего станичного круга! Отец – войсковой старшина, почетный человек, и дед – кряжистый дуб Тихон Захарович – служил старшиной. Знают, помнят оренбургские казаки и прадеда Антошки Захара Караульникова, храброго сотника, участника войны с турками и трехлетней Крымской кампании, а правнук, единственный наследник исконного казачьего рода, на сектанта смахивает.
Имел по этому поводу Семен Тихонович серьезный разговор с братом, обернувшийся неприятностью для любимца Краснохолмской молодежи учителя Николая Андреевича Шибрина, распространявшего среди своих учеников «каку-то запрещенну литературу». Учителя из Краснохолмской сбыли, но самовольство, посеянное им среди ребят, изжить не удалось. Вот и Антошка, видно, нахватался там, в семье брата, крамольных идей.
Сейчас прадеду его, Захару, перевалило за девяносто, и он больше сидит на печи, грея простуженные в походах кости. Но боевой задор в нем не иссяк, и, заслышав очередные сообщения о германце, об атаках и поражениях русской армии, бредет старый, подпираясь клюшкой, к сверстникам – обсудить невеселые новости с фронта.
Сбившись в кружок, ерепенятся седобородые, не раз смертью меченные:
– Бывалоча, езживали… Рубили врагов. Самой главной опорой были для царского трону. А теперь жидкий пошел народ, ненадежный. То-то и есть: надежа на них, как на вешний лед! Изменили фронтовики государю-то, бегут от германца, будто овцы сполошенны. И духу прежнего боевого нету.
Но хоть и сетуют, ропщут бородачи, а староказачий дух вовсе не выветрился в станицах. Большинство станичников фанатично преданы царям – небесному и земному, живут скудно, темно, скупо, копят богатство ради богатства, иногда прерывая это скопидомство несусветной пьянкой по поводу очередного семейного события или тезоименитства кого-либо из царской фамилии, а то и просто так – потешить душеньку.
Просторны и прямы, как по линейке проведенные, улицы станицы. Крепко сложены бревенчатые дома с кухнями в нижних, полуподвальных этажах, прочно, затейливо, точно добротные корзины, свиты высоченные плетни, умазаны рыжей глиной саманные ограды, и побелены во дворах летние кухнешки под крышами, крытыми чаканом [1]1
Чакан – болотное растение. (Здесь и далее прим. автора.).
[Закрыть]. Домовито, даже нарядно выглядит станица, хотя возле домов ни садочков, ни палисадников: нет той моды у казаков, чтобы сажать деревья там, где сам господь бог не порадел их посадить. Только за ближней мельницей раскинулся в степи по оврагу Джеренксай яблоневый сад богатого станичника Масалинова, белым цветом – лунным разливом да шумливыми родниками приманивающий по весне станичную молодежь. Но насчет гуляний, особенно по ночам, здесь строго: быт искони устоявшийся, суровый. Кондовое казачество – от рядовых до заслуженных офицеров – в свободное от военной службы время с головой уходит в сельскохозяйственные работы. Такова традиция.
– Здорово наши старики обдурили киргизцев, – прервал непривычно затянувшееся молчание Нестор, сам дивясь своей нерешительности: делился ведь раньше с Антошкой каждой малостью. – Всего-то сажен на двести прорыли канаву, а сразу изменили пограничную линию.
– Да, пошел Илек по старому руслу под левым берегом. – Антошка снова окинул влюбленным взглядом заиндевелый лес, похожий вдали на клубящиеся дымчатые облака, белые равнины – луга, окраенные талами, – все общественное владение казаков. – Теперь сено и дрова через реку перевозить не надо. А почему ты про это речь завел?
– Потому, что думаю… не пришлось бы и мне курс жизни изменить, в другое русло укладываться.
Глаза Антошки заискрились.
– Которая тебя окрутила?
– Не нашенская она…
– Из другой станицы?
– То-то и беда, что вовсе чужого поля ягода.
Антошка рот разинул от изумления:
– Купчиха либо дворянка?
Нестор сразу развеселился:
– Дворянская барышня нам не подходит – чего ей тут среди навоза?.. Но и с дворянством легче было бы папане сладить, чем пустить в дом девчонку из рабочей семьи.
– Ох ты-ы! Тут твой есаул правда взовьется! Он тебе выдаст! Попомни мое слово: полетишь кубарем с родительского крыльца. Одно дело – невеста без приданого… другое – из рабочих, которые только и норовят бунтовать. С этого родитель начнет отповедь, а кубарем-то, чтобы любовь вытряхнуть. Нужна старикам наша любовь! Они привыкли детей спаривать, словно скотину. А как теперь твоя здешняя?..
7
Дорофея, крепкая, статная девка, вместе с замужней сестрой Алевтиной трепали коноплю под навесом сарая. Сестры как будто спорили своей наружностью: у Алевтины узкое матово-смуглое лицо, Дорофея издалека привлекала внимание ярким румянцем плотных щек и белизной выпуклого широкого подбородка, и брови у нее против Алевтининых черных шнурочков поражали щедрой гущиной, похожие на полоски колонкового меха, удивительно приставшие к ее огромным голубым глазам, полным задумчивой кротости.
– Телка породистая! – дразнила ее иногда Алевтина. – В кого ты уродилась?
Дорофея отвечала доброй улыбкой и бежала управляться по хозяйству. Любила она нянчить сестриных ребятишек, перебирать их легкие, как пух, волосы, играючи ворочала в печи ведерные закопченные чугуны. Алевтина же, неспособная по деликатному своему сложению к грубому труду, отлынивала от него, но хозяйство и дом держала в руках крепко. По местным понятиям двор Ведякиных считался почти захудалым: четыре лошади, три пары быков, пять коров да десятка три овец. Из шестидесяти десятин казачьего надела едва управлялись с пятнадцатью, остальные сдавали в аренду соседу Шеломинцеву.
По соседству Дорофея, находившаяся под опекой старшей сестры, подружилась с Нестором и его сестрой Харитиной. Вместе с детства выезжали они на покосы в пойме Илека или по ту сторону его в степях Киргизии [2]2
Киргизия – старое название Казахстана.
[Закрыть], где казаки почти задаром брали у «киргизцев» неоглядные сенокосные угодья; встречались на полевом стане, где смыкались межи посевов богатея Шеломинцева и пашни Ведякиных.
Конечно, по достатку не ровня Ведякины богатому соседу, но какое дело до этого ребятишкам? Рослая Дорофея не хуже любого сорванца скакала верхом на лошади и при всей степенности характера умела ответить любому обидчику увесистой оплеухой, потому мальчишки-подростки уважали ее, а иные и влюблялись.
Что касается Нестора, то он был по-мальчишески увлечен тоненькой, гибкой, как девушка, Алевтиной, матерью четырех малых детей, обожавшей своего Демида, громоподобного урядника с вислыми усами до голубых погон и русым, пышно взбитым «виском». Дорофея это примечала, втихомолку плакала. Перед сестрой она сникала, безропотно подчинялась ей. Так, сама того не сознавая, подавляла Алевтина сестренку, батрачившую у нее в хозяйстве вместе с деверями – хромым Прохором и удалым красавцем Николаем.
Когда Демид приезжал на побывку, Алевтина забывала даже о детях, все время любовалась им, точно молодушка, милуя да развлекая, оберегала его не только от надсадной, но и легкой для такого силача работы, ходила с ним по гостям, таскала на гулянки, а Дорофея растила малышей, будто своих собственных, да так и осталась в домашней кабале совсем неграмотной, года не проведя в школе.
Только в одном чувствовала она себя равной с сестрой – когда на радость всей станице играли они песни. Тогда Алевтина даже уступала ей, вторя глубоким грудным голосом, а Дорофея расцветала, тревожа людей то грустью до слез, то нежностью или вызывая веселые улыбки. В такие минуты, казалось, нет предела власти и силе ее голоса, и станичники, привыкшие слушать ведякинских певуний, чуть не взбунтовались нынче, когда в их дворе наступило странное затишье. Но дело объяснялось просто. Явился с фронта Демид, да не на побывку, а насовсем, после тяжелого осколочного ранения, и Алевтина, всю тоску по нем изливавшая в песнях, ревниво заметив обаяние голоса заневестившейся Дорофеи, стала избегать петь с нею при муже. А Демиду было не до песен: засел под лопаткой осколок снаряда, и хоть цел с виду остался казак, однако прежней прыти поубавилось, в плохую погоду задыхался. Вот и списали.
Провоевав два с половиной года, он рад был уйти от греха. Как говорится: служил семь лет, заслужил семь реп – получил одного «Георгия», второго не вручили якобы за дерзость. Но кто кому дерзил? Командир армейской части ударил казака по лицу при попытке вступиться за своего станичника. Непривычное в казачьих войсках рукоприкладство золотопогонника чуть не вызвало «ответное действие», но – то ли на счастье, то ли в дополнение к перенесенной обиде – разорвался близко немецкий снаряд, и так шваркнуло Ведякина оземь, что из другого и дух бы вон, а Демид очухался и вот встал…
Дорофея мяла-трепала коноплю так, что пыль и кострика над мялицей вихрем летели. Простой снаряд на ножках, сделанный из двух дощечек на ребро, а между ними третья, подвижная – «било», – так и ломал, жевал грубые стебли. Сжимая сильной ладонью рукоятку «била», Дорофея встряхивала и отбрасывала в сторону похожий на конский хвост пучок кудели, совала на мялку полную горсть новых стеблей, а мысли ее были далеко: она думала о Несторе.
Алевтина, расчесывая кудель широким деревянным гребнем, тревожно поглядывала на необычно задумчивое лицо сестры, запорошенное серой пылью: жалея ее, боялась упустить из дому помощницу.
По-женски чутко давно приметила она, что не к деверям – Прохору или Николаю – и не ради Дорофеи зачастил в ее дом сын Шеломинцева, но только усмехалась тишком, пока не заметила, что у расторопной сестренки все валилось из рук, когда приходил Нестор. Однако сумела-таки Дорофея задеть его сердце нескрываемой влюбленностью и песнями; когда запевала, целый хор подчиняя своему голосу, подчинялся ей и Нестор, открыто восхищался ею. А в обращении был сдержан, ласковых слов не говорил, будто боялся зря ославить девушку.
«Не любит он меня, – с горечью думала Дорофея, – с городскими гуляет. Что я – деревня! Глаза по ложке, коса – целый сноп… Много мяса, да все шеина. А там барышни в корсеты затянуты, образованны, на музыку способны. Ручки-то у них, наверно, мягче да белей, чем у нашей поповны. Только-только приручила я своего соколика, да и упустила. Глаз не кажет – все в городе…»
Дорофея шумно вздохнула, отряхнула кострику с простого байкового платка, с обтерханной шубейки:
– Шабашим, что ли? Скоту корм задавать надо, а там и коров доить пора.
– Лежи, моя куделя, хоть целую неделю, – весело отозвалась Алевтина и приумолкла: в калитку ввалился Семен Тихонович Караульников.
– Помогай бог, красотки!
Брякнула шашка о подворотню, хрупнул притаявший за день снежок под добротным «гамбургским» сапогом – в полном параде явился вдовец – войсковой старшина. Конь его остался у ворот, ради форса не привязанный.
– Что это вы, никак, холсты ткать надумали? У нас в станице такое вроде не принято…
– И мы не собираемся ткачихами прослыть. Только козий пух прядем да шерсть, – задорно отозвалась Алевтина. – Да заехали хохлы из Кардаиловской станицы, у них тканье – суровье в почете. Из чакана и то рогожи плетут! Вот и сестренку мою подбили: зачем, мол, тако добро задаром выбрасывать – лучше ниток напрясть.
– Забогатеете сразу! – Караульников осклабился, показав крупные прокуренные зубы, посмотрел одобрительно на Дорофею. – А где ваш хозяин?
– По сено с братьями отправились, должны бы уже возвернуться. Да сами знаете, как оно на быках-то… – Алевтина тоже отряхнулась, красивым жестом поправила полушалок, и в будний день кашемировый с малиновыми и зелеными разводами по черному полю. – Проходите в дом, Семен Тихоныч. Может, чайку откушаете?
– Благодарствую. Чай для нашего брата военного – напиток несущественный. Мне, старику, приятней на вас полюбоваться.
– Ну какой вы старик! Не всяк молодой этак выглядыват!
Караульников в самом деле выглядел очень моложаво. Правда, раздался в поясе, но плотен и в плечах; благообразное лицо в окладе вьющейся бороды, придававшей его облику что-то поповское, гладко, как репа. Глаза с рыжинкой, со сторожким прищуром в тяжелых веках. Такого оглоблей не перешибешь.
Стоял он и смотрел в упор то на одну сестру, то на другую. Дорофее, глянувшей исподлобья, улыбнулся поощрительно: давно приметил старательность работящей девахи, добротную ее красоту.
«Что ему понадобилось?» – с чувством неловкости подумала Дорофея.
«Не высматриват ли невесту для Антона?» – Алевтина тоже насторожилась, как бы посторонним глазом окинула застенчиво потупившуюся сестру.
«Видная будет молодушка, дому настоящая хозяйка», – единодушно отметили про себя она и Караульников.
Но Семен Тихонович не о сыне радел, давно решив:
«Ничего Антошке не дам – не на ту стезю парень стал. Пусть-ка потянется теперь, заслужит».
О самом себе заботился Семен Тихонович:
«Пока я еще в полном соку, могу и молоду жену взять. Взамен непутевого сына других детей выращу».
– Пойду я? – пугливо спросила сестру Дорофея, теряясь под пронизывающим взглядом нежеланного, хотя и почетного гостя.
Даже Алевтина пришла в замешательство: чего он, старый хрыч, так смотрит на девку? Неужто думает, что впрямь за молодого сойдет? Года не прошло, как вторую жену – Антошкину мачеху – схоронил, а вроде опять ладит под венец пойти.
– Богатому человеку везде почет, и женщины вам все улыбаются, – продолжает Алевтина разговор, явно приятный гостю, делая вид, что не замечает стремления Дорофеи сбежать.
– «Все» – это ровным счетом ничего, а вот когда супруга дорогая приветит… Но посылат господь испытанье многогрешному, разорят семейный очаг. Наградил достатком, а разделить его не с кем. И то сказать: хоть работников держим, досмотреть за хозяйством некому; мое дело – служба царская, у Антона же ни к чему раденья нет. – И в отместку Дорофее, заметив оглядки ее на соседний двор, бросил будто вскользь: – Вот у Шеломинцева сын – орел! Нынче Софья Кондрашова – оренбургска королева красоты – такие авансы ему давала при всем честном народе. Невеста самая завидная: дворянка столбова, и придано за ней не мене пятисот тыщ да недвижимо имущество…
Заметив, что краски в лице Дорофеи поблекли, Караульников спохватился: не слишком ли он разговорился с женщинами, не уронил ли достоинство казачьего офицера? Но, с другой стороны, зачем молчать, если можно вовремя оброненным словом подготовить почву для решающего шага? Жалости к побледневшей Дорофее он не испытывал, а, наоборот, ужаленный неожиданно проснувшейся ревностью, упрямо добавил, пряча тлеющие угольки глаз:
– То, что Нестора городска жизнь прельщат, – не диво, а вот мой Антошка куда метит? В город не рвется и здесь чужой, а с работниками без догляду – горе. В страду я нынче двадцать человек нанимал, и все сам следи – не то растащат по нитке, по зернышку. Спасибо, батя – Тихон Захарыч вникат в дела, но старикам покой нужен. Вот и раскидывай умом…
Караульников вздохнул всей широкой грудью и умолк, давая возможность не очень говорливым при нем станичницам тоже раскинуть бабьими своими мозгами, к чему он речь клонил. Потом подвинтил кончики темных еще усов, важно надел кожаную на меху перчатку:
– Однако пойду я. Демиду передайте: после загляну.
– Фу-ты, какой пышный! – Алевтина с облегчением шевельнула узенькими покатыми плечами. – А он еще ничего, видный мужчина. Как он тебе показался?
Она лукаво посмотрела на сестру и прикусила язык: по лицу Дорофеи катились слезы.
8
О Софье, сидевшей, как царевна в дорогих соболях, в ложе на площади, Нестор и думать забыл. Зато не выходила у него из ума девочка, Фрося, которую он встретил в Форштадте. Насчет Дорофеи он не беспокоился: слава богу, ничем себя с ней не связал, а если раза два обнимал и целовал на гулянье – что с того? В играх многое допускается. Нет, Дорофею он ничем не обидел, ухаживал, как за другими девушками в станице, и только. Не так уж тянуло его к ней, да и жениться на бедной батя не позволил бы.
Как примет отец невесту из рабочей среды, Нестор представлял тоже хорошо. Но тут он готов был на любые крайности, хотя еще не выяснил ни отношения к себе своей избранницы, ни ее семейного положения. Почему это старики привыкли своей державной властью – без любви и согласия молодых – заключать брачные сделки? Может, дочка не дотянула до «барышни», с ребятишками в мяч, а то и в куклы играет, но пробьет час, и поведут ее под венец, боязливо-покорную, как овечку. С «кавалерами» разговор тоже недолгий.
Собираясь обратно в Оренбург (отпуск кончался завтра), Нестор бестолково бродил то по дому, где в чисто прибранных комнатах нежилось февральское солнышко, то по широкому двору с просторным навесом, под которым громоздились тарантасы, фургоны, глубокие кошевки, розвальни и санки, щегольские, с круто выгнутым передком. Посмотрел он, не видя, на все эти добротные повозки и пошел к утепленной летней кухне, будто привлеченный живо повалившими из трубы клубами дыма, но на полпути свернул к высокому амбару с пристройкой – клетью, куда укладывали спать после бурной свадьбы старшего брата Михаила с его молодайкой. Сейчас оттуда доносились азартные в торговом споре голоса отца и татар-покупателей, и это остановило Нестора, еще не готового для серьезного объяснения с родителями.
«Фрося-то ничего ведь мне не сказала. Я-то нужен ли ей? Вдруг она уже просватана…»
Глядя на прочно, по-хозяйски устроенный двор, Нестор вспомнил рассказы о женитьбе папани. Как загнанный заяц, метался по этому двору, спасаясь от побоев отца и старшего брата, семнадцатилетний Григорий Шеломинцев, не хотевший ехать к венцу. Так и венчался весь в синяках, со слезами на глазах. А сейчас вон как шумит, охрипший с похмелья, того и гляди, вытолкает татар взашей. Но те не из робких и свое возьмут.
Вот уже работники стали выносить на помост перед амбаром и клетью тюки грязной овечьей шерсти и гремящие на морозе, широко распластанные бычьи, бараньи, козьи шкуры.
Мать, черноглазая, нос кнопочкой, проплыла из кухни в дом с жаровней в руках, и чем-то вкусным пахнуло на Нестора. Дородностью Домну Лукьяновну бог не обидел, но она легко носила свое плотное, большое тело. Нестор вспомнил, что злые языки поговаривали, будто отец, который был моложе жены лет на семь, гулял от нее раньше и крепко ее поколачивал. Однако она судьбой была довольна, сора из избы не выносила, запретив и детям рассказывать о семейных вспышках. Только с невесткой Аглаидой ужиться не могла, и Михаил еще до ухода на фронт поселился с женой и двумя малышами на степном хуторе. Там они и жили до сих пор, приезжая в станицу только в банные дни. Баня, топившаяся по-белому, тоже стояла в переднем дворе, окруженная башнями кизяков, поленницами дров и хвороста. Младшая сестра Харитина выносила из ее дверей колодки с узлами отжатого белья, исходившего паром на морозе, проворно ставила их на сани, пока работница Айша – здоровенная, как солдат, киргизка, в туго подпоясанном бешмете – заводила в оглобли смирного мерина. Закончив нелегкое свое дело, Харитина подлетела к Нестору, все так же в задумчивой нерешительности ходившему по двору.
– Уже собрался, братец? – спросила она, любуясь его молодецки-воинским видом. – А мне маманя такой урок задала, что я и поговорить с тобой толком не успела. Смотри, каку гору мы с Айшой накрутили, будто век не стирались. Да и то баушка все строжится: половики побей вальком, сполосни да опять поколоти. Больно-то мне нужно зазря силу у проруби мотать!
Нестор, еще не выведенный из глубокого раздумья этим щебетаньем, с удовольствием смотрел на вертлявую курносенькую сестренку, но слова ее отскакивали от него, как горох от стенки.
– Ты бы не больно спешил. Не уйдет твой Оренбург! Мы через часик-другой управимся на речке, тогда я тебе такое расскажу!.. – скороговоркой сыпала Харитина.
В коричневых глазах ее так и прыгали чертенята, пухлые губы готовно складывались в улыбку, хотя в присутствии родителей она казалась тихоней. Она была без рукавичек, влажные после банной парной духоты светлые волосы, завиваясь колечками, налезали на байковый платок, из-под длинной стеганой юбки блестели на валенках новые галоши – подарок Нестора. Словом, прачка хоть куда!
«Оставлю им свою женку, они и ее запрягут в эту чертову бричку!» – мелькнуло у Нестора.
Вот Харитина – прямо из бани, накинув на нижнюю рубашку юбку, побежит потная к проруби на старице Илека и будет под морозным ветром полоскать белье в ледяной воде.
«Наши-то привычные, а Фросе каково будет?» – точно о вполне реальном деле продолжал раздумывать молодой казак.
– Ты вроде чумовой сегодня? – заметила Харитина и сразу забеспокоилась. – Или случилось что? О чем ты закручинился?
– Насчет женитьбы соображаю… – бухнул Нестор.
Харитина от неожиданности присела:
– Уже разговаривал с батей?
– А ты откуда знаешь, что я собираюсь потолковать с ним?
– На вот! Разговоров тут было-о, ровно на станичном круге!
– О чем… разговоры?
– Да о женитьбе…
– Чьей женитьбе-то? – всполошился Нестор, очнувшись от своих мечтаний.
– Знамо, не Антошкиной. О тебе прикидывают, решают. Неонилу Одноглазову батя в невестки прочит.
– Пусть он ее за себя возьмет!
– Ой, как можно! – Харитина пугливо оглянулась на поднавес у амбара и клети, где росла да росла груда мерзлых кож и гора грязно-серой и черной шерсти. – Услышит, он тебе задаст!
– Ничего он мне не задаст! Не те времена. Самому-то не больно поглянулось, когда его палками под венец загоняли.
Забыв про обед, не простясь с родителями, Нестор прошел во внутренние дворы – базы, отгороженные один от другого плотными плетнями. В крытых базках сразу за баней гомонила птица. Особенно надрывались, кричали гуси и утки, тосковавшие по раздолью озера Баклуши, куда их не пускали с тех пор, как мороз сковал его водное зеркало, соединив и забереги речушки, меж которых, шевеля, точно щука темной хребтиной, долго двигалась в овраге тугая струя беренксайских родников. Так и рвались к прорубям, горластые, не боясь унырнуть под лед. Рядом за плетешком хрюкали свиньи, дальше густым паром исходили коровьи и воловьи базы.
Сквозь устоявшийся кисловато-теплый запах навоза пробивался тонкий, но сильный аромат лугового сена, наваленного на крышах базов, напомнивший Нестору о веселом раздолье летнего сенокоса. Но это мимолетное воспоминание лишь усилило горечь обиды, вызванной грубым прикосновением близких людей к впервые возникшей мечте о счастье, еще не совсем осознанной, но уже дорогой, – и оттого сжалось сердце, защипало, заело глаза. Однако Нестор только крякнул, словно ударил клинком по лозе, и рванул ворота конского база, где стоял его Белоног.








