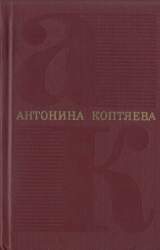
Текст книги "Собрание сочинений. Том 6. На Урале-реке : роман. По следам Ермака : очерк"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 36 страниц)
– На улице поймал.
– Ишь ты, ощерился, хорек! А ну марш вперед, в станице разберемся.
После этих слов Костя понял, что самое страшное ждет его, когда он встретится с Домашкой, у которой купил гусака.
Одно его спасение в звании вора. А если уплатил, зачем спрятался в овраге, вершина которого находится недалеко от позиций большевиков?
Подгоняемый ударами нагаек, Костя бежал рядом с лошадью урядника, держа под мышкой злополучного гуся – хотел было бросить его, но под угрозой выстрела поднял опять, – бежал и чуть не стонал от мучительного сознания совершенной и уже непоправимой глупости, непростительной для настоящего разведчика. А казаки вскоре будто забыли о нем и под дробный перестук лошадиных копыт по укатанной полозьями дороге громко говорили о последнем бое, о меткости Ходакова, командира красной батареи, слава о котором разносилась по фронту вместе с дымами его выстрелов.
– Бьет, вражина, в самую точку.
– Кладет снаряды, как патроны в обойму.
– Жарко было вчерась!
– Сегодня тоже трепанули наших. Долго ишо икаться будет.
– Атаман обещал подмогу выслать к Сырту.
– Щуплые они, эти юнкерья. А гимназистов и вовсе не посылать бы в окопы: хуже баб.
– У красных девчонки-сестры до чего отчаянные…
– А всего войска у Кобозева, говорят, двадцать тыщ…
– Насобирали! Солдаты – глядеть не на что: шваль да рвань, а так и прут на рожон.
Жгуче-морозный ветер бил в лицо, выжимая слезы, застывавшие на ресницах, но каким родным он казался теперь Косте, как и небо, слабо голубевшее между серыми зимними облаками. Может быть, уже сегодня все это исчезнет навсегда… Но на западе, где полыхает красная заря, то и дело бухают тяжелые выстрелы. Придут, придут сюда по следам Кости его товарищи. И Алибий Джангильдин, и Коростелев… Только станица-то уже надвигается кизячными дымками, мычаньем стад, идущих на водопой, и гуси (чтоб они сдохли!) звонко гогочут из края в край.
От первых домов погнались за конным взводом казачата, заскакивали вперед, заглядывая в лицо Кости, запаленного бегом, с детской веселой жестокостью бросали в него комьями мерзлого снега и шовяхами. И снова он думал, давя подступавшие рыдания: «Из-за своей дурости погибаю! Боец Красной гвардии, а, как мальчишка, попался!»
– Ну, сказывай, кто ты есть? – вперив сторожкий взгляд в Костю, спросил у избы правления станичный атаман – седобородый казак, окруженный такими же бородачами.
– Человек.
– Был бы человек, не прятался бы по оврагам, ровно волк голодный. Где птицу взял?
– Украл.
Собрание круга возмущенно загудело:
– Каков шельмец!
– Дерзкой, язви его! Знать, набил руку на воровстве…
– Чего с ним толковать! Пристрелить по законам военного время – и крышка!
– На што грех на душу брать по пустякам! Всыпать плетюгов – и айда.
– Убить гниду – в том греха нету.
– В каком дворе взял гуся?
– Не примечал в каком. Спросите, где недосчитались.
– Вона! У нас которы овцам счету не знают!
– Разобрались, господа старики? – Вахмистр, прискакавший со взводом, подъехал к кругу, ведя в поводу двух оседланных скакунов.
«Значит, за лошадьми пригнали», – машинально отметил Костя и насторожился, заслышав в улице девичий смех и говор.
Он не знал, что женщинам, как и молодым парням, самовольное появление на казачьем круге воспрещено, и отвернулся, чтобы не встретиться с любопытными взглядами девчат. Но вахмистр, сидевший на лошади, оглядев всю улицу и добротно одетых стариков, и Костю в тесном окружении их, и группу девушек, судачивших о чем-то у ближних ворот, сразу оценил обстановку, зычно гаркнул:
– Красавицы, не встречали ли вы сегодня в станице вот этого молодчика? Не слыхали, как серый волк гусей крал?
Девчата подошли поближе, а Костя ссутулился, опустив голову.
Вахмистр подъехал к нему, сунул сложенной нагайкой под подбородок:
– Гляди веселей, чего застеснялся? Боишься, хозяюшка за гусака глаза выцарапат? Не бойсь! Барышни у нас воспитанные, к порядку приученные: у себя на базу вора застанут – вилами запыряют, а когда он на круге – ручки в рукава. Смотрите, барышни наши дорогие, на этого вора!..
– Да он вовсе не вор! – сказала толстощекая Домашка, выступив вперед, и у Кости будто оборвалось сердце. – Он мне уплатил за гуся. Не торговался даже.
Костя выпрямился, пронизывающе-требовательно посмотрел в ярко-синие узкие глаза девушки:
– Не знаю я тебя, и никаких денег я тебе не давал.
Домашка опешила, наморщила гладкий низенький лоб, с усилием соображая: парня привели на круг, позорят, как вора, плетей ему не миновать, а он не хочет признаваться, что честно купил гуся, и ее же брехуньей выставляет перед людьми.
– Да ты, видать, умом тронутый! – вскипела она. – Поглядите, господа старики, у гуся одна лапка короче и крива. Хроменький он был…
Один из стариков взял гуся, растягивая, как гармошку, его крылья, высоко поднял. Со всех сторон потянулись к птице корявые руки землеробов, но и так уже было видно, что лапка у гуся действительно покалеченная.
Притихший было круг загремел от смеха:
– От Домашка добра хозяйка будет: всучила парню птицу с изъяном, а он и не торговался.
– Стой! Стой! – завопил вахмистр, хотя никто и не двигался с места. – Теперь понятно, почему этот молодчик с законной покупкой хоронился в овраге. К большевикам он пробирался, сучий сын. И никакой он не вор, господа старики, а самый настоящий большевицкий шпиен.
Костя еле на ногах устоял, но не произнес ни слова. И что можно было сказать?!
– Тогда другой разговор! – Станичный атаман кивнул своим старикам, которые мигом скрутили Косте руки и обыскали его. – Айдате все в избу!
Старики, подталкивая Костю, с азартным шумом устремились к дверям станичного правления. Привязав лошадей к воротним кольцам, взбежал на высокое крыльцо и вахмистр, грохая сапогами по ступеням, затасканным снегом.
Теплый пар, вырвавшийся из дома, был тут же развеян студеным ветром.
63
– Сказывай, зачем ты сюда явился? – спросил вахмистр, багровея лицом и обдавая Костю винным перегаром. – Кто тебя направил в наши тылы?
Молчит Костя, как воды в рот набрал. Все он тут высмотрел: склады фуража и мяса, клади хлеба, табуны лошадей, пригнанных для «ремонта», запасы «зарядов», из-за которых так беспокоилась «бабуня» Домашки, помнит все, о чем наказывали ему в штабе перед уходом, но молчит. И прямо в сомкнутый рот, по губам, брызнувшим кровью, по хрустнувшим зубам пришелся умелый удар, отбросивший его под лавку. Оттуда выбил его атаман пинком сапога. Костя вскочил, но удар в скулу опять сшиб его с ног: жестоко, сноровисто бил широкоплечий вахмистр.
– Это тебе задаток, – пояснил он, отдуваясь, – а теперь говори: кто тебя послал в Павловку?
Костя посмотрел в близко подсунувшуюся красную рожу. Убить можно было бы таким взглядом, но, неожиданно осененный, сказал со скрытой насмешкой, с трудом разомкнув окровавленные губы:
– Послал офицер бывшей царской армии… Теперь наш полковник… Захотел гусятины жареной. А как красный теперь командир, ворованного… или силком отобранного приносить не велел.
Какую-то минуту старики и вахмистр, сбитые с толку, помолчали.
– Ну не хитрюга ли?! – злорадно восхитился вахмистр, снова обретая дар речи. – Он, стало быть, и гуся-то купил для отвода глаз. Ну, большевицкий гаденыш (зелен ты одурачивать бывалого коренного казака!), сказывай, сколько войска у вашего Кобозева? Сколько орудиев и пулеметов?
– Я их не считал. Не умею считать.
– Зато я умею. Сымите-ка с него дерюжку! Рубаху я сам спущу вместе со шкурой…
Вскоре Костя будто под землю провалился, оглушенный, задавленный нестерпимой болью, но его окатили ледяной водой, и он очнулся, и вместе со смертной мукой в сознании его обжигающе остро возник разговор в штабном вагоне, когда Кобозев, смеясь, говорил, что «слухач» перехватил его телеграмму, добавил еще один нуль к числу бойцов отряда и так сделал войско в 20 000 человек. Дутовцы же этой цифре поверили…
Удар – взрыв дикой боли. Провал. Плеск студеной воды – и опять удар, разрывающий сердце. Крутятся в голове цифры: две тысячи, двадцать тысяч, сталкиваются круглые нули, высекая огненные брызги. И в этом полубреду кто-то говорит:
– Сейчас у нас три тысячи красногвардейцев. В отряде Джангильдина пятнадцать пулеметов. В отряде Павлова…
И так отчетливо возникли реальные цифры, что Косте показалось, будто он произнес их вслух, и от одного страха перед предательством он опять потерял сознание.
– Ничего… я не знаю, – прошептал он, когда к его заплывшим глазам снова наклонилось нечеловечески оскаленное лицо вахмистра, и уже не страх, а исступленная сумасшедшая радость завладела им, на минуту вытеснив ощущение боли: его еще истязали, значит, он ничего не сказал и ни за что не скажет.
– Ну ладно, – бросил наконец умаявшийся вахмистр старикам, сочувственно, с пониманием дела следившим за допросом. – Тощой, а силен, мерзавец! Умеет держать язык за зубами… Я на рассвете вернусь и тогда вырву ему язык вместе с горлом. А до той поры пускай померзнет в каталажке…
Жесткие руки подхватили Костю под мышки и волоком потащили через порог, вниз по ступеням, через двор, заполненный сумеречными тенями…
Брякнул засов. Громыхнул замок. Проскрипели звонко на снегу шаги уходивших палачей.
Долго лежал Костя в холодной темноте, потом пошевелил руками, ощупал липкий от крови каменный пол, с огромным усилием отодрал от него размочаленную спину, сел и, уронив голову в колени, снова уплыл в небытие.
Очнулся он от холода, проникшего в самое сердце, от странного шуршания за дверью. Поскрипывал снег. Тихонько что-то позвякивало, потрескивало. Костя сел прямее, уставился в непроглядную темноту: кто там? Проснувшаяся ненависть помогла ему подняться, ощупью нашарил он дверной косяк и вдруг попал рукой в пустоту – щель. Дверь медленно приоткрылась, а в морозном просвете звезды и темная сопящая фигура, точь-в-точь медведь, вставший на дыбы. Костя, не рассуждая, шагнул еще, и сразу откуда-то сбоку протянулась быстрая девичья рука, крепко сжала его запястье…
Где-то за плетнями, за навалами не то снега, не то соломы на крышах скотных базов, где сонно шевелилась, вздыхала, тяжело переступала скотина, двое накинули Косте на голые плечи и спину чистую рубаху, завязали рукава узлом под подбородком, напялили и застегнули полушубок, нахлобучили шапку.
– Это и есть наш Микита, – торопливо шептала Домашка. – Он у нас недоумок и немтырь, но добрый. Что скажешь ему, то и сделат. Вот ломиком замок выворотил. У меня с вечера до полуночи душа изныла. Дернул нечистый сунуться на круг! Теперича все перебесились: свои же друг дружку лупят! Вон кака кутерьма идет на Сырте… А тут за хромого гусака измолотили человека. Да шло убить грозятся. Дорогу помнишь? Силов-то хватит шагать? А то Микита проводит…
– Доберусь. А ты?
– Что я? Не узнают. Рази подумают на меня, а Микита не выдаст. А и узнают – не беда. Ежели батя отлупит, стерплю. Чай, уж не расстреляют!
Костя пошел было, но повернул обратно, взял руку Домашки, неловко пожал.
– Ну тебя! – тихо рассердилась она. – Уходи скорей!
64
В двенадцать ночи красногвардейцы с матросами ворвались на станцию Сырт. Взята была после ожесточенного боя и водокачка. Неровный свет от горевших на путях вагонов освещал скачущих сломя голову казаков с шашками наголо, отстреливавшихся на бегу юнкеров. Ускакали следом вражьи батарейцы и ездовые, обрубив гужи и постромки, побросав пушки, умчались штабные и обозники.
Красногвардейцы, в прожженных у костров шинелях, ватниках, бухарских халатах, одеялах, накинутых на плечи и припоясанных к чреслам, неудержимо растекались по перрону станции и поселку. Яростно шагали разгоряченные матросы, далеко приметные в своих бушлатах с перекрещенными на груди пулеметными лентами. На многих были повязки, олубеневшие от крови.
Павлов наскочил на Кобозева стремительно, потрясая наганом, бешено сверкая глазами:
– Ура! Наша берет!..
Кобозев, сам еще не остывший от азарта схватки, оглянулся на красногвардейцев, вместе с матросами прочесывавших перрон, поднял над головой винтовку.
– С победой, товарищи! Еще один бросок, и мы будем в Оренбурге.
Разноголосое «ура!» взмыло в ответ под пологом плывущего сизого дыма, расшитого червлеными искрами.
– Вот где тепло-то! – говорили пестро одетые юнцы и кудлатые бородачи, теснясь возле горевших вагонов, быстро превращавшихся в груды ярко тлевших досок.
Лица, прокопченные порохом и дымом, обожженные морозом, сияли: наконец-то отдых, и, может быть, до утра.
– Возьмем еще Каргалу – и дома.
– Щей бы горячих…
– Чайку бы!..
– Чаек с хлебом мы и здесь сварганим. Поди-ка, казаки не все стрескали.
– Эх, в баню бы с веничком!..
– Когда по-черному топится, еще лучше: у нас в деревне каменка так и стреляет паром.
– Ка-ак шарахнет рядом – наших деповских будто не бывало. Шесть человек…
– Что шесть! Тут большие сотни полегли.
– Мерзляков дутовских по всем окопам – не пролезешь…
– Рубанул он моего земляка – и голова слетела. А я его самого штыком достиг.
– Товарищи, подошли походные кухни! – крикнул Александр Коростелев. – Нашлись в складах у казаков крупа и сало. Кулеш будет богатый. И водки выдадим по доброй чарке.
Тут уж грянуло дружное «ура!». И пошло греметь отголосками по путям, перекинулось в поселок, где коченели от страха сторонники Дутова, ожидая на постой красных гвардейцев.
Вихрастый паренек с винтовкой за плечами, гревший босые ноги у огнища, скинув вконец разбитые лапти, так босиком и ударился плясать по притоптанному снегу, пока боец из своего подразделения не просунулся сквозь смеющуюся толпу и не поманил его разношенными, но еще целехонькими валенками.
В шуме и веселой толкотне у дымившихся кухонь стоял Джангильдин, в забывчивости держа пустой котелок и ложку. Все о Косте он думал, которого полюбил, как родного сына. Александр Коростелев подошел к нему, взял под локоть:
– О чем загрустил? Айда, покуда из котлов остатки не вычерпали. Твой Бахтигорай как настоящий этапный комендант действует в поселке, но, видно, не придется нам здесь нежиться на постое. Сейчас я разговаривал с Павловым и Кобозевым – через полчаса военный совет. Павлов предлагает немедленно двигаться дальше, пока казаки не опомнились от удара. Сырт у них был самым сильным укреплением, и они еще не подготовились для отпора на ближних подступах к Оренбургу. Павлов думает наступать дальше по трем направлениям: матросы по железной дороге, тебе с Бахтигораем идти к Павловской станице, мы, железнодорожники, выступим с другой стороны линии.
– На Павловку? Хорошо! Я за своего Костю тряхну казаков. Убили они его – факт!
– Что же теперь делать! Помнишь, говорили о здешнем телеграфисте Василии Яковлевиче, я его еще Васютой называл (очень уж он молодо выглядел). Так вот рабочие на станции сказали, будто уводили казаки с телеграфа одного паренька, арестованного ими. Конечно, это Васюта, тот «слухач», которого Петр Алексеевич назвал драгоценным мальчиком.
Подошел Павлов, заглянул в пустой котелок Джангильдина:
– Вы, товарищ Алибий, похоже, голодовку объявили? Скорее заправляйтесь. Вернулась с разъезда разведка. Говорят, закрепляются казаки впереди. Готовят нам жаркую встречу с трехдюймовыми пушками. Что вы на это скажете?
– Тут, на Сырте, пушек было более чем достаточно, однако сумели мы… Взяли.
65
Дутов с трудом читал телеграмму:
«Красные, не задерживаясь на Сырте, выступили по направлению к Оренбургу тремя отдельными отрядами: эшелонами по линии, трактом на станицу Павловскую и по другую сторону железной дороги. Продвинулись с жестокими боями и, сломив наше сопротивление, взяли Каргалу».
В глазах рябило, и так билось сердце, что руки тряслись, однако не от приступа страха: ярость душила Дутова.
Все эти дни он в спешном порядке формировал новые отряды и отправлял их на фронт, стремясь сдержать натиск противника, но его усилия ослаблялись непокорством казаков-фронтовиков, не хотевших воевать с Советской властью. Сковывало энергию атамана и упорство забастовщиков. Машинистов и кочегаров приводили на паровозы под конвоем, и все равно они умудрялись или сбежать, или устроить в пути какую-нибудь аварию. Штрейкбрехеров награждали, платили им бешеные деньги, но их тоже приходилось сопровождать вооруженным казакам, чтобы по дороге на вокзал с ними не расправились рабочие пикеты. Участились поломки вагонов, простои паровозов, неисправности явно поврежденных путей. Забастовщиков уговаривали, пороли, арестовывали, некоторых расстреляли для острастки, но рабочие не повиновались. Какие-то мальчишки и девчонки – оголтелые лазутчики – лезли из всех щелей, сообщая красным о каждом движении дутовцев.
«Не мудрено, что не удалось удержать Сырт!..» – Дутов оттолкнул тарелку, поставленную перед ним горничной, сорвал салфетку с груди и, смяв, швырнул на скатерть. Звякнула, обезножев, хрустальная рюмка, опрокинулась серебряная солонка. Жена посмотрела испуганно, незаметно перекрестила тонкими пальцами рассыпавшуюся соль. А Дутов, перекипев в короткой вспышке, со странным спокойствием уставился на нее тяжелым, невидящим взором:
– Взята Каргала. Придется сражаться в Оренбурге.
Мертвенно побледнев, женщина метнулась было в сторону детской, но покорно замерла, повинуясь властному окрику мужа:
– Детям ни слова!
Звонок телефона заставил вздрогнуть обоих.
Знакомый голос коменданта города, только обращение без всяких формальностей, без привычного подобострастия:
– Получено сообщение… Вооруженные отряды местных рабочих захватили станцию Оренбург… Казаки разбежались.
– Почему разбежались? Кто позволил? Где командиры?
В трубке тишина. Потом что-то пискнуло, и послышался тот же голос, но уже совсем растерянный:
– Нам тоже надо бежать!..
Дутов швырнул трубку и на мгновение остолбенел: торжествующе грозно заревели заводские гудки, так долго, так упорно молчавшие. Вдруг безмерно устав, атаман подошел к жене, сразу подавшейся к нему, погладил по плечу и со стыдом подумал: «Защиты ищет, а защитить не могу».
– Вы останетесь здесь. Что потребуется – к отцу Мефодию. Детей береги. И не бойся: они… большевики, вас не тронут. – Болезненно поморщился, подавляя судорогу в горле. – У них это… показной гуманизм. А мы скоро вернемся.
* * *
Бешено проскакал он со своей охраной к штабу по опустевшим улицам. Багрово светился закат, и на фоне тлевших над степью заревых пожарищ мрачно, чугун-но чернели большие доходные дома с редкими огоньками в окнах. Обреченно стояли особняки богачей. Жалко дребезжали колокола в церквах, напрасно призывая к вечерне: темно и слепо глядели на обезлюдевшие мостовые наглухо закрытые окна горожан. Никто еще не знал, что казачьи войска, оборонявшие подступы к городу, и гарнизон его получили приказ отступать на восток и на юг в степные форпосты оренбургского войска, но обыватели, присмиревшие после падения Сырта, вовсе затаились, заслышав перестрелку на вокзале и то, как вдруг победно, на всю округу затрубил мощный гудок главных мастерских, перекрывая голоса других заводов, мельниц и паровозов, поднялись, закипели рабочие окраины.
«Не удержались. Уронили казачью славу. Не оправдали доверия станичников, надежд всего народа христианского!» Тяжесть этих мыслей так и давила атамана, когда он входил в здание штаба.
Надо было забрать деньги из несгораемых шкафов… Деньги и секретные документы. Но, твердо помня об этом, Дутов двигался машинально, как автомат. Словно отходная молитва, звучали в его ушах слова отца Мефодия, теперь архиепископа оренбургского, к которому он заскочил по пути, чтобы вручить ему судьбу детей и жены. Мефодий, с поразительным самообладанием встретивший весть о разгроме на Сырте, остался верен себе и сейчас, узнав от атамана о поспешном отступлении казачьего войска, об эвакуации штаба.
– Примем, как наказание господне, тяжкие испытания, выпавшие на долю нашу. Верою святою укрепимся и выстоим там, где сила оружия земного поколеблена. – И уже просто, буднично и оттого еще более уничтожающе добавил: – О семействе вашем позаботимся. Ведомо и нам из верных источников, что не взыскивают с младенцев богом проклятые красные варвары.
– Не смогут они удержать власть, – вспыхнув, сказал атаман. – Народ восстанет против узурпаторов.
– Народ темен и дик, а десница власть имущего тяжела.
– Понимаю, отец Мефодий. Мы вернемся во всеоружии.
66
Тихо в штабе, пусто. Пусто и на душе.
Легко сказать: вернемся во всеоружии. Но как это сделать, когда казачье войско превратилось в стадо бегущих овец? Сдали вокзал городским оборванцам… Позор!
Дутов учинял в своем штабе настоящий разгром. Со звоном открывались замки несгораемых шкафов, летели на стол пачки секретных писем, документов, деньги. Разбирать было некогда. Торопясь и прислушиваясь, он рассовывал по карманам деньги, тискал в портфель бумаги, бросал драгоценные вещи в переметные кожаные сумы.
Так все копилось, будто между прочим: то дары купечества, то промышленники и фабриканты подкрепляли свои челобитные… Рука дающего не оскудевает…
Бросился в глаза листок настольного календаря: 17 января 1918 года.
На исходе этот зимний день. Последний день власти казачьего атамана.
– Последний сегодня. Но борьба еще впереди. Пусть испытают эти трусы, каково-то сладко живется при комиссарах! Мы придем и поистине железной десницей наведем порядок. – Большим, но уже рыхловатым кулаком Дутов погрозил в ту сторону, откуда входили в пригород отряды матросов и железнодорожников, по-волчьи повернувшись, посмотрел сухими ожесточенными глазами на икону, перекрестился, склонив в поклоне непокорную шею, потрогал туго набитые карманы, перекинутый через плечо планшет, хотел уже позвать ординарца – вынести тяжелые сумы, но невольно замедлил…
Серая крыса, шлепнув о пол мягким животом, свалилась из-за драпировки с подоконника, уставилась на атамана бусинками свирепых глаз и, важно волоча рубчатый волосатый хвост, направилась к шкафчику, где обычно ставили на ночь холодную закуску.
– Брысь, погань! – Дутов швырнул книгой, но крыса, обнаглевшая в последнее время, когда он часто уезжал, спокойно обнюхала ее, и в этой безбоязненности было тоже что-то зловещее…
Дутов резко отвернулся – позвал ординарца. Лошади были уже поданы, и, подходя к двери, он услышал, как, переминаясь, били у подъезда копытами нетерпеливые пристяжные.
Преданный ординарец заботливо окутал его колени медвежьей полостью, подоткнув ее снизу, и сам, цепко придерживая винтовку, сел рядом в широкую кошеву, ерзавшую от нетерпения резвых лошадей. Тронулись. Отряд охраны поскакал следом, и невольно пришло в голову: не все явились, и эти отстанут по дороге к Верхнеуральску в своих станицах, – что нужды казакам охранять погоревшего атамана?!
Не звенел колокольчик, не плясали, как бывало, валдайские бубенцы: молча покачивалась, подрагивала дуга, держа в траурном полуовале высоко вскинутую голову коренного.
Кругом уже раскинулась степь. Синели мертво сугробы в тусклом свете волчьего солнца – месяца, разбойно смотревшего из грязно-желтой мглы. Косо стелясь по наезженной дороге, бежали рядом с вороной тройкой живых коней их черные чудовищные тени.
Ветер дул с полуночи, но другое леденило кровь в жилах: позади, под белым саваном снегов, остались лучшие сыны казачьего войска. Ни огонька в голых лесах речных пойм, затаились в страхе казачьи станицы: что-то принесут им на остриях штыков красногвардейцы и их главари – комиссары? И снова со стыдом думал Дутов:
«Не устояли. Обманули общее доверие!»
В Неженке отряд начал таять, и стало известно, что тут был сход, на котором казаки-фронтовики кричали, что надобно задержать и арестовать атамана.
Гордый в своем властолюбии, Дутов еще обнадеживал себя мыслями о былой крепости казачества, о его врожденной воинственности, но в Верхне-Озерной узнал, что за его поимку будто бы обещана большевиками денежная награда, и уже многие казаки поколебались в своей верности войсковому правлению. Дутов рассвирепел, явился на круг, бросил папаху оземь и с гневом сказал:
– Что-то вы вроде отощали, станичники, смотрите на меня, как голодные волки. Неужели так бедно у вас, что не дает вам покоя большевистская награда? Ну что ж, заработайте на моей голове. Рубите ее и везите в мешке с повинной.
Обвел злобно сверкающим взглядом собравшихся. Молодые отвели глаза, а старики засуетились, поспешили накормить ужином, подать лучших перекладных, но и в этой торопливой услужливости сказывалось лишь желание поскорее избавиться от опасного теперь гостя, сквозил страх за свое благополучие.
Дальше тройка помчалась по берегу Урала к живописному Губерлинскому ущелью, по бывшей царской дороге, вдоль причудливо заиндевелого пойменного леса, где проезжал по пути в Японию, будучи еще наследником императорского престола, Николай Второй. Вся губерния сотрясалась тогда от грома салютов, от грохота копыт, от казачьих песен и лихого свиста. Смотры. Молебны. Подарки. Ордена. Балы. Какая веселая, какая полная жизнь шла в Оренбурге, пока тысячи каторжников и рабочих день и ночь дробили кувалдами камни по дну Губерлинского ущелья, чтобы проложить дорогу царскому поезду. Потом пышные проводы. Толпы народа в степных станицах, а здесь по сопкам, поросшим жесткой травой, скалящим черно-серые каменные зубы по обе стороны ущелья, гарцевали на всем пути до поселка Хабарного и дальше до города Орска лучшие джигиты казачьего войска.
«Ах, Россия-матушка, протянувшая руку Сибири через Уральский пояс, через хлебные, рыбные, богатые стадами и табунами оренбургские степи, прими поклон от сынов древнего Яика», – так начиналась одна из статей Дутова в «Оренбургском казачьем вестнике»… Все позади. Не приняла атамана Россия. И впереди одна зыбкая мгла.
«Как было не поклониться нам матери-России, которая породила двенадцать казачьих войск, каждое на своей привольной земле? Неужели смирится, сойдет на нет такая силища?»
В поселке Хабарном, в семнадцати километрах от Орска, вокруг которого уже стояли рабочие пикеты, Дутова ждало самое постыдное унижение: казаки на круге решили арестовать его, и он с ходу попал в недружелюбно настроенную толпу.
Насквозь прохваченный ознобом, стоял он в кошеве, вытянувшись во весь небогатый рост, будто не замечая казаков, державших под уздцы его лошадей, смотрел поверх толпы на добротные дома, на заснеженные голые предгорья у входа в Губерлинское ущелье, потом обернулся к Уралу, спавшему рядом в заваленных сугробами лесах, низко поклонился ему и сказал:
– Ну что ж! Арестовывайте!
Но казаки и здесь отступили, смущенные его необычным поведением, а один несмело промолвил:
– Мы не думали, что вы такой…
– Я всегда такой. Не моя вина в том, что дрогнуло перед вшивой ордой казачье войско.
Выехав из Хабарного только с самыми верными офицерами и ординарцем, он снова вспомнил сияющий осенний день в Оренбурге, когда ему торжественно вручали атаманскую булаву. Как хорошо все начиналось, суля славу спасителю России, делая доступными для него любые радости жизни! А Рогнеда? Ее огненные глаза, голос, мощный и нежный: «О, если бы никогда я вновь не просыпалась…»
Да, после такого падения, после такого страшного разочарования хотелось только одного: уснуть и не проснуться.
Дутов потрогал револьвер в нахолодавшей кобуре и гневно отдернул руку: «Не бывать тому! Мы еще вернемся. Мы заставим это хамье дорогой ценой расплатиться за все. Не будет России царской; но не быть ей и большевистской!»
67
Утром 18 января в Оренбург входили отряды бузулукской Красной гвардии…
Дедушка Арефий, без шапки, в развевавшейся на ветру рубахе, не чуя холода, бежал навстречу красногвардейцам. Слезы застилали ему глаза, и он спотыкался, падал и снова бежал, шаркая разбитыми пимами.
– Голубчики!.. Родимые!.. – смеясь, и плача, и не замечая своей слабости, твердил он, когда крепкие руки обхватили его ребрастые бока и тощие плечи. – Дожили… Дождались!..
Со всех сторон сбегались в рассветных сумерках к отряду женщины, старики, дети. Пашка и Гераська, при захвате вокзала исполнявшие обязанности разведчиков, вели себя как все их ровесники-мальчишки: врезались в самую гущу идущих с песнями бойцов, хватались за приклады винтовок, жевали скудные, но от души преподнесенные гостинцы.
Смело мы в бой пойдем
за власть Советов… —
недружно, но громко пели красногвардейцы.
Тетка Палага, держась за рукав Кости, шла рядом, смотрела на него и все не могла поверить, что этот вытянувшийся парень в полушубке с чужого плеча, с распухшим лицом, покрытым кровоподтеками, – ее «старшенькой».
– Как они тебя, Костенька!.. Ну ин жив остался!
Маленькая Антонида в полушалке и платке, туго стянутом узлом на спине, тоже семенила возле брата. Отстав от бойцов, идущих вольным строем по ухабистой дороге, Костя завернул с матерью к родным землянкам, а отряд вошел в распахнутые ворота завода, где собрались рабочие. Митинг возник почти стихийно.
– Мы ждали дня победы, как праздника. Но праздник этот не пришел к нам милостью божьей. Мы его завоевали. Кровью своих братьев. Напряжением всех сил рабочего класса и беднейшего крестьянства, – сказал неузнаваемо худой и обветренный Александр Коростелев, окидывая собравшихся мягко светившимся взглядом. – Земной поклон вам, товарищи, за железную стойкость в борьбе. Жаль только, что успел удрать Дутов, улизнул от справедливого суда народного.
– Дутова мы упустили, точно, но сейчас без войска он не страшный, – ответил на упрек Александра Андриан Левашов. – Пускай бежит, все равно никуда не денется. Покуда возле него стража стояла с пулеметами, зачем нам было своих людей на расстрел подсовывать? Мы казачишек знаем с их кулацкой душонкой: силен был Дутов – льнули к нему, проиграл – мигом отвалятся. Теперь они атамана сами нам выдадут… А чтобы не ожила опять эта контра, надо нам трудиться не покладая рук, но оставаться при оружии.
После митинга приступили к выдаче хлеба. Многие жители Нахаловки, принимая мерзлые караваи от красногвардейцев, крестились, но никто не одергивал их за это: каждый выражал свои чувства по-своему. Федор Туранин тоже нес домой хлеб и чуть было не прошел мимо Кости. Только радостно оживленное лицо жены подсказало Федору, кто перед ним. Передав ей хлеб, Федор обнял сына, но по тому, как тот дрогнул, понял: нагайками обработан. Однако кузнец даже усмехнулся, отвечая на вымученную улыбку изо всех сил бодрившегося Кости.
– Спасибо, сынок! Молодец!
Выбрался из землянки и Митя, вскинул большие руки на плечи Кости, которого узнал по голосу, и ахнул, увидев, как его отделали.
– Это ничего, – заверил Костя, – на спине хуже – тронуть нельзя, а все будто сговорились, тискают, аж до слез!
– Значит, и ты сподобился! – Дедушка Арефий, успевший малость приодеться, сочувственно покачал головой: – Пороть казачишки мастера. Ладно, что руки-ноги не повыдергивали, злодеи, а спина до свадьбы заживет. Теперь и наш Митек пойдет на поправ. Слава богу: все живы, и я, старый хрен, при такой голодухе выдюжил. Однако ж, как это ты, Костя, сумел вырваться из ихних лап? Знать, не все в ус да в рыло, ино и мимо.








