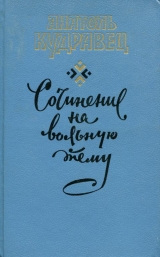
Текст книги "Сочинение на вольную тему"
Автор книги: Анатолий Кудравец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 32 страниц)
IX
Обратный путь Игнат выбрал так, чтобы пройти мимо колхозного двора. Дома Казановича, в котором до войны находилось правление, не было. От него остался лишь фундамент, несколько гнилых дубовых подвалин да горы раскисшей глины – на том месте, где некогда стояли выложенные белым кафелем печи. Амбары и конюшни возвышались на прежних своих местах, сад зачах вконец. После страшной зимы сорокового года все думалось: деревья оправятся – весной они укрылись листвой, некоторые даже зацвели. Затем начали усыхать. Сухостой посрезали на дрова, и правильно сделали – какой толк из вымерзшего сада. Неприятно удивило Игната иное: больше половины старой липовой обсады оказалось вырезано. Зачем было глумиться так? Нужда в дровах? Так ведь их кругом, куда ни посмотришь – только руби да таскай.
Дома спросил у Марины:
– Когда это успели липовую обсаду порешить и зачем?
– Тогда же, в войну, – ответила она и спокойно пояснила: – Кто на ночевки, кто на кадушку-липовку, кто на севалку, а кто и на дрова.
– Вопщетки, раз уж пошло так, то давай и дальше – режь, круши, жги – война все спишет! – ворчал он себе под нос и нервно ходил из угла в угол хаты.
Быть может, Игнат и забыл бы про те липы: спилили – ну и спилили! – однако через день Леник примчался из школы и, как великую радость, сообщил:
– Витик Полин еще одну липу шахнул. Всю дорогу было завалил. Теперь уже прибрал – только мелкие ветки остались.
Игнат не выдержал, решил пойти и объяснить хлопцу, что можно делать, а что негоже.
– Куда ты пойдешь? С детьми биться? – попыталась остановить его Марина. – Сама одна да их двое – и обшить, и обмыть, и накормить. Что бы она делала без Витика?..
Игнат внимательно посмотрел на жену, размышляя, как быть, и все-таки пошел.
Полина хата стояла через три двора. Распиленная на кругляки липа лежала под изгородью на улице. Сразу видно было: около дерева походила не мужская рука – и слабая, и неумелая. Какая там толщина сука, а на него замахивалась раза три-четыре и топор пускала не у самого ствола, так что обрубки торчали, как у паленой свиньи уши.
Шел Игнат с намерением хотя бы отчитать хлопца, вразумить, чтобы больше не делал так, а посмотрел на эту слабосильную неумелую работу, и расхотелось что-либо говорить. Так и пошел бы дальше по селу, если бы на дворе не заметил Витика и Раю, Полину меньшую. Они стояли возле табуретки и ели помидоры – маленькие зеленые шарики, почти что завязь, которая по поздней поре не могла уже ни вырасти, ни вызреть. Брали эти зеленухи-помидорки, макали в крупную соль и с голодным жадным хрустом уплетали так, что брызги летели. Помидоры и соль. Игнату даже голову повело вбок от оскомины.
– Без хлеба?! – спросил, повернув во двор. – Да у вас животы болеть будут!
– С хлебом было бы вкусней… А бульба еще варится, – засмеялся Витик.
Рая согласно закивала головой: рот ее был набит зеленью.
Во двор выглянула из хаты Поля, удивилась:
– Игнат?!
– Ага, видишь, вопщетки… – он развел руками, кивнув на табуретку.
– Что делать… – Поля махнула рукой. – Заглянул, так, может, и в хату зайдешь? – то ли спросила, то ли пригласила она.
Игнат пошел за ней. Чисто вымытые сенцы. Высокий, старой работы комод у стены. В другой половине хаты тоже чистота и прохлада. Под рамками с фотографиями подвешены на нитках серебристые картонные рыбки, зайчики. Когда-то до войны вешали такие на новогоднюю елку в колхозном клубе.
– Ишь ты, уберегла! – подивился Игнат.
– Ага, остались, – просто ответила Поля.
На камельке в чугунке на треноге варилась картошка.
– Присаживайся, – мягко попросила Поля. – Когда еще зайдешь? Угостила бы, да хлеба нет. А может, выпьешь? Бульба зараз будет готова. – Поля старалась говорить весело, хотя давалось ей это нелегко.
– О чем ты говоришь… Да и знаешь, я никогда не был падок до нее… А чего это дымом тянет? – Игнат подошел к печи.
– Куда ж ему деваться… Труба треснула, не знаю, как и зиму перезимую.
По трубе едва не от самого потолка шла глубокая задымленная трещина. Через нее и выбивало дым в хату.
– Вопщетки, об этом надо было летом думать. Теперь же печь не станешь раскидывать.
– Думала, может, обожженного кирпича достану, – не поталанило. Так и вышли на осень.
– Надо сделать добрый замес глины и забить трещину, пока дожди не пошли. А летом обязательно надо перекладывать трубу. Крайне.
– Куда ни глянешь – всюду край достанешь, – грустно и безропотно согласилась Поля.
– Я тебе и советую: накопай глины да скажи мне. Разве можно так? – грубовато ответил Игнат.
На дворе не выдержал, спросил у Витика, кивнув на кругляки липы:
– Зачем ты ее свалил?
– На дрова.
– Мало кругом ольховника?
– Липа ближе. И все так делают, – Витик с недоумением пожал плечами.
– Все кинутся топиться – и ты за ними?
– Я не такой дурень…
Как и предсказывал Тимох, долго отсиживаться дома Игнату не дали. Как-то под вечер во двор заглянул председатель колхоза Змитрок Мелешка. Больше недели его не было на месте: ездил в область, оттуда аж под Гродно и вот воротился. И не один – пригнал лошадей.
Медлительный увалень с постоянной сонливостью на лице, он свою непростую председательскую службу исполнял довольно успешно. Всегда приходил к человеку с таким видом, будто давно уже с ним договорился о том, что надобно сделать, будто все уже было обговорено и договорено, оставалась лишь самая малость – кое-что уточнить или напомнить. И пока человек, ошеломленный таким неожиданным и бесцеремонным натиском, прикидывал, выгодно иль невыгодно предложение, с которым тот заявился, мерекал, как быть, соглашаться с ним или ссориться, председатель уже поплевывал на недокуренную папиросу, тщательно гасил ее и, спрятав окурок в белый, из трофейного дюраля, портсигар, шел дальше. И выходило так, что спорить, доказывать что-либо было и некогда и некому.
До войны Змитрок работал бригадиром в третьей бригаде. Когда пришли немцы и всем стало ясно, что они создадут свои органы власти, партизаны попросили Змитрока побыть старостой. Он согласился и пробыл в чине нового начальника полгода. Быть может, он оставался бы старостой еще некоторое время, если б однажды ночью не завернули в село хлопцы из соседней партизанской зоны. Они разбудили старосту с быстротой и недвусмысленностью законов военного времени, вывели во двор и потребовали подводу, хлеба и картошки. Их было четверо, они были усталые и голодные, рука у одного висела на свежеокровавленной перевязке. Все это староста видел, и ему жалко было хлопцев. Однако и себя было жалко, чтобы вот так по-глупому подставлять свою голову под дуло автомата. Нажать на курок не штука, да кто потом расскажет, что и тебе не хотелось помирать, тем более от руки своего, что и у тебя был автомат, и ты мог бы, как всякий настоящий мужчина…
Подводу и мешок картошки он хлопцам дал, а через день сам пришел в отряд. Отговаривать его никто не стал, тем более что и надобность в его старостовстве отпала: Липница целиком перешла под партизанский контроль.
– Пригнал кобылу и четырех коней. Поехал в область и – на тебе! – встречаю знакомого командира части, с ним и махнул в Гродно. Лошади выбракованные, к воинской службе негожие, да нам еще послужат, а кобыла хорошая, и четырех лет нету. Ее-то чуть выпросил – на обзаведение, на расплод, – выкладывал свои новости Змитрок. – Зашел в хату, а Христина и говорит, что ты вернулся. Оказывается, и правда. Ты, вижу, время попусту не терял, успел уже и хибару слепить.
– Вопщетки, решил место для работы узаконить. Теперь-то еще ничего, а пойдут дожди, снег, из сырого дерева немного толкового сотворишь, да и инструменты ржавеют, – ответил Игнат и открыл дверь в мастерскую.
Змитрок повел глазами по стенам, глянул на потолок и повернул к выходу, начал плевать на папиросу.
– Я уже собирался поспрашивать мастерового человека, чтоб поглядел паровик, что там не в порядке. Мельницу край надо запускать, а если б еще и циркулярку потянул, то и совсем как паны зажили бы… Так ты, может, завтра и прикинешь, что там и как, а к полудню и я подойду. Бульбу надо хватать, пока погода держится, – Змитрок говорил все это, идя по двору к воротам и поглядывая на небо, точно оно в любую минуту могло испортить всю обедню.
– Вопщетки, я потому и подгонял себя со своей работой, бытта знал, что кто-то про меня вспомнит, – то ли в шутку, то ли всерьез заметил Игнат.
– Не слишком много есть кого вспоминать. Ты да я, да мы с тобой, да еще несколько человек – вот и все наши мужчины, – ответил Змитрок, протягивая руку. – Командир этот мой сказал, что скоро мужиков должно прибавиться, начали отпускать.
– Кто жив, рано или поздно объявится, – молвил Игнат.
Змитрок кивнул головой и подался в конец села, веско, будто припечатывая что-то на дороге, ступая большими ногами в тяжелых яловых сапогах.
Игнат посмотрел ему вслед, пока Змитрок не завернул за изгородь, и пошел в хату. С мастерской он разобрался, хотелось некой иной работы. Сколько же топтаться на своем дворе?
– Ты на уток? – поинтересовался Леник, увидев, что отец берет ружье, патроны.
– На уток.
– Можно и мне с тобой?
– Можно, сын, можно. Только ты будешь загонщиком. Пиджачок надень, а то комары съедят.
– Загонщиком так загонщиком, – обрадовался Леник.
На болотце вышли одновременно: отец с одной стороны, сын – с другой. Игнат укрылся за кустом, обочь чистой лощинки, в которую переходило болотце. По его прикидке, в эту сторону должны тянуть поднятые утки, если только они тут есть.
Леник загорланил, хлестнул палкой по воде, еще и еще раз, и три утки вскинулись из осоки и пошли над болотцем. Они летели низко, казалось, зацепятся за куст, за которым притаился Игнат, и он не только услышал шелест их маленьких крыльев, но и почуял на лице внезапный ветерок, пронесшийся вслед за ними. Он выстрелил вдогонку, когда птицы, завидев его, взметнулись вверх. Выстрелил, не слишком надеясь на удачу, и не столько обрадовался, сколько удивился тому, что одна из них сорвалась вниз и, продолжая отчаянно махать крыльями, шлепнулась в траву. Игнат подбежал к тому месту, где упала птица, и долго не мог найти ее. Даже в смертный час утка стремилась поглубже забиться в траву, и ее серенькие перья трудно было различить в наступающих сумерках.
Игнат выпутал птицу из травы. Дробина угодила в шею. Подбежал Леник.
– Ну что, тата, попал?
– Как видишь, рука не подвела. А это уже кое-что… – Игнат передал утку сыну.
Леник осторожно, двумя пальцами взял ее за маленькие желтые лапки, поднял перед собой. Глаза у птицы были открыты, они удивленными безжизненными кружочками взирали на мир. По широкому, беловатому на конце, будто стершемуся о песок, клюву текла кровь. Радостное возбуждение на лице мальчонки сменилось испугом. Он смотрел на утку во все глаза и словно пытался уразуметь, что же произошло. Только что они с отцом пришли сюда, только что он ударил палкой по воде, загорланил, стараясь наделать как можно больше шума и страха, и, похоже, добился своего: утки сорвались с места, где обосновались было на ночлег, и понеслись над болотцем. Они летели, точно связанные одной нитью: куда одна – туда и остальные, и в мгновение ока все пропали за кустами. Затем прозвучал выстрел. Лес вздрогнул, посыпались листья. И вот – одна птица мертва.
Леник вскинул глаза на отца:
– На што ты ее так?
– Как – так?
– Насмерть!..
– А как же это бить не насмерть?
– А чтоб была живая! – в отчаянии крикнул Леник.
– Живую не поймаешь и в чугун не положишь.
– И пускай бы, пускай! – он едва не плакал.
– Ну, вот что… Давай-ка ее сюда, – Игнат забрал утку у сына, поспешно сунул в охотничью сумку. Он начинал злиться. Не на сына, на себя самого, что так легко поддался его просьбе взять с собой. Закинул ружье за плечо, хмуро сказал: – Чтоб я еще когда-нибудь…
– Я и сам не пойду…
Возвращались домой молча, впереди отец, сзади, в нескольких шагах от него, сын, оба насупленные, взъерошенные.
Пройдут годы, сын подрастет, станет взрослым, заведет свою семью, будет мотаться по свету, изредка наезжая к отцу, не однажды станет свидетелем того, как отец набивает патронташ, собираясь на охоту, однако ни разу не попросится пойти вместе с ним; да и у отца ни разу не возникнет желание позвать его с собой.
Марина встретила их во дворе. И даже в сумерках она заметила, что между сыном и отцом что-то произошло, но выспрашивать ничего не стала, коротко приказала:
– Пошли вечерять. Бульба стынет.
Отдав жене утку и бросив взгляд на дверь, которую только что затворил за собою сын, Игнат сказал:
– Только ощиплешь, чтоб он не видел, а то наделает крику.
Марина взяла мертвую птицу, положила на лавку.
– Дитя еще: душа жалостливая, не то что… – Она не договорила, ушла в хату.
«Не то что… Что – не то? Кто – не то? И кто – то? Кто? Дети? Вопщетки, пускай себе: дети есть дети… Жалостливая душа… Пожалели…» Игнат полез за трубкой, присел на колодку.
Не первый раз он размышлял так наедине с собой и был твердо уверен в правоте той жестокой линии, которую взял дома и которой держался…
А как же иначе? Каждый должен иметь в душе дисциплину, и ничто не вольно нарушать ее. Порушишь одно – повалится другое. Рубль – до тех пор рубль, пока неразменянный, разменял – и посыпались копейки. Всюду должна быть дисциплина, а в семье особенно. Особенно в семье. Тут командиру не пожалишься и на воду не посадишь… Сам и командир, и судья…
Рассуждая так, Игнат чувствовал, будто не во всем правдива эта его правда. Будто нечто важное обходила она стороной. Как-то поймал себя на мысли, что она, эта правда, не касалась случившегося между ним и Василиной. Того, что было меж ними, словно бы не существовало. Не помнилось. А раз не помнилось, значит, и не было. Раз не коснулось души… А может быть, так и у них, у Марины?.. Думал об этом Игнат – и хотелось верить: так оно и вправду было. Сколько раз он ловил себя на том, что украдкой, точно делал нечто недоброе, недозволенное, подсматривал за женой. И приятное тепло оттого, что она осталась такой же моложавой, как была прежде, хотя родила и подняла троих детей, грело и успокаивало его, пока не вспоминалось то, что произошло, когда его не было.
Он видел ненормальность той жизни, которой жили они теперь, однако превозмочь себя не мог.
Шло время, дни сменялись днями, и незаметно менялась, оттаивала душа Игната. Он хотел остаться таким, каким вернулся, с той же затаенной злостью на жену, считал: этак и должно, однако видел, что дальше так продолжаться не может.
Канитель с паровиком предстояла немалая. Требовалось заменить колосники, найти другие дверцы в топку: эти были расколоты на две части. Кто-то сорвал манометр, можно подумать, решил в самогонный аппарат поставить. Надо было вычистить колодец, захламленный обрезками досок, мусором, испоганенный мазутом. Впрочем, колодец – это уже пустяк, тут нужны руки да сила. Да, нет еще помпы для подкачки воды, придется искать…
Змитрок, как и обещал, появился к обеду. Игнат к тому времени облазил все, ощупал каждую гайку, каждый болт, вытер руки от ржавчины и мазута и, присев на толстую дубовую колоду, на которой щепали растопку и которая стояла в углу возле топки, на уголке газеты составлял список того, что следует сделать, чтобы паровик задымил и начал крутить жернова.
– Ну, что ты скажешь? – спросил Змитрок, разглядев в полутемном углу Игната с карандашом и газетой в руках.
– Скажу, что надо браться за работу, – ответил Игнат, дописывая свою бухгалтерию. – Надо браться за работу, только где что взять? – и он протянул Змитроку газету.
Тот придвинулся к закоптелому окну, долго вчитывался в Игнатову писанину, не хватило терпения, вернул:
– На́ свою нумерацию. Можно подумать, любовное послание бабе сочиняешь. Сам накрутил баранок, сам и читай.
– Ага, рука у меня такая, закручивает буквы, как рубанок стружку. Назавтра, бывает, и сам не разберу, хоть проси кого, чтобы раскрутил, – ответил Игнат, беря газету. – Так вот, первое – колосники, потом дверцы, потом манометр, потом помпа…
– И все? – не поверил Змитрок.
– Не все, остальное можно сделать самим.
– Тогда пошли ко мне, обедать.
– Ты говоришь так, бытта все это уже лежит у тебя в хлеву.
– Не лежит, но вижу, все это можно найти. Пошли.
– И что, всякий раз будешь меня обедом кормить?
– Не спеши радоваться. Считай, что это должок. Не пустишь мельницу – должен будешь вернуть. Вместе с неустойкой.
– Вопщетки, хоть оно и рискованно, но пошли. Все-таки сегодня едим твой обед… А там увидим.
– А там… Помнишь, в Борке перед войной тоже была паровая мельница. Она и в войну молола партизанам жито, пока немцы не разбомбили. Надо хорошо походить вокруг нее, мне кажется, там кое-что можно найти. Коня я тебе даю – воюй: в район так в район, в область так в область. Понял?
– Что тут непонятного. Район – куда ни шло, там до войны меня кое-кто знал, должен вспомнить, а область – это округа не моего масштаба, тут уже будешь мараковать сам.
– Как-нибудь сладим. Нельзя, чтобы мельница стояла, а люди драли зерно жернами. За пуск – два пуда жита.
– Добра, – согласился Игнат. Они шли уже по селу. – Только мне помощь нужна будет.
– Хочешь попросить кого из мужчин?
– Нет. Вержбаловичевых хлопцев хочу взять.
– Дети ведь еще. Что они тебе пособят? Да и школа…
– Иногда после школы, иногда в воскресенье…
– Решай сам. Но больше жита не дам.
– Как-нибудь поладим.
Думал Игнат запустить паровик за неделю, а смог сделать это только за месяц. Колосники выдрал из паровика в Борке, оттуда и дверцы привез. Потом отрядил самого Змитрока: езжай, ищи манометр, помпу, а заодно, если повезет, – циркулярные пилы, приводные ремни… Воевать так воевать, а коли танцевать, то и крутиться.
Игнат с Мишей и Аликом тем временем принялись чистить колодец. Чего в нем только не оказалось! Извлекли тяжелые, набухшие чернотой обрезки досок, более сотни ведер мутной маслянистой жижи, ведер двадцать лоснящейся от мазута илистой земли, искореженный станковый пулемет и много другого металлического ломья.
Вытаскивал ведра сам Игнат, а выливать в канаву носили попеременно, то он, то мальцы вдвоем. Когда воды не стало, отправил их с лопатами вниз. «Копайте, – подбадривал помощников, – там где-то в песке горшок с золотом зарыт. Найдем – председатель премию даст».
Мальцы, да и сам он, были мурзаты, как черти, и вымотались так, что едва ноги переставляли. Казалось, если б надо было вытащить еще с десяток ведер – не смогли бы. Но все уже было позади, лопата ковырнула чистый белый песок – и словно открылась заслонка. Что-то зашипело, и ямка постепенно начала заполняться водой. Мальцы добрались до жилы.
Было воскресенье, солнце стояло еще довольно высоко над лесом, а с работой они покончили. Игнат присел с ребятами на плаху возле колодца, закурил.
– Ну, вот и докопались до… золота, – сказал, глядя в землю.
– Докопались, – повторил Миша и взглянул на Игната, засмеялся. – А вы, дядька, жилистый. Это ж столько перетаскать… Мы с Аликом, накапывая, притомились… Верно, Алик?
Тот молча кивнул.
– Вопщетки, на жилах человек держится. На жилах да на упрямстве. А оно и в вас сидит, молодцы.
Мальчишки не нашлись что сказать, только некая тень пробежала по их скуластым, смуглым, красивым лицам. Они переглянулись и встали.
– Так мы пойдем?
Игнат не стал их задерживать.
– Песком руки потрите! – крикнул вслед.
Мальчишки обернулись, кивнули головами, но как шли, так и продолжали идти.
Чистить колодец они начали поутру, и Игнат вспомнил, как в полдень кликнул их: «Давайте, хлопцы, перекусим». Достал из сумки, развернул белую полотняную тряпицу, в которой была краюха хлеба, луковица, пара огурцов и шматок сала. Еще того, Василининого. Мальчишки посмотрели на сало, сглотнули слюну, переглянулись, и Игнат понял, что они давно не видели его…
Занятый своей новой работой, Игнат словно забыл, что у него дома есть и дети и жена. Завтракал, брал с собой полдник, возвращался назад – ужинал и валился в постель. И так изо дня в день.
Сегодня шел домой раньше обычного, и шел с мыслью о том, что хорошо бы теперь в баню да на полок с веником. Утром не сказал, чтобы истопили, и напрасно. Но ступил на свой двор, и сразу почувствовал кисловатый запах недавно залитых головешек, и обрадовался, как не радовался давно: вот подумал про баню – а баня готова.
– Я уже хотела Леню посылать, чтоб быстрее шел, – встретила его Марина, – Исподнее там. Дети помылись и побежали в кино.
И впрямь где-то возле школы начинал похлопывать движок.
Давно Игнат не хлестался с таким диким наслаждением. Сделал несколько заходов на полок, время от времени окуная голову в шайку с холодной водой.
Пришла Марина, разделась.
– Давай потру спину, – сказала так, как говорила некогда, как говорила всегда. Поливала из кружки чуть теплой водой, до тугого скрипа терла вехтем из мочала.
Когда Игнат вышел одеваться, поддала духу, похлесталась сама, начала мыться.
Игнат, полуодетый, сидел в предбаннике, курил. Марина плескалась в ночевках.
– Игнат, потри и мне спину, – размякшим голосом попросила она через приоткрытую дверь. Баба всегда найдет свой голос.
– Вопщетки, я уже одет.
– Разве раздеться трудно?.. Сюда никто уже не придет…
Игнат скинул нательную рубаху, исподники, но из предосторожности взял дверь на крючок…
На этот раз Марина постелила постель на большой кровати. Допоздна не спала. Дети давно уснули, а они все разговаривали приглушенными голосами. Надо было выговориться за долгую упорную молчанку, которая глухой удавкой захлестнула обоих.
Размышляли больше о том, как жить дальше, и говорила в основном Марина. Приближалась зима, требовалась теплая одежда детям. Соне что-нибудь получше надо поискать, вытянулась – почти уже девчина. Поросята за лето и осень выросли в длинных, жадных у корыта подсвинков. Сейчас от них мало толку, но, если покормить месяца два, кабанчика можно будет и заколоть. Заколоть да в город, на базар. А кормить… картошка есть, надо желудей насобирать. Желудей нынче тьма на дубах. Свиньи и так едят их, а ежели высушить, да смолоть, да замешать с картошкой… Свинку можно заколоть позже, после рождества, да подумать о коровке. Как же без коровки?..
Марина спрашивала у Игната: может, лучше сделать так, может, этак, но видно было, что у нее все давно обдумано, все спланировано. И он разозлился на себя: жил до сих пор дома не как мужчина, не как хозяин, будто и не в своей семье и не в свой хате. Знал теперь: дальше так жить не будет.
С этой мыслью он и уснул.
Липа падала. И падала страшно медленно. Сперва она вздрогнула, встрепенулась всеми своими ветвями, словно хотела отряхнуть с себя остатки утренней росы. Вниз посыпались крупные капли, зашелестели по листве, запокали по земле, и запах прибитой пыли наполнил воздух, как летом на песчаной дороге после первых дождевых капель.
Затем липа пошла назад, в ту сторону, откуда ее пилили и где, отпрянув от ствола, стояли Игнат и Соня. Но внезапно она стала поворачиваться на пне, зажав намертво и увлекая за собой пилу, которую Игнат отчаянно дергал за ручку, пытаясь вырвать из плена, но ему это никак не удавалось. Соня большими округлившимися глазами наблюдала то за отцом, за его жалкими усилиями высвободить пилу, то за липой, которая стояла на пне, словно с ней ничего не случилось, словно она и не была спилена, – нависала тяжелой высоченной кроной над ними, виновниками ее смерти, и не хотела заваливаться. Она словно потешалась: «Нате вот, съешьте; вы спилили и думали – это все, а я стою, как стояла, и буду стоять сколько пожелаю».
Игнат тоже растерялся, отпустил ручку пилы и начал шарить глазами вокруг, надеясь увидеть какую-нибудь жердину, чтобы упереться повыше в ствол и сорвать липу с места. Поблизости ничего не было, тогда он схватил топор, размахнулся раз, другой, норовя вонзить его острием в распил, однако и это оказалось невозможно: щели не было, точно они и не пилили, – была сплошная темная потрескавшаяся кора, как и на тех немногих липах, что еще стояли вокруг сада, и из этой коры, будто вросшие в середину дерева, торчали концы пилы.
Игнат схватил рукой камень и принялся колотить им по обуху, стремясь вогнать топор глубже, и тот наконец впился в разрез, вошел на несколько сантиметров. Игнат не переставая бил камнем по обуху, левой рукой подваживая топор за топорище. И липа в конце концов медленно, нехотя пошла, разевая все шире щель.
– Беги! – крикнул Игнат дочурке, выхватил топор и пилу и отскочил в сторону.
Соня тоже отскочила от комля и остановилась, не зная, куда бежать. И тут липа начала тяжело разворачиваться, обнажая белый, как сыр, пень, и пошла на Соню!
– В сторону! – не своим голосом закричал Игнат, но дочь уже не слышала его. Что было силы она кинулась бежать прочь от этой страшной огромной липы. Бежала и всей душой, всем своим трепетным телом чуяла, что липа настигает ее, захватывает своей широкой, как туча, кроной и вот-вот накроет.
– В сторону!!! – завопил Игнат, и голос его слился с глубоким вздохом и треском рухнувшего дерева. Его ветви и листья долго еще ходили, шевелились, успокаиваясь.
Соня лежала на траве, в самой вершине липы. Игнат подскочил, поднял ее, поставил на ноги.
– Ты жива? Жива? – повторял, еще не веря в счастье, ощупывая ее руки, ноги.
– Жива, тата, и мне нигде не больно, – бодро ответила она, не понимая, что была на краю гибели и что какой-то счастливый случай оставил ее жить. Но она видела испуганное лицо отца, видела, как он тревожится, как переживает за нее, и это радовало Соню. Отец любит ее! Теперь она знала это, она поняла это!
– И правда нигде не зацепило? – выспрашивал Игнат.
– Правда, тата. Только немножко по ногам, – Соня показала красные ссадины на икрах.
– А-а, это не страшно. Такое бывает, если хлестнуть лозиной, а крапивой – и того хуже… Верно?
– Верно, тата. Мне нисколечко не больно, ей-богу… Только печет.
– Дай-ка я разотру, и все пройдет. Сядь на траву.
Соня села, вытянула перед собой ноги. Игнат взял ее ногу за тонкую, с сухой обветренной кожей икру, начал тискать, растирать пальцами ушиб. Затем принялся за другую ногу, стал растирать ее и вдруг содрогнулся от пронзившего страха: а ведь оно, дите это, могло быть уже мертвым. По его неразумной слепой дурости. Он отпустил ногу дочери на траву и уставился невидящими глазами перед собой. Дочь заметила этот его растерянный взгляд.
– Чего ты, тата?
– Ничего, дочка, ничего. – Он постепенно как бы возвращался на землю. – Скажи, а отчего ты упала? Можно считать, тебя почти и не задело.
– Не знаю, кажется, зацепилась.
– Ну как, не болит?
– Не-а.
– Тогда пошли домой.
– А липа?
– Черт с ней, с этой липой…
– Это ты из-за меня? Так не думай, мне, ей-богу, не больно.
Игнат поднял пилу, топор, и они пошли. Уже когда приближались к поселку, он неожиданно попросил:
– Давай мы не будем никому об этом говорить, а?
– Добра, давай не будем, – взглянув на него с хитринкой, ответила Соня. Она радовалась, что меж ними есть и эта тайна.
Нет более мягкого, более нежного, более беззащитного дерева, нежели липа. Из нее что хочешь можно выделать: и улей выдолбить, и ступу, и кадолбец, и ночевки вырезать, и миску, и ложку, и лапти сплести, и севалку сшить, и ситечко… По ней и топора многовато, настолько легко она поддается рукам. И опять же: не дурак выбрал липу, чтоб вырезать бога – святого по образу и подобию человечьему – и выставить его в церкви у всех на глазах.
Все это знал Игнат. Мучился, глядя, как одну за другой спускали с пня липы в Казановичевой обсаде, не удержался сам, захотел погреться у святого огня. И как мог додуматься до такого?! Что правда, то правда: если бог захочет покарать, он прежде всего лишает разума…
Два месяца пролежала та липа, никто не тронул, а потом пропала в один день, точно ее и не было.







