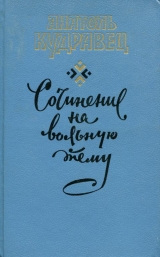
Текст книги "Сочинение на вольную тему"
Автор книги: Анатолий Кудравец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 32 страниц)
МАРУТА И ЗИНА
Поздний зимний вечер. За темными стеклами, затянутыми слюдяными наплывами льда, глухое шуршание. Как будто кто сыпнет в окно песком и ожидает чего-то, еще сыпнет и снова ожидает… Потом начинает ворочаться, словно силится подняться, сопит, тяжело вздыхает…
Это снег и ветер. Они будто побратались, будто нанялись напоминать, что на дворе очень холодно и неутешно.
В хате стоит густой теплый дух. Остро шибает в нос свежей кровью и внутренностями. Только что выгорело в печке, и теперь затухают, обрастая сизой пылью, угли, постреливая искрами. Под потолком ярким слепящим блеском светит лампочка.
Марута сегодня зарезала кабана, и все, что можно приспособить под свежину, занято и забросано ею. Широкая лавка, что всегда стоит у порога, выдвинута на середину и завалена салом, мясом, порубленными костями. На голых досках стола лежат окорока, ноги, стоит, натопырив черные хрящи ушей, свиная голова.
Внести со двора в хату кабана и разобрать его Марута управилась еще засветло. Правда, помогал сосед, одноногий Левон, спасибо ему. Он и осмолил его, и разделал, и сало покроил, и кости порубил. Довести ж дело до конца – посолить сало, мясо, сложить в кадку – оставил ей самой.
– Потихоньку разберешься тут, спешить некуда, – сказал, хорошенько выпив и закусив, и распрощался.
А она мало что и управилась сделать. Хорошо, хоть Зина прибежала помочь.
Сама Марута, в синей бумазейной кофте с широкими засученными выше локтей рукавами, уселась возле печки на стареньком низеньком табуретике. Широко, по-мужски расставив ноги в блестящих резиновых сапогах и как бы улыбаясь чему-то сухими губами, она на краю высокой лавки режет мясо. Что-то праздничное, просветленно-радостное проглядывает в ее дородной, уверенной фигуре, в неторопливых экономных движениях больших рук.
Зина сидит на другом конце лавки. Это полная работящая девка лет восемнадцати. Желтые, цвета переспелого овса волосы ее заплетены в косу, светлые брови приподняты вверх, показывают удивление круглого белого лица, и вся она кажется какой-то доброй, мягкой как недопеченный пасхальный пирог. Привычным замедленным движением, даже не глядя, куда протягивает руку, она берет теплые куски мяса из большой синей миски, что стоит на лавке между нею и Марутой, шлепает их на доску и быстро режет. Чи-чи-чи, чи-чи-чи! – легко, с тугим картавым треском трудится ее быстрый нож.
Занятые работой женщины молчат, слышно лишь постукивание ножей да неспокойное шуршание за окнами. Посмотреть на них со стороны – так можно подумать, что и разговора между ними никакого не может быть, так они спешат, так усердствуют в работе.
Но вот Зина как будто натыкается на какую-то невидимую преграду, перестает резать, выпрямляется, уставившись глазами в открытую дверцу печки. Там, у самого края, в белом пепле раскаленным кусочком золота блестит уголек. Он будто не лежит на месте, будто все время шевелится, переливаясь разными яркими красками. Застывшими круглыми глазами, словно завороженная, Зина смотрит на него, однако по неподвижному спокойному лицу ее видно, что она, наверно, и не видит его, наверно, просто о чем-то глубоко задумалась. Вдруг она вздрагивает, как бы сбрасывает оцепенение, быстрым движением скидывает покрошенное мясо с доски в таз, переводит взгляд на Маруту.
– Тетка Марута, поглядите, я не мелко крошу?
Марута поднимает руки на подол, заглядывает в таз.
– А ладно, Зинушка, как покрошишь, так и хорошо. Это же требуха, не колбасы. Все пойдет и мелко, и крупно…
– Вы скажите, если не так. Я могу и крупнее. Мама моя так не любит, если мясо мелко покрошено…
– Не думай ничего, Зинушка, хорошо…
Зина снова орудует ножом: чи-чи-чи, чи-чи-чи. Марута смотрит на нее. Видно, что она хочет о чем-то спросить у Зины и не решается. Легкая дрожь пробегает но ее губам, они вздрагивают, как от укола, собираются в узел, потом потихоньку расслабляются.
– А где же теперь твой, этот… Как же ты теперь?..
– А кто его знает… Как прогнал отец, так и не появлялся, – грубовато, отрывисто говорит Зина, но в голосе не злость, не раздражение, а какое-то вялое безразличие. – Был недалеко. На той неделе в третью бригаду приезжал на своей «летучке», а к нам не зашел. Может, боится, чтоб не всыпали. – Она начинает смеяться, откинув голову, показывая широкие крепкие зубы.
Марута молчит, прикрыв глаза, будто дремлет. Не видит, как с ножа, который она держит в руке, сползают и шлепаются на пол, брызгая на ноги, мутные капли.
– Ну вы только послушайте, тетка, разве ж так можно, – серьезно и жалобно продолжает Зина. – Так божился, так клялся… Перед свадьбой из хаты не вылезал, каждый вечер приезжал. Иду с работы и знаю, что он уже у нас, сидит с отцом, беседуют. Всё о политике… И мне каких только слов не наговорил. А у самого две жены. Одна в Бобруйске, а вторая еще где-то…
– Вот таких дур и ищет, кого за слово купить можно, – словно бы очнувшись, приподнимает голову Марута.
– И опять же… До свадьбы так маком рассыпался… Ты и такая, ты и этакая… Только что на руках не носил… А после свадьбы… на какой это… на третий день было… Сидим мы в сенях вечером… Мама, отец, он… Мы с мамой бульбу чистим. Пошли, говорит, спать, завтра вставать рано. Правда, ему надо было ехать в район. Сказал и пошел в хату. Мы с ним спали на печи. Хата еще не достроена, на кровати холодно, а на печи хорошо, тепло.
Закончили мы чистить бульбу, и я пошла за ним. Взобралась на печь, так он, ни слова не говоря, как двинет мне в ухо. Видите, рассердился, что не пошла с ним сразу, не послушалась его. Я думала, так в стенку и влипну. Дня четыре после этого головы не могла повернуть. Я реву в голос. Прибегает отец – босой, в исподнем, – он уже спать ложился. В руке ремень мотается. «А ну, марш из моей хаты!» – это ему, Гоге. Я сижу на печи, реву, а самой смешно. Отец стоит посреди хаты, маленький, натопыренный, ну ей-богу, петух, а Гога, как слез, так почти вдвое выше его. Думала, драться будут. Но Гога послушался. Оделся и ушел. Правда, простился, руку всем подал: и отцу, и маме, и мне… После того и не заходил больше.
– Не повезло тебе, Зинушка, с этим замужеством. Не успела выйти – и уже овдовела. Только не принимай очень к сердцу. У тебя все еще впереди – и хорошее, и плохое…
– А он так смешной такой, интересный… – Зина словно не слышит сочувствия в голосе Маруты, улыбается блестящими, будто стеклянными глазами. – Говорил, что, когда поженимся, сразу переедем жить в Бобруйск. Там у него дом свой, сад, огород. Говорит, ты на работу ходить не будешь, будешь дома хозяйствовать… Я и не верила, что он женат, пока первая жена не приехала.
– Бобруйская?
– Ага… Как раз на второй день после того, как отец прогнал его. С мальчиком приехала. Года три ему. Аккуратненький, чистенький, в костюмчике. Брови – ну какие они у него еще! – а уж черные-черные, глаза большие. Ну вылитый Гога!
– Дети все хорошие, все красивые, пока маленькие. А вырастут… Ага… Так вот, давно собираюсь спросить у тебя и все забываю. Гога – это что, дразнят его, или имя такое?..
– Нет, имя такое. – Круглое Зинино лицо расплывается в улыбке. – И мне поначалу как-то неприятно было. Ну что это, думаю, за имя – Гога? А потом привыкла – и хорошо. Гога, Георгий, Жорж…
Беседа прерывается. Марута с какой-то решительной торопливостью стучит ножом по доске. Зина тоже тянется рукой в миску. Спустя несколько минут снова подает голос:
– Я думаю, тетка, если б в суд на него подать. Мы ведь ему и сорочку к свадьбе купили, и костюм… Так пускай бы хотя за это уплатил… Пускай бы хоть сказал что… Пускай бы сказал, что не любит, так и то легше было бы. А то уехал – и все… Как и не было ничего…
– Черт с ними, Зинушка, с этими деньгами. Перекрестись да отряхни руки. Скажи спасибо, что и так хорошо отделалась, радуйся, что ребенка еще нет… Будет еще на твоем веку счастье, не бойся. Найдется человек, что и тебе полюбится, и ты ему мила будешь. А то счастье… На третий день после свадьбы головой об стену… Уж мой на что звероват был, а на меня руку поднять не решался…
– А почему же вы, тетка, не пустили его, когда вернулся? Говорят, он очень просился…
– Просился. И не один раз… Да я отправила его туда, где был все это время. Когда бросил одну с двумя на руках, тогда не просился. Вильнул хвостом и пропал, будто и не отец. Сердце тогда не болело. А теперь, когда дети выросли, вспомнил. Вспомнил свою кровь, собачий сын…
Опять стучат ножи, и опять этот стук прерывает Зинин голос:
– А я все же хочу сходить к прокурору. Что он скажет… Может, хотя рублей пятьдесят вернем…
Марута молчит – сосредоточенно орудует ножом. Она не замечает, что брызги из-под ножа летят не только на пол, но и на подол, и на рукава кофты. Голову она поднимает лишь тогда, когда Зина снова спрашивает:
– Тетка Марута, взгляните: я не мелко крошу?
– Ладно, Зинушка, как покрошишь, так и будет…
…Давно перестали стрелять искры в печке. Перегорел на пепел и рассыпался кусочек золота – красный уголек. Лишь за окнами не утихает шуршание, и кто-то тяжело ворочается, словно силится подняться и никак не может…
1968
«ЕЛОЧКА»
Зима. Воскресенье.
Ночь споро присыпала все тяжелым снегом, и в этот подслеповатый предутренний час, когда из-за Алениного забора на улицу вынырнул невысокий человек, деревня казалась пустой и сонной. И словно вся она – из конца в конец – была залита синькой. Чем дальше хватал глаз, тем сильнее густела синева, переходила в фиолетовое.
Напротив Алениного двора через улицу стоял колодец с ведром, и человек свернул туда. Достал воды, долго и осторожно пил, согревая ее во рту, потом вылил из ведра воду на снег, отпустил ведро и пошел дальше.
Держался человек середины улицы, шел быстро, аккуратно выстилая за собой следы – «елочку». Был на нем короткий, цвета вываренной ольховой коры полушубок и зимняя шапка из лохматой, свалявшейся овчины. Все время, как только показался из-за забора, человек смотрел на замурованные морозом окна Алениной хаты. Он оборачивался назад и тогда, когда хаты не стало видно за темными, припорошенными снегом яблонями и липами. Потом упруго вскинул клинышек бородки, начал вертеть острым, как у птицы, лицом направо и налево. Глаза его – круглые, теплые светлячки – смотрели живо и весело.
Шел человек улицей, широкой, ровной от снега, и чем дальше шел, тем медленнее становился его шаг. Посреди поселка, с левой стороны, улица вдруг разрывалась, открывая, как щербину, нежилую пустоту на месте бывшего двора. От двора остался лишь сгнивший хлев с голыми ребрами стропил. Здесь человек совсем замедлил шаг, потоптался, закурил.
Дальше, за пустой усадьбой, стоял новый дом с жестяной крышей на кирпичном фундаменте, и на него человек подивился, шевельнув бровями.
Ноги вынесли человека в конец деревни, повернули направо – на узкую дорожку, что вела к другому, меньшему, чем этот, поселку. И здесь снег нетронуто синел и смягченно, как крахмал, скрипел под ногами, и опять следы человека стлались аккуратно и ровно. Этот поселок тоже был весь в снегу и тоже спокойно спал.
Так человек подошел к дому, у ворот которого зябли два молодых тополя. Возле одного из них стоял трактор – радиатор и стекло кабины совсем белые. Человек обошел трактор вокруг, заглянул в кабину – было там чисто и масляно, и после этого уже свернул к воротам.
Это был его двор, а во дворе – его хата с сенями, и из хаты недавно выходил кто-то – об этом говорила двойная цепочка следов от крыльца и обратно, и человеку понравилось, что в хате уже не спят.
Если б кто из старожилов села видел в это время человека в полушубке, то обязательно узнал бы его.
Это был Мирон Булойчик.
Его нельзя было не узнать, как нельзя было и спутать с кем-то другим. И этот – немного ниже поясницы – полушубок, и старая баранья шапка, и упругий клинышек бородки, и походка… Только Мирон ходил в Слободе так мелко и культурно. Односельчане смеялись – «в елочку: пятки вместе, носки врозь». Он словно не ходил, а писал, аккуратно нанизывая след на след: один носком вправо, второй – влево…
Лет восемь уже не видели Мирона в Слободе – после того, как он рассорился с женой – болезненной и очень ревнивой женщиной – и подрался с Дубиновым Казиком.
С Казиком они тогда топтали вместе стог, стоптали его, высокий и грузный, и Мирон уже собирался слезать, оставив вершить Казика, – завершит, никуда не денется, – как стог вдруг раскололся и поехал в стороны: половина с Мироном – в одну, вторая – с Казиком – в другую.
Кто складывал сено, тот знает, как непросто стоптать хороший стог. Чтоб он стоял как кукла, и в меру высокий, и в меру грузный, чтоб ни одна его сторона не была «зарвана» и чтоб ни на одну сторону не «напустить» лишку. Все зависит от умения «топтунов». На стогу они не стоят ни минуты на одном месте. Как будто связанные невидимой веревкой, они ходят друг за другом, по разные стороны жерди, – вокруг, вокруг, вокруг… Кладутся две охапки сена, на них – третья. Она связывает, прикрывает, прижимает. Как рыбья чешуя: каждая чешуйка прячет под собой две, а ее в свою очередь прикрывают другие… Ходят, кружат «топтуны» по стогу – вяжут, топчут стог…
Мирон с Казиком или позабыли это правило, или просто не хотели уступать друг другу, но у каждого из них был свой подавальщик, и каждый из них топтал на своей стороне.
Мирон выбрался из-под сена и схватил Казика за грудки: у него был к Казику давний, неоплаченный должок. Еще в войну Казик нашептал своему племяннику Винцесю, который служил в районной полиции и иногда приезжал в Слободу, что Мирон, как-то подвыпив, пел веселые припевки про полицаев. Вот однажды Винцесь и завернул к Мирону во двор – тот как раз колол дрова возле истопки. Винцесь приказал Мирону снять штаны и, положив его на порог истопки худыми половинками вверх, отсчитал двадцать шомполов. Винцесь до своего достукался, свернул голову, а на Казика Мирон затаил злость, и теперь его прорвало. Мирон отвесил Казику хорошую оплеуху, но тот тоже был не из слабеньких, и ростом был повыше, и кулак имел побольше – достал им Мирона в нос. Пока люди нахохотались, пока опомнились, они таки прилично успели отделать друг друга.
Перетаптывать стог Мирон наотрез отказался, а дня через два и вовсе уехал из Слободы, бросив и хату, и жену с сыном. Сын Петрок в том году заканчивал школу, и Мирон не боялся теперь за него, а если что – надеялся на дочерей: обе они были давно замужем и жили недалеко от Слободы.
Года три о Мироне ничего не было слышно, потом кто-то принес известие, будто видели его под Барановичами и будто он пристал там к какой-то молодице в примаки. Никого, кроме Мироновой жены и сына, в Слободе эта новость остро не зацепила и не удивила, потому что у каждого было полно своих хлопот, да слобожане давно уже перестали удивляться всему, что было связано с именем Мирона.
Мирон был из числа людей, которых считают вечными неудачниками, и, как все неудачники, нрав имел отходчивый и веселый. Жизнь слишком часто подставляла ему свой твердый и жесткий бок, а он словно бы и не замечал этого – жил себе, и все. За что ни брался Мирон, все выходило у него не так, как у людей. Очевидно, ему самой судьбой было предначертано стать притчей во языцех. И после того как Мирона в Слободе не стало, вспоминать о нем долго еще не переставали. Правда, приходил он на ум тогда, когда была охота почесать языки. Может, шло это от извечного стремления человека возвысить себя, вообразить хоть на самое малое время сильнее и лучше, чем он есть на самом деле, даже если возвышение это покупается ценой унижения других, а может, просто люди не могли жить без смеха, а над кем же посмеяться, как не над чудаковатым и непрактичным Мироном. Послушать со стороны, так казалось, что вся Миронова жизнь – это сплошная цепь смешных и удивительно глупых эпизодов, которые следовали один за другим, словно вырастая один из другого.
Был Мирон парнем, надумал жениться и девчину приглядел, Алену – дочку хмурого, но хозяйственного лесника Емельяна: юркая, гибкая фигура, дерзкий взгляд рыжих глаз – такая кому хочешь голову закружит, – и Алена как будто благоволила к Мирону, а вдруг вышла замуж за Федора Шалая – в ту же Слободу.
И опять: Мирон вроде бы и не очень переживал, что Алена вышла не за него, а за Федора, будто и не бегал за ней, и не целовал ее, – поплясал на ее свадьбе и вскоре сам женился – привел в дом матери длинную, на целую голову выше себя, девку – Ганну из Ореховки. Однако и теперь, после своей женитьбы, Алене прохода не давал. Где ни увидит, ни встретит – одно и то же: «Напрасно ты от меня убёгла… Я тебя где-нибудь одну встречу, не на людях, и ты увидишь, что напрасно убёгла…» – и смеется своими зеленоватыми глазами.
Купил как-то Мирон на базаре корову – черную красавицу с фигурными, словно выточенными рогами и белой меткой на лбу. Привел домой, надвязав короткий поводок своим ремнем, хвалился, показывал всем. Пустил ее в стадо, а вечером пастух сказал ему, что молока от нее Мирон не дождется: корова сама себя сосала.
«Спрашиваю у бабки, почему такой короткий поводок, а она говорит: «Оборвался. Был длинный, да оборвался…» И надо же: такая красивая корова и такой изъян имеет…»
Или еще такой случай. Произошел он еще в то время, когда Мирон был парнем, когда бегал за Аленой, незадолго до того, как она вышла замуж за Федора. Многие говорили, что случай этот и подогнал Алену со свадьбой.
От Слободы, где жил Мирон, до Емельянова хутора было километра четыре – где дорогой, где лесом – стежками. Четыре километра – это недалеко, но чтоб попасть из Слободы к леснику, надо было идти мимо хутора глухого Стефана Буйлы. А Стефан держал огромного волкодава и на ночь спускал с цепи. Обходить же Стефанову усадьбу – делать лишний крюк.
Как-то раз, только начало светать, Мирон добирался домой – успеть сомкнуть глаза, пока мать начнет толкать под бок. Стефанов двор был уже позади, и Мирон хотел наддать шагу, как вдруг услышал за плечами поспешно нарастающий шум. У Мирона похолодело в груди…
Вот что рассказывал он на следующий день Алене.
«…Оглянулся я и остолбенел. По дороге на меня прет волкодав – только песок под ногами шуршит. А дорожка чистенькая, как стол, хоть бы сук какой, хоть бы камень. Ну, думаю, пропал, разорвет как жабу. Нет… Маханул он мимо меня и вдруг цуп – стал впереди, смотрит на меня. И я гляжу на него и вижу только черный, словно обросший волосами раскрытый рот с кривыми белыми зубами да глаза – черно-желтые, пустые такие… Постоял он так, постоял, потом – трух-трух! – ко мне. Подбежал – такой пентюх, ростом со стол. Обошел вокруг. Я стою и слышу, как у меня правое колено задрожало. Дрожит – не унять никак…
Обнюхал он меня, потом – оп! – задрал заднюю ногу… Слышу, намокла штанина, потяжелела. «Поливай, поливай, стервец, – думаю, – только живого выпусти. Больше ты меня здесь не поймаешь…» Окончил он свое дело, встряхнулся и потрусил обратно по дороге. Обождал я немного – и дай бог ноги!..»
Таким человеком был этот Мирон, который через восемь лет снова появился в Слободе. Он долго стоял у ворот, не решаясь ступить на свой двор, потом вдруг повернулся и медленно пошел по улице дальше – в конец, туда, где через две хаты неясно и широко рыжел березняк.
В березняке было тихо и глухо. Пахло свежим подтаявшим снегом, мокрой берестой. Мирон шел целиной, оставляя за собой глубокие следы, часто останавливался, чтобы поглядеть то на одну, то на другую березку, шевелил губами. Потом совсем остановился возле кривой высокой березки, потрогал рукой теплую крахмально-скользкую кору. Встряхнул березку – обсыпал всего себя снегом. Постоял, вслушиваясь в шелест оседающих снежинок, в утреннюю стишенность, царившую вокруг, и вдруг засмеялся чуть слышным детским смехом. Высморкался, похлопал березку по стволу, словно пожалел: «Ничего, ничего…» – и повернул назад, в поселок.
Подходя к своему двору, вдруг насторожился, а потом прибавил шагу: увидел, что глухая стена сеней что-то очень темная, словно обугленная.
«О-о-о, здесь, видимо, сам пожар побывал», – подумал, торопясь в сад.
Низ стены огонь совсем не тронул, но выше все бревна были словно облупленные, потрескавшиеся, ребристые.
«Наверно, от стожка загорелось, – решил Мирон, проведя рукой по бревну, ощущая под пальцами податливую хрупкость сухого, мылкого угля. – Конечно, от стожка. Если б огонь шел изнутри – конец был бы хате. Если б выбился изнутри – был бы каюк и хате и хлеву».
Он вернулся во двор и уверенно толкнул дверь сеней, в темноте легко поймал щеколду на двери в хату, зашел.
В хате было душно и кисло. Мирон огляделся – в жидком полумраке увидел у стены кровать, перед ней вторую – поменьше, кушетку.
– Кто там? – послышался с кровати голос сына, и вслед за этим закраснелся огонек – сын курил в постели.
– Я…
Было несколько минут неловкой тишины, потом сын спустил ноги на пол – начал натягивать брюки. Подошел к дверям, зажег свет.
– А-а-а, это ты, отец… Проходи, раздевайся, – мягким, расслабленным голосом сказал Мирону, настороженно глядя на него.
Мирон почувствовал, что здесь его уже давным-давно перестали ждать.
– Дык я со двора… Снег вот обчистить бы, а то наслежу, – ответил, доставая из кармана полушубка рукавицу и смахивая ею снег с валенок.
– Вот ведь веник стоит. – Сын кивнул в угол, где стояли ухваты, и повернулся в сторону кровати: – Аня, вставай! Отец приехал.
На постели подняла круглое приятное лицо, а потом и села, закинув руки за голову, скручивая в толстый узел растрепанные за ночь волосы, женщина.
– Добрый день, невестушка, – чувствуя какую-то неловкость, поздоровался Мирон за руку, подступив к кровати, и сразу же отвернулся – уловил в разрезе голубой сорочки белую полную грудь.
Невестка поздоровалась, кивнула мужу Петроку:
– Подай одежду.
Мирон снял полушубок, шапку, повесил на крючок у порога, присел на лавку. Петрок уже обулся и в нижней, расхристанной на груди рубашке тоже присел. Теперь курили оба мужчины, густо дымя, перебрасываясь незначительными словами, обычными в случаях, когда люди давно не виделись и встреча большой радости не принесла. Мирон чувствовал себя виновато, словно чужой в этой хате. Сын тоже не мог нащупать то душевное равновесие, которое дало бы уверенность и искренность.
Тогда, когда они остались с матерью вдвоем и особенно когда мать умерла, он был очень зол на отца и думал, что прогонит его сразу же, как только тот посмеет заявиться. А теперь все зло прошло, как будто время размыло его, оставив мутный неприятный осадок. Петрок не понимал отца тогда, не понимал и теперь.
«Пожилой человек, дочерей замуж отдал – и вдруг бросает все: жену, семью – и идет куда глаза глядят. А теперь вернулся. Пошлялся, пошлялся, да куда ты денешься, вернулся, – думал Петрок, сидя на лавке. – Тогда так даже и слушать не хотел. Закрутило в мозгах, кровь заиграла, на молодое потянуло. А теперь как?.. Может, тоже просто так, на несколько дней, показаться? И повиниться. А может, боится, что не примем…»
Одна Аня вела себя так, словно все шло как нужно. Она то встревала в разговор мужчин, то слушала их, забывая о работе, которую только что делала, то выбегала из хаты, оставляя их одних, всем своим видом и поведением показывая, что появление Мирона, которого все считали почти пропавшим, ей приятно и радостно.
– А что, Грипина выехала куда или как?.. Сымониха, говорю, – спросил Мирон у сына. – Я шел через тот поселок, видел ее подворье. Остался один хлевчук с голыми стропилами…
– Сын забрал. В Солигорск.
– А рядом с ней кто это хоромину построил? Под жестью, на кирпиче.
– Костик Татаринов.
– Молодец. А Колядка опять куда-то съехал?
– Этот под Минск. Там дом купил – с садом, огородом – и в ус не дует.
– Вишь ты. Где и денег взял?
– Взял. Столько лет бригадиром был. Тянул ведь все. – Петрок поднялся, бросил окурок в печь. Там уже вовсю горели дрова, багрово-черные языки лизали устье. – Что натаскал, что сэкономил. Он из тех, что не пропьют, не прогуляют…
– Этот не пропьет, – подхватил Мирон. – Не-е-ет, не пропьет… И на Матренином подворье кто-то строится.
– Миша Гаврилов. Матрена умерла. Тем же летом, что и мама. А хату дочь продала.
– Гляди, как все переменилось за эти годы, – тихо, словно для себя сказал Мирон. Напоминание про Ганну, про ее смерть, потянуло за собой что-то неприятное и тягостное. Это неприятное и тягостное было и в их жизни с Ганной в последние годы, сквалыжной и безрадостной, и в том, что он ушел из дому, сбежал от этой жизни, оставив ее одну с сыном, и в том, что теперь уже ее нет, она умерла, а сам он вернулся, словно ожидал, чтоб она умерла.
– Разве мало было их, годов тех. За это время могло все прахом пойти, – нахмурил брови Петрок.
– Годов было много, – протяжно ответил Мирон, не обращая внимания на злость сына. Он думал о том, что пропала, исчезла куда-то, словно ее и не было никогда, радость, которой жил все эти последние годы, которую чувствовал в себе всегда, стоило только вспомнить дом, детей, Слободу…
Сколько бессонных ночей было за это время, сколько мыслей перевернулось в голове – и о себе, и о жизни, и о том, что никогда она не была у него хорошей, и что теперь, под старость, остался он одинокий и бесприютный, как бродяжка, у которого нет ни дома, ни родственников, ни родины. И ясным, согревающим лучиком все эти годы грела всегда радостная мысль о Слободе, о своем доме, о детях и еще о чем-то, глубоко запрятанном не только от людей, но и от себя, – о том, что всегда было с ним и было только его… А вот пришел домой, заговорил с сыном, и словно надломилась эта радость, словно померк огонек…
Потом Петрок пошел поить корову, а Мирон остался с невесткой. Ему легче было с ней, чем с сыном, свободнее. Он видел во взгляде ее любопытство и доброту, и ему казалось, что она на его стороне, ему хотелось, чтоб она была на его стороне. Он хорошо знал мать Ани, слободскую военную вдову, спокойную, рассудительную, знал и Аню – еще девчонкой с тонкими обветренными икрами – и в мыслях хвалил Петрока за то, что тот не искал жену далеко, а взял свою, слободскую.
Аня весело и охотно рассказывала о себе, о Петроке, о Слободе, слобожанах и о том, как в прошлом году чуть не сгорели.
– Из-за сорванца этого, Женьки, – Аня кивнула головой на кровать поменьше, где, разметав ручонки, спал мальчик.
– Так это он поджег стожок? – словно обрадовался Мирон.
– А то кто же. Хорошо еще, что перед обедом случилось и не разгорелось как следует. Весь конец села сгорел бы. Осень сухая, а у каждого ведь на дворе стожок – у кого сено, у кого солома.
– Ишь его, сорванца, – покачал головой Мирон, останавливаясь у кровати. Он оживился, как бы отогрелся в тепле, словно тепло хаты придало ему подвижности и уверенности, и с удовольствием всматривался в розовое от сна лицо внука с капельками пота на верхней губке, в его большое красное ухо. «Большое, как у собаки», – радостно думал Мирон, расхаживая по хате.
Это была его хата. Все в ней было как будто то самое, что и при нем, и все не то. Те же окна, двери, печь, и крюки в стене его – из хвои, смолянисто-красные, гладкие, скользкие. Но сын выштукатурил хату, побелил. Выбросил старые кровати – поставил новые. Вместо лавок – стулья, телевизор, а рядом с крюком, на который Мирон повесил свой полушубок, широкая вешалка под белой простыней. И у Мирона вдруг засаднило в груди, подумалось, что от его, Мироновой, жизни здесь осталось очень мало. И Мирон почувствовал себя чужим в своей хате. Те восемь лет, что прошли не здесь, сделали его хату чужой ему. Здесь идет своя жизнь, и, если он надумает остаться, ему надо будет привыкать к ней, подчиняться ей. Получается, что уже не сын живет в его хате, а он, Мирон, влез в семью сына. Надо будет ко всему приноравливаться. И к невестке. И к внуку. И еще много к чему.
Мирон ходил по хате, трогал пальцами все, что попадало под руки, и думал, думал…
Вот здесь, между столом и окном, стояла швейная машина. Старенький «зингер». На ней он шил сапоги: пришивал переда к голенищам, союзки. Когда-то, перед войной, он выменял ее за телку. Теперь машины нет. Видимо, продали или выставили в сени. И к этому надо будет привыкнуть. И кровати нет, на которой Мирон спал. Наверно, выбросили. И к этому надо будет привыкнуть.
Мирон стоял у стола, перебирал фотокарточки, сложенные в картонную коробку из-под конфет. Петрок – школьник с недоумевающими, выпученными глазами. Петрок – солдат, Петрок возле трактора, Петрок на своей свадьбе – с добрыми, осоловелыми глазами, – одна рука на плече у Ани, другая – с чаркой. Анины фотокарточки…
И вдруг рука Мирона вздрогнула: на фотокарточке была Ганна. Одна, в гробу, с гладким матовым лбом, с закрытыми глазами. Мирону стало тяжело дышать. И жили они плохо, и дрались иногда, и ссорились, и чего только не наговаривали друг другу по злобе, а увидел ее – успокоившуюся, добрую, с восковыми морщинистыми руками на груди, подкатил ком к горлу, сдавил грудь. Каким правым ни считает себя человек, какими высокими, далекими от земных хлопот и тревог ни бывают его мысли и дела, встретившись лицом к лицу со смертью, он вдруг открывает для себя, что все его даже самые высокие и большие мысли и дела ничто в сравнении с человеком, к которому пришла кончина. Встретившись с ней, люди вдруг начинают жалеть о том, какими несправедливыми и неумными они бывают даже к самым близким, как мало радости и добра дают им и какие они все равные перед ней, смертью. Такие или почти такие мысли теснились в Мироновой голове, когда он держал в руках фотографию, на которой была снята его жена Ганна перед тем, как отправиться в последнюю дорогу. Он стоял и думал: «Ты прости меня, Ганна, что я такой. Ничего не поделаешь. Да и ты много в чем была не права. И ко мне не права, и к Алене. Ну пускай я ей дрова привозил, пускай хлев перекрыл, так что из того… Ты умная была и глупая. Умная, потому что догадывалась о многом, глупая, потому что не хотела ничего понимать. Ты догадывалась, что Алена нравилась мне. Это правда. Я любил ее всю свою жизнь. Я помнил ее. Я и тебя любил, но не так, как ее, и ты это чувствовала, но не хотела понимать. Ты была матерью моих детей, и я любил тебя как мать. Когда я был с тобой, я любил тебя, а когда оставался один, я любил Алену. Но я был честен с тобой и честен с нею. Единственный раз я был нечестен с тобой, и ты знала об этом. Это было весной сорок седьмого года, когда я посеял на сотках пшеницу и она взошла очень редкая. Ты проклинала кур за то, что они повыбирали зерна. Куры здесь были невиновны. Килограмма четыре пшеницы я не посеял, отсыпал и вечером отнес Алене. У нее тоже были дети, и они сидели на крапиве и щавеле. Вот в этот раз я был нечестен с тобой, потому что я всю ночь пробыл у Алены, а не в поле, у трактора. И про пшеницу и про это я рассказал тебе, хотя и знал, что ты будешь ходить по поселку и всем будешь жаловаться, что твой мужик скурвился, что он последний кусок хлеба отнимает у родных детей и несет любовнице. Алена не была моей любовницей. Ты знала, что Аленин Федор не вернулся с войны, и что у нее на шее трое детей, и что они не имели и того куска хлеба, что был у наших. Больше я никогда не был нечестен с тобой. У нас были свои дети, их надо было растить, у Алены были свои, и ей тоже надо было их растить. И я ушел из Слободы, не унося зла на тебя, потому что я понимал тебя, понимал, что больная и потому капризная и настороженная. Но ты слишком часто недобро вспоминала и колола мне глаза тем, о чем я сам рассказал тебе. Ты не права была, Ганна… Не надо быть такой злой, Ганна, даже когда ты больная и собираешься умирать. Все умрут. И вот я вернулся домой и говорю тебе, что смерти твоей я никогда не хотел и не виновен в ней. Виновен я лишь в том, что недосмотрел тебя в твои последние дни и не похоронил тебя. В этом я виновен, и никто вину эту у меня забрать не сможет!..»








