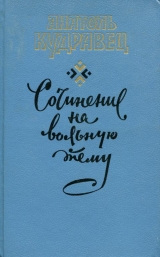
Текст книги "Сочинение на вольную тему"
Автор книги: Анатолий Кудравец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 32 страниц)
Мирон положил фотокарточку обратно в коробку, постоял немного возле стола, наклонив голову, а когда подошел к порогу, к печи, Ане показалось, что ресницы его были мокрые. Аня наклонила голову ниже над теркой: она заканчивала тереть картошку.
Проснулся Женька и долго смотрел на незнакомого деда, что ходит по хате. Никто не смотрел в Женькину сторону, и он попросился:
– Ма-а-а-ма!..
– Ну, вставай быстрее, одевайся, – сказала мать, гремя сковородами.
– Ма-а-ма! – снова затянул Женька. – Я хочу…
– Ах, горюшко мое! Разве ж тебя учить, как это делается. Накинь что-нибудь, надень валенки да беги в сени.
– Деда, а знаешь, что у меня есть? – спросил Женька у деда, возвратившись из сеней. Они стояли друг перед другом, посреди хаты. Мирон смотрел на тонкие, как палочки, Женькины ноги, на задранный подол рубашонки, из-под которой выглядывал стручок мужского достоинства, на круглые наивные глазенки и оттопыренные уши и не удержался от смеха.
– Не-а, не знаю, внучек, не знаю, – ответил Мирон, а сам радовался: глянь, признал деда, сразу признал.
– Конечно, откуда тебе знать. У меня есть машина. – Женька нырнул под кровать и выволок оттуда машину, с синим фанерным кузовом и красной кабиной.
– У-у, это штука! На ней можно куда хочешь ехать, – похвалил машину дед и сам перешел на Женькин таинственный тон: – А знаешь, что я тебе принес?
– Нет, не знаю.
Дед достал из кармана своего полушубка маленькую серебристо-рыжую белочку, разгладил ее шерсть. Белочка была как живая: натопыренные ушки с черными, наструненными метелочками на концах, блестели черные зернышки глаз, пушистый хвостик торчал дужкой. Женька прижал зверька к груди, подбежал к матери:
– Мама, мама, глянь, что у меня!..
Прошло немного времени, и Женька уже ерзал на дедовых коленях, тормошил его за бороду:
– Деда, а ты мне сапоги зашьешь? А то в них снег налазит, а к валенкам коньки не привязываются…
– Зашью, а как же. Зашью. Вот только позавтракаем.
И снова Мирону было приятно думать, что Женька знает о том, что дед сапоги шьет… Значит, о нем говорили здесь, вспоминали…
Потом пришел и Петрок, принес из сеней затуманенную бутылку, и все они сидели за столом. На столе стояли драники, жареное сало и миска меду. «Гляди ты, не забыл, что драники с медом я люблю больше всяких других блинов», – тепло думал о сыне Мирон и улыбался своими ясными зеленоватыми глазами. А когда в бутылке осталось совсем на дне и Мирон изрядно захмелел, он подморгнул Петроку, кивнул на Женьку, на его уши. Мирон намекал на то, что внук пошел в деда. У него тоже уши большие, как лапти.
Петрок рассмеялся:
– А как же. Булойчиковы семена: уши что те локаторы. Да хотя б шапку носить научился. Натянет на голову, попригибает их. Будет лопоухий, как собака.
– Никакой не собака, – возразил Женька. – Вот мне деда сапоги сегодня зашьет, и я подвяжу коньки.
– Походишь и в валенках, жив будешь. Не успел дед в хату, как ты ему работу…
– Сам же купил, а теперь – «жив будешь»… Не надо было покупать, – вмешалась Аня.
– О чем разговор, – махнул рукой Мирон. – Вот сейчас вылезем из-за стола и погляжу я эти сапоги. Там ведь сапожный инструмент какой-нибудь остался?
– А то как же? Все оно есть, как было, на чердаке, в сундучке. И машина стоит в сенях, под постилкой, – Сын умолк, весело глядя на отца: – Так рассказал бы, отец, как ты жил эти годы, нашел ли то, что искал, зачем из Слободы убежал?
– Всяко было, сынок. И сыт был, и голоден. – Светлячки Мироновых глаз словно бы стали меньше, затянулись туманом. – Хотел вольным человеком побыть. Думал, сойду из дома и забуду все. Ты же знаешь, как мы с матерью последние годы жили. Как кот с собакой – ни души, ни ласки. Ну и пошел я. И было поначалу так, как я и хотел, – и легко, и спокойно, и никто не насмехается над тобой, и никто не пилит тебя. Сам себе начальник. А потом. Потом… Знаешь, человек свободен тогда, когда на душе у него спокойно. А когда душу червь точит, какая это свобода? И ведь там, скажи ты, где я был, и лес, и луг, и все как будто такое, как здесь, – все ведь она, Беларусь наша, а придет весна – душа места не находит. Выбегу на рассвете в лес, а вижу березнячок этот наш. И вспоминается: ты-тка еще спишь, а кукушка уже свое «ку-ку» начинает. «Ку-ку» да «ку-ку», и уже лежать как-то неловко, подмывает вставать. А ступишь за ворота – тут и соловей тебе, и дрозд, и грачи всякие. Выйдешь в березняк – и уже грибы. Вокруг куста обежал, и на-тка, полкорзины… Пожил я, поглядел на все и начал думать, как бы это назад, домой. Нет лучше гостей, как дома…
После завтрака Петрок завел трактор и поехал – кто-то попросил привезти из лесу прицеп дров. Мирон полез на чердак. Перекладывал инструмент – старые, источенные шашелем правила, лапу, молоток, рашпиль, колодки всех размеров. Нашел маленькие, как раз на Женькины сапоги. Почти до обеда просидел, сгорбившись на лавке, пока кое-как починил сапоги, – тихий, молчаливый, с какими-то своими, затаенными мыслями. После обеда надел полушубок и вышел на улицу.
На дворе была оттепель, низко наседало шиферно-серое небо. Дорога посреди улицы была хорошо протоптана, и Мирон пошел по ней на поселок – туда, где шел утром. Следы его теперь терялись среди других следов.
Вся Слобода уже знала, что Мирон вернулся, однако на улице Мирону никто не встретился, и он был рад этому. Он завернул в Аленин двор, долго обметал веником валенки от снега, пока решился зайти в хату.
Алена сидела у окна, вязала рукавицу. Забыв опустить на подол руки со спицами, она долго и непонятливо смотрела на Мирона, словно узнавала и не узнавала его, и в ее взгляде Мирон уловил и удивление, и радость, и еще что-то, давнее и родное. Словно он давно уже был хозяином этой хаты и зачем-то выходил во двор – то ли дров принести, то ли воды – и вот теперь вернулся.
– Я ведь тебе говорил, что ты напрасно тогда от меня убёгла, – сказал Мирон свои старые слова и попытался засмеяться. Смех не получился, да и слова эти были сказаны слишком тихо.
– Тебя, Миронка, наверно, ничто не изменит, – ответила Алена, и лицо ее порозовело, вспыхнуло. – Ну так чего же ты стоишь у порога? Или в хате не на что сесть?
…Спустя какое-то время из трубы Алениной хаты поплыл вверх осторожный сизый дымок – видно было, что огонек разложили на камельке и горели сухие чурки.
А ночью опять выпал снег – припорошил, подровнял дорогу. И опять казалось, что вся Слобода из конца в конец залита синькой, и опять ни один след не значился на свежем снегу.
Лишь утречком, когда совсем рассвело, можно было увидеть, что из Алениного двора к колодцу и обратно вела аккуратная – пятки вместе, носки врозь – цепочка-елочка.
Так в Слободе умел ходить только один человек.
1969
ХОЛОДА В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ
С того дня, как к ним пришла на постой Таня, Костусю стало тяжело жить на свете. Он никак не мог решить, кого ему любить больше – Таню или Людмилу, молча переживал все это, сердился, капризничал.
Пока не было Тани, все было хорошо: он любил Людмилу и ни о чем не думал. Любить ее было просто. Каждое утро он бежал к тетке Авгинье, бежал как будто к Генке и топтался у порога или садился на лавку напротив печи – ожидал, пока Генка позавтракает и можно будет идти на улицу. Но ожидание это было всего лишь партизанской хитростью. В действительности же Костусь ждал не Генку, а то время, когда распахнется цветастая ширма, которая делила хату на две неровные половины – небольшой закуток между печью и окном и остальную часть хаты, – и оттуда выйдет Людмила. Выйдет и скажет: «А-а-а, это ты, Костусь…» – и улыбнется мягкой, чуть усталой улыбкой. У нее были серые с коричневым, как у дикой козы, глаза и толстые сухие губы.
Костусю было радостно и счастливо слышать каждое утро эти слова и Людмилин голос, видеть ее глаза и губы. Губы у Людмилы были не такие уж и толстые, как об этом говорили.
Иной раз из-за ширмы выходила Людмилина мать – тетка Авгинья звала ее Полей, а все женщины в селе просто «вы», – такая же, как Людмила, высокая, аккуратная, строгая, и говорила то же самое: «А-а-а, это ты, Костусь…» И тогда сердце у Костуся обрывалось, ему казалось, что за ширмой больше никого нет, что Людмилу он больше не увидит. Ему почему-то думалось, что Людмила может в любое время исчезнуть – уехать куда-нибудь или уйти. Но в закутке за ширмой шла какая-то жизнь – там была кровать, на которой спали Людмила с матерью, лавка, сундук, – и вскоре из-за ширмы выходила сама Людмила.
У тетки Авгиньи Людмила с матерью жили с осени, когда в Буду первый раз зашел, размесив мокрую улицу в непролазную грязь, батальон Ивана Васильевича. Тогда у тетки Авгиньи стояли и Людмилин отец – высокий усатый мужчина, и Людмилин брат Витька – долговязый круглолицый парень лет шестнадцати. Фамилия их была Карачун. В Буде все звали их просто Карачуны.
Батальон постоял с неделю и подался, кажись, в Теребольские леса, с ним – старший и молодой Карачуны, а женщины остались.
После этого батальон Ивана Васильевича еще несколько раз стоял в Буде, и тогда у тетки Авгиньи было шумно и весело. Партизаны не вылезали из хаты – чаще всего это была молодежь. Приходили к Витьке, а шутили с Людмилой, но она была со всеми одинаково спокойная, сдержанная, и эта сдержанность, эта спокойная независимость очень нравилась Костусю. Людмила была не такая, как все! Она была гордая и недоступная со своей мягкой, чуть усталой улыбкой. При ней партизаны старались меньше ругаться и тише разговаривать. Проходило несколько дней, партизаны уходили на операцию, и опять женщины оставались одни, а сама деревня замолкала, притихала.
Костусь любил, когда Людмила наряжалась в черную юбку и розовую, с узкими мелкими кружевами на груди кофту. Кофта была из какой-то очень тонкой материи, сквозь которую даже просвечивало тело. Эту кофту Людмила надевала только тогда, когда партизаны устраивали танцы. Карачуны были городские и выделялись среди деревенских жителей своей аккуратностью, сдержанностью и каким-то своим чувством собственного достоинства. Даже у Людмилиной матери, хоть и немолодой, походка была ровная, размеренная, и сама она держалась всегда прямо, а когда разговаривала с кем, то смотрела прямо в глаза. Костусю казалось, что у нее очень твердый характер и твердое сердце, что она не умеет, не может и не должна плакать. Его мать может плакать, тетка Авгинья может, а Карачуниха – нет. Он не знал, откуда у него появилось это убеждение, однако ему так казалось. Она, как и Людмила, была другая, совсем не такая, как все их деревенские женщины. Иной раз он думал, что если б ей дать в руки пулемет, то она стреляла б в немцев не хуже любого мужчины. И сам Костусь боялся ее. Боялся ее глаз. Даже тогда, когда она говорила о чем-нибудь далеком, что его не касалось, ему казалось, что глаза ее говорили совсем другое: «А я знаю, зачем ты бегаешь сюда по пять раз на день. Зна-а-ю, меня не проведешь!..» И Костусь всегда опускал глаза и стоял потупившись, как только она заговаривала с ним. «Что ты такой надутый? – спрашивала она. – Как волчонок. Правда, Людмила, он похож на молоденького волчонка? Мне иногда кажется, что скоро он начнет кусаться…» Чем больше она говорила, тем труднее было Костусю вырваться из плена ее цепких глаз, и он заливался краской, и еще ниже опускал голову, и молил бога, чтоб она скорее отстала от него… «Ну что ты, мама… Какой же он волчонок? Он хороший мальчик», – заступалась за Костуся Людмила и гладила по голове. Костусю и радостно было, что Людмила стояла рядом с ним, он ощущал тепло ее руки на своей голове, ощущал какой-то своеобразный, только ее, Людмилин, запах – что-то от запаха леса и какого-то одеколона или пудры, и вместе с тем он весь напрягался: стыдился, что его принимают за маленького. Ему хотелось, чтоб на него смотрели как на взрослого, он ведь не маленький, ему скоро уже будет семь лет!..
Однажды Людмила даже взяла было его на руки, прижала к груди, и ему сразу стало горячо и хорошо-хорошо. Хотелось, чтоб так длилось как можно дольше, хотелось вдыхать этот особенный Людмилин запах, близко видеть розовенькую – она аж просвечивалась на солнце – мочку ее уха, но Костусь был мужчиной и в хате был Генка, показывал на него пальцем и кричал: «А-я-яй, маленький! На руки взяли! Маленький Костик!» – и Костусь напрягся и вывернулся из Людмилиных рук…
Он любил тайком подсматривать, как Людмила стоит перед зеркальцем, расчесывает густые каштановые волосы.
Наедине с собой Костусь часто думал о том, как окончится война, все разъедутся домой, и Людмила с матерью, братом и отцом уедут в свой город, и как он, Костусь, вырастет, окончит школу и приедет к ним, и она будет радостно удивлена, увидев его – высокого, стройного, в хромовых сапогах и в черных галифе. Что будет дальше, он не знал, но знал одно – что будет что-то очень хорошее.
Каждое утро, едва успев позавтракать, он выбирал момент, чтоб бежать к тетке Авгинье.
А потом к ним пришла на постой партизанка Таня…
Как только она зашла и спросила у Костусевой матери, возьмет ли она ее в хату, она так и сказала: «Возьмете ли вы меня в хату?» – а Костусь был как раз дома, убаюкивал Вову, – Костусь понял, что в его жизни произойдет что-то очень важное. Таня ему сразу понравилась, и он решил, что Людмилу больше любить не будет, а будет любить Таню. Ему было жаль Людмилу, но он успокаивал себя: «Ничего, Людмила не будет обижаться, вон к ним сколько партизан ходит, и все зыркают на нее». Еще он подумал, что, может, лучше сразу пойти и сказать ей обо всем, но потом решил: она сама все поймет, и так будет лучше.
А Таня постояла у порога, потом спросила, можно ли взглянуть на ребенка, подошла к люльке и радостно прошептала: «Такой малюпасенький, хорошенький – тьфу, тьфу, тьфу, пусть растет здоровенький», – прошептала так, словно лучшей похвалы, чем назвать Вову «малюпасеньким», не было на свете… Отошла назад, к порогу, и засмеялась, весело взглянув на Костусеву мать.
– И как вы решились на такое?
– На это решаться не надо. Сделается само, хотя и не загадываешь, – улыбнулась Костусева мать…
– А хозяин-то где? – посерьезнела Таня, обводя хату глазами, видимо, искала что-нибудь, что дало бы ответ на ее вопрос.
– Воюет, как и вы. За сколько месяцев покажется раз, увидим живого и снова живем ожиданием. А теперь у нас никто не стоит. – Мать умудрилась сразу ответить и на просьбу, и на вопрос. Костусь видел, что и матери Таня понравилась.
– Я много места не займу, – опять засмеялась Таня.
И действительно, роста она была невысокого, в черном, зауженном в талии полушубке, валенках, черной кубанке, с каким-то простым, очень свойским лицом. Костусю казалось, будто он ее знает давно, будто встречал ее много-много раз и они давно уже подружились…
– Не знаю, где только спать положить? Сама я сплю на кровати, рядом с малышом, мальчик на печи, и мужик, когда бывает дома, или на кровати, или на печи. Разве на топчане?
– Можно и на топчане. А если замерзну, пустишь погреться? – Теперь Таня смотрела на Костуся, и он засмеялся:
– Конечно, пущу!
– Вот и хорошо. Я такая мерзлячка и так люблю печь. – Таня тряхнула головой, словно ей и теперь было холодно, блеснула ровными белыми зубами и повернулась к Костусевой матери: – Скажите, как вас зовут?
– Марья.
– А по отчеству?
– Марья Ивановна…
– Марья Ивановна… Я вас буду звать Ивановна. Хорошо? А я – Таня… А тебя как, товарищ серьезный?
Костусь тоже назвался.
– Тогда я пойду. – Таня взялась за щеколду, но обернулась, кивнула на люльку. – А его чем кормите?
– Пока грудь даю и немного прикармливаю, что есть…
– Тяжело с таким без молока. У нас в отряде корова есть. Для раненых держим…
– Сколько там у вас того молока… А он уже ничего, привык. И бульон с ложечки пьет, и затирку…
Таня ушла, но вскоре вернулась с небольшим чемоданчиком. Там было все ее девичье богатство: небольшое круглое зеркальце, гребешок из тонкой алюминиевой пластинки, несколько косынок и еще разная одежка. Там же лежал маленький, завернутый в небольшую черную шерстяную тряпицу наган.
Мать достала из сундука выстиранный матрац, набила его соломой, положила на топчан, дала Тане подушку, одеяло…
– Ой, как славно пахнет солома! – воскликнула Таня, когда первый раз ложилась спать. – Ивановна, вы знаете, когда я спала на такой постели? Не знаете? До войны… А как ушла в партизаны… Какое это счастье спать вот так – разувшись, раздевшись – и знать, что не надо вскакивать при каждом шорохе, при каждом звуке…
Однажды под утро Костусь проснулся оттого, что его кто-то осторожно подвинул к стене… Он открыл глаза. Это была она, Таня. Она увидела, что он открыл глаза, приложила палец к губам: тихо, все спят, и прошептала ему в самое ухо:
– Была на посту и страшно окоченела. Такой морозина. Хочу погреться возле тебя, – и прижалась к нему. И руки ее, и щека, и вся она были холодными холодными и пахли морозом…
Костусь лежал тихонько, боясь пошевелиться, боясь глубоко дохнуть… И он еще раз решил, что будет любить только Таню. Она такая добрая, она приносит Вове молоко, и у нее в чемоданчике лежат настоящий наган и две обоймы… А Людмилу он любить не будет. Она слишком важная, и с ней нельзя поговорить о войне, потому что сама она не воюет, воюют ее отец и брат Витька… А Таня сама воюет…
К ним все чаще и чаще стал заходить Жибуртович, командир взвода, высокий, тонкий, в хромовых сапогах и галифе, с красивыми черными усиками над тонкими губами… И говорил он всегда так, словно подсмеивался над Таней, подкалывал ее, Костусю эти смешки не нравились, да и сам Жибуртович не нравился, и его удивляло, что Таня нисколько не сердится на Жибуртовича. Она как будто любила эти шутки, смеялась, а то и сама начинала подшучивать над ним. Костусь начал думать, что это так и надо, все же Жибуртович – командир, а Таня простая партизанка… Как-то Жибуртович принес Костусю ремешок от портупеи. Совсем новый, черно-розовый, с разрезами на концах. И это только вначале Жибуртович казался хмурым, строгим и нелюдимым. Он был добрый, и Костусь про себя начал разрешать ему приходить каждый день и подолгу разговаривать с Таней… Иногда Жибуртович засиживался допоздна. Пускай сидит. Пускай разговаривает, если ему так хочется, разве Костусю жаль…
Как-то Костусь проснулся утром. В хате было тихо, и на улице не было слышно голосов. Он взглянул на стену, где всегда висел Танин карабин: там было пусто… И мать была чем-то озабочена.
– Мама, а где Таня? – спросил он.
– Нет Тани. Ушла вместе с отрядом. И запомни, сынок, если кто будет спрашивать, у нас никто не стоял, и никаких партизан в Буде не было, и ты никого не знаешь… Запомнил?
– А кто будет спрашивать?
– Кто б ни был. Может, немцы будут спрашивать, может, полицейские. А может, даст бог, и никто не будет… Говорят, на станцию прибыл большой отряд немцев и как будто они идут с блокадой.
Костусь побежал к Генке. Людмилы и ее матери тоже не было – они ушли с отрядом.
И Буда притихла, насторожилась… Все жили в ожидании чего-то неизвестного, страшного. Разговаривали тихо, словно за каждым углом кто-то подкарауливал, следил, подслушивал. Но дни шли, а немцев и полицейских не было. Говорили, как будто они пошли другой стороной, за реку, и там вели бои с партизанами. Жизнь в Буде мало-помалу смелела, у людей укреплялась надежда, что все будет как и было до сих пор, что немцы не пойдут сюда. В Буду снова начали наведываться партизаны – по двое, по трое… Придут, уйдут – и опять не слышно. Костусь ожидал Танин отряд, а его все не было и не было, а когда перестал ждать, он пришел. Теперь в Костусевой хате вместе с Таней стоял хмурый и неприветливый партизан Дёмин.
К тетке Авгинье снова возвратились Карачуны – всей семьей.
И снова Костусь любил Таню и как праздника ожидал той поры, когда она намерзнется на дворе и придет к нему на печь греться. Такой праздник случался теперь очень редко, хотя на топчане теперь спал Дёмин, а Таня перешла спать в сени. Там, в углу за печью, стояла старая кровать, и теперь на ней лежали Танин матрац и подушка. Так захотела сама Таня. Она долго шепталась с Костусевой матерью, та все отговаривала: «Еще ведь холодно, гляди, простудишься», – однако Таня настояла на своем, засмеялась: «С ним не замерзнешь», и мать согласилась с ней, дала еще одно одеяло, старый полушубок… Теперь Жибуртович приходил к ним каждый вечер, часто садился ужинать. Почему-то Костусю хотелось, чтоб Таня хоть раз прогнала Жибуртовича – что он к ней все цепляется? А она только смеялась да сверкала белыми зубами. Теперь стоило Костусю увидеть Таню, ему вспоминался Жибуртович, и он начинал злиться на него: если ты командир, так будь командиром над всеми партизанами, а то привык торчать в одной хате, возле Тани. И опять все начиналось сначала, и опять Костусю стало тяжело жить на свете…
* * *
Костусь проснулся от радости. Что-то хорошее ворочалось в голове, не давало спать – и он проснулся. Печь была еще теплая, и он отодвинул подстилку, достал ногами голые кирпичи. Смотрел в потолок, в то место, где темнела дырочка от выбитого сучка в доске. На печи было еще темновато, но дырочка хорошо видна. Костусь знал, что в эту дырочку на ночь убегает спать паучок. Это его домик. Он и сейчас, наверно, спит там, подогнув лапки. Взять да пугнуть его, что ли?! Костусь привстал на колени, глянул в хату. И там было еще серо: возле печи сидели мать и Таня и при желтом огне «сопливчика» чистили бульбу; на топчане, укрывшись поддевкой, спал Дёмин: он недавно вернулся из караула. И тут Костусь чуть не вскрикнул от радости: он вспомнил, почему проснулся. Он вчера был у тетки Авгиньи, и Витька дал им с Генкой по планшетке. Это были совсем новые планшетки, со слюдяными перегородками, блестящими кнопками, с узенькими кожаными ремешками, чтоб носить планшетки через плечо. Планшетку можно было разложить, как тетрадь, а потом сложить и застегнуть на ремешок. Вчера было поздно, и Костусь не успел наиграться с ней и пофорсить – мать отняла планшетку и спрятала в сундук, а его отправила спать. Костусь сполз с печи, прыгнул на пол, подбежал к сундуку.
– Что это ты так рано вскочил? – подняла на него глаза мать. – Когда надо маленького покачать, так тебя не поднимешь, а тут готов. Лезь сейчас же на печь, а то сама подсажу.
– Мама, достань планшетку…
– А-а-а, вон оно что… Планшетка… А я-то думала, не волк ли в лесу подох, что Костусь так рано проснулся.
Костусь молчал. Пол был холодный, и его ноги уже мерзли.
– Иди спать, – уже строже сказала мать, обмывая нож и руки в чугуне с очищенной бульбой.
Костусь стоял, понурив голову.
– Дайте ему, Ивановна. Пускай потешится, – вступилась за Костуся Таня.
Мать молча встала, вытерла руки о полотенце, подошла к сундуку. Откинула тяжелую крышку и со дна, из-под поставов полотна, достала планшетку.
Костуся только и видели. Он шмыгнул на печь и, сев спиной к трубе, начал расстегивать и застегивать ремешки, примерял, чтоб они были как раз по его росту, чтоб можно было перекинуть планшетку через плечо. Совсем забыл, что потолок низкий, подскочил и так гвозданулся головой о доску – ту самую, с дырочкой, от сучка, – аж искры посыпались из глаз, а паучок выскочил из дырочки и побежал под балку. Костусь не заплакал, только почесал набитую шишку и сел на прежнее место. Начал прикидывать, что будет класть в каждое отделение планшетки. Командиры кладут туда карты, бумаги. Ни карт, ни бумаг у него нет. Вспомнил, что когда-то бабка давала отцу читать святые книжки, толстые, тяжелые, в твердых черных переплетах. Книги эти лежали на полке. Отец потихоньку вырывал листки из них и курил – без курева он не мог прожить ни одного дня… Может, в книгах еще не все листы вырваны, тогда можно было б вырвать и себе… Костусь опять сиганул с печи, подтянул лавку под полку. Какие книги! От них остались одни обложки. Хоть бы листок. Костусь взял обложки.
– Вот я тебе сейчас пошастаю так пошастаю, – метнулась мать за полотенцем, и Костусь едва успел юркнуть на печь.
В одно отделение планшетки он засунул обложку от одной книги, во второе – от другой. Слюда сразу потемнела, планшетка стала твердой и тяжелой. Как у командира. И Костусю показалось, что и он настоящий командир, в галифе, с автоматом. Вот сейчас вскочит на коня – и пошел на немцев.
Пока Костусь разбирался с планшеткой, паучок совсем осмелел, вылез из-под балки и поймал муху, начал закручивать ее в паутину. Глупышка: не успела ожить, почуяв весну, а уже попала в силок. Костусь взял щепку и разорвал паутину. Паучок удрал в свой домик, а муха долго еще барахталась, пока совсем не освободилась.
В хате стало светло. Таня кончала чистить бульбу, мать перекладывала в печи дрова. Разговаривали вполголоса, потом мать наклонилась к Тане, и та начала шептать что-то в самое ухо. Мать внимательно слушала, аж рот раскрыла, лицо ее вытянулось в радостном удивлении. Она не дала Тане договорить, перебила:
– Так ты не рада?
– Не потому, что не рада, Ивановна. Но ведь страшно… Смотрю на вас, вы и дома, в своей хате, и то вон как нелегко. А я… Сегодня здесь – и хорошо, и тепло, а что завтра будет…
– Никто не знает, что завтра случится, даже что сегодня будет…
Таня собралась в комочек, опустила глаза.
– И не думай, девка… И себя загубишь, и его… А он что, отец? – Мать кивнула головой на двор.
– Как и вы. Говорит, и не думай…
– Ну вот, видишь… Даже если и не здесь будете, все равно недалеко отсюда… Придешь к нам, разве я тебя прогоню, ты ж давно как родная нам…
– Спасибо, Ивановна, спасибо. Может, и рано еще разговор начали. Когда-то будет…
– Не успеешь оглянуться, девка. Только береги себя. И на холоде не простаивай, и тяжело не нагружай себя… – Мать подняла голову, увидела, что Костусь свесился из-за трубы, раскрыл рот, слушает их, забыл и о планшетке, и обо всем на свете. Рассердилась, крикнула: – А ты что уши развесил? Интересно ему, гляди ты. Ты вон торбу свою береги, а то возьму сейчас и выброшу, и не найдешь никогда.
– Что я там слушаю… Ничего я не слушаю. Очень мне интересно. У меня вот ремешок не застегивается… – Костусь снова занялся планшеткой. «Подумаешь, какие-то секреты там. А он… А она…» Костусь понимал, что в их хате происходит что-то важное, однако никак не мог догадаться, что это такое. Снова стал было вслушиваться в разговор матери с Таней, но так ничего и не понял, а потом и совсем забыл о нем.
Все утро он носился с планшеткой. Даже когда завтракали – Таня, мать, Жибуртович и он, – планшетка висела у него через плечо. Дёмин все еще спал.
Жибуртович пошутил:
– Давай-давай. Планшетка есть, осталось добыть автомат – и иди к нам. Конечно, если мать отпустит. Ивановна, отпустишь с нами?
– А пускай идет… Он мне кишки уже все вымотал. Может, хоть вымуштруете немного, к порядку приучите, слушаться будет…
– Ну, у нас это строго. У нас дисциплина железная… Так пойдешь в мой взвод?
– Пойду. Только ведь у меня автомата нет…
– Это можно поправить. Немного подрастешь, подловишь фашиста где или «бобика» – и вот тебе автомат.
Жибуртович был сегодня необычайно весел и снова начал нравиться Костусю. Правда, он только разговаривал с Костусем, а сам все время смотрел на Таню, улыбался ей, и она ему улыбалась… Пусть улыбаются.
Потом Костусь вышел на улицу, встретил Женьку и Алика, показал им планшетку. Женьке даже дал надеть и походить с ней по двору. А Алику не дал. Пусть знает. Не надо было позавчера толкать Костуся в канаву. Домой возвратился к обеду. На дворе было солнце и на кострике возле истопки было тепло, как летом. Расстелив пятнистую немецкую плащ-палатку и прислонясь спиной к задымленной бурой стене, там сидел Дёмин, писал письмо, пристроив на коленях доску, а сверху лист бумаги. Он хмуро взглянул на Костуся, не отрывая руку с карандашом от бумаги. Взгляд его словно говорил: «Ну что ты стал? Не видел, как письма пишут?» И тут Дёмин увидел планшетку.
– А ну иди, иди, – поманил он Костуся пальцем.
Костусь подошел ближе.
– Покажь, – протянул руку Дёмин.
Костусь снял с плеча планшетку, подал:
– Это Витька Карачунов мне вчера дал…
– Витька Карачунов, говоришь… У него всегда найдется что-нибудь. Ага… Добрый плановик… – Дёмин расстегнул планшетку, застегнул. – Молод, вот и глуп. Зачем малышу планшетка? А командиру она будет хороша. А то его сумка совсем обтрепалась…
Дёмин говорил спокойно, тихо, не поднимая на Костуся глаз, как бы сам себе, и Костусь почувствовал, как душа его провалилась в ноги. Он протянул руку:
– Отдайте…
Дёмин ничего не сказал. Обмотал планшетку ремешком, рывком встал, потянул на себя плащ-палатку. Ступил несколько шагов от истопки и вдруг остановился, повернул голову к Костусю. Тот стоял как оглушенный.
– Ну чего глядишь?
– Отдай планшетку. Не ты ее мне дал, чтоб отнимать.
– Не я дал, да я забрал. Тебе она для забавы, а командиру документы носить…
– Командир если б хотел, давно у немцев взял бы… Отдай… – Костусь бросился к Дёмину, уцепился рукой за планшетку.
– Ну, малец, отстань, – всерьез рассердился Дёмин и сжал Костусеву руку так, что у того выступили на глазах слезы. Он выпустил планшетку. – Рано тебе с такими игрушками ходить. Вырастешь, выучишься на командира, тогда и ходи. – И Дёмин пошел по улице, тяжело ступая по мокрой, грязной земле, коротко взмахивая рукой с планшеткой. Вода брызгала у него из-под сапог, ремешок от планшетки раскрутился и тянулся по грязи.
* * *
– Хозяюшка, мне б что-нибудь мягонькое, а? Нужно коника подмаслить… – Дёмин поднял вверх хмурое лицо, поглядел на Костусеву мать. Он сидел на полу, зажав между ногами короткий тупорылый ствол ротного миномета. Сказал как будто шутя, а лицо мрачное и глаза грустные.
– Не давай, мама, ему ничего. Он вчера у меня планшетку отнял… – опередил мать Костусь. Сам он сидел на кровати, качал люльку с Вовой.
– Ну куда ты, малец, со своей планшеткой… Я же тебе сказал, что планшетка нужна командиру, на то он и командир. У него все должно быть лучшее. И планшетка, и еще кое-что. – Он не то сморщился, не то улыбнулся… – Так что, хозяюшка, мягонькое что-нибудь найдем?
– Почему не найдем. Еще не обнищали настолько, чтоб не найти кусок какой тряпки. – Мать тоже сердитая, словно это у нее Дёмин отнял планшетку. Она выходит в сени и тотчас же возвращается, несет рукав старой отцовской рубашки, бросает под ноги Дёмину.
– А как там масло мое?
Мать заглядывает в печь, вытаскивает кочергой жестяную банку с двумя горлышками, ставит возле Дёмина:
– Всю хату провонял…
– Разве ж это вонь, хозяюшка, – ухмыляется Дёмин. – Это оружейное масло. Только загустело немного, холера его побери.
Он оторвал от рукава небольшой кусок, начал смазывать ствол. Смазывал и пел глухим, нудным голосом:







