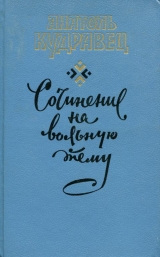
Текст книги "Сочинение на вольную тему"
Автор книги: Анатолий Кудравец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 32 страниц)
ГЕЛЬКА
Телефонный разговор был, как всегда, непродолжительным и сумбурным.
– Здравствуй.
– Здравствуй.
– Так это я.
– Слышу.
– Как живешь?
– Нормально.
– Мы тоже. Как Вера?
– Радуется, что дочь, наконец, окончит школу, а там или поступит куда-нибудь, или выйдет замуж.
– Чудачка, что она без Веры будет делать?
– Она найдет себе занятие.
– Ладно, вам виднее… Так знаешь, чего я звоню?
– Не знаю, но хорошо, что подал голос.
– Ага, мне тоже что-то не по себе. Но я не поэтому. Гелька письмо прислала.
– Какая Гелька?
– Питерова. Помнишь: «Ето я зарезал вчера утку, а лою[7]7
Лой – жир (бел.).
[Закрыть] того, лою, полведра…»
– Еще бы… Конечно, помню. Так что она пишет?
– Хочет купить нашу хату.
– Как это купить? Во-первых, мы не собираемся продавать. А во-вторых, она сама под Карагандой…
– Хочет купить и вернуться обратно в Липницу.
– А может, и хорошо: пускай бы в хате кто-то жил. И хате здоровее, и…
– Тебе нужны деньги? Так я могу одолжить.
– При чем тут деньги. Но если есть человек… Гелька… А хата пустует, сад дичает…
– Ну и пускай дичает. Ты, как я вижу, уже готов…
– Постой, давай по порядку.
– Какой тут порядок?! Я тебе повторяю: Гелька хочет вернуться домой, в Липницу. И ей приглянулась наша хата.
– Так и пускай бы…
– Что пускай?!
– Ну, если ты так категорично…
– Какая тут категоричность… Я не все договорил. Вслед за письмом она и сама прискакала.
– Одна?
– Пока что одна…
– Молодчина. Ну и что дальше?
– Ничего. Соня дала ей от ворот поворот.
– Как?
– А так, ты же ее знаешь… Встретила и сказала: ты на эту хату не гляди, она не продается и продаваться не будет. А если ты, Гелька, хочешь вернуться, селись на своем подворье или поищи что-нибудь другое.
– Так зачем ты мне звонишь?
– Ну, спасибо… Договорились… Не звонишь – плохо, позвонишь – того хуже. Будь здоров.
Частые гудки в трубке дали понять, что разговор окончен.
И так всегда. Молчит, молчит, потом объявится, взбаламутит свет и снова – пропал на полгода, а то и на целый год. Это он, мой братик, его стиль, его характер. Живем в соседних городах, но видимся редко. Одно хорошо: он не обижается, когда я молчу, а я не виню его за то же.
Так чего ради он звонил? И почему мне не понравился этот звонок? Чего я взвинтился? Вместо того чтобы лечь спать в десять часов, как собирался, пошел на кухню, поставил чайник, дождался, пока он закипит, выключил. Чай пить не стал. Нашел сигарету, закурил, хотя уже два месяца не курил.
Не понравилось, что он заговорил про хату. Конечно. Всего год, как не стало отца. Продавать хату никто не собирался. Какая продажа. Пусть стоит, будет куда приехать и ему, и мне. Хотя опять-таки, пустая хата – словно чужая. И сада жаль. Года четыре тому назад отец подсадил его. И так хорошо принялись…
И Гелька, Питерова Гелька…
У каждого человека есть в сердце уголки, куда он и сам не любит лишний раз заглядывать, а тем более – пускать чужое око. Не потому, что там нечто темное и страшное, с чем стыдно показаться на люди, а потому, что там скрыто нечто очень дорогое, хотя и приносящее боль. Иногда это всего лишь пепел истлевших надежд, но он не остывает, жжет. И хотя сам человек невиновен, что истлело то, чего не было, вина его, может, в том, что он верил в это н е ч т о, чего не дождался, однако уже эта несбывшаяся вера как будто делает его виновником и этого пепла, и того, что пепел все время жжет.
Гелька была красивая девушка. Красивая той красотой, которая сразу бросалась в глаза и не могла оставить никого равнодушным. Невысокая, миниатюрная, словно выточенная, смуглолицая, с черными курчавыми завитками над лбом и дерзкими голубыми глазами – быстрыми и улыбчивыми. И вся она была быстрая и живая, как ртуть. Все и всегда в Липнице звали ее ласково – Гелька. «Видел Гельку»; «Попросил, чтобы Гелька написала письмо». Гелька, Гелька…
Не знаю, как кому, а мне всегда казалось, что это очень трудно – все время чувствовать на себе всеобщее пристальное внимание… Как будто бы ты уже живешь не сам по себе, а ради кого-то, и некуда тебе скрыться, а скроешься – все равно знаешь, что где-то кто-то думает о тебе, словно следит за каждым твоим шагом. И уже, наверное, сам про себя начинаешь думать, как про кого-то другого – чужого, холодного. Так казалось мне, когда я думал про Гельку, а сама Гелька, наверное, ничего такого не чувствовала. Жила себе с открытой всем радостью на лице и радовалась этому.
И еще.
Всегда, как только называлось ее имя, мне прежде всего вспоминался ее отец, Рыгор, а по-уличному – «Питер», от перевернутого им же самим слова «теперь». Высокий, худой, с остреньким хвостиком бородки, в рудом кожухе, который он не снимал даже летом. Он был хороший столяр и хороший бондарь, умел легко, словно шутя, смастерить хоть кадушку, хоть маслобойку, хоть хлебницу, – любо глянуть и взять в руки – ни паза, ни зазора, как будто выточенная из одного кругляка – прочно, красиво.
Жил он с женой и Гелькой – она была единственная у них дочь – в маленьком поселке, что своими пятью хатами врезался в лес. Все называли этот поселок «крюком», потому что он представлял в дополнение к основному – длинному поселку, где стояла и наша хата и который оседлал дорогу в район, ту короткую перпендикулярно поставленную загогулину, без которой не было бы «крюка».
Трудно было сказать, кто кого вытесняет на этом «крюку»: то ли лес – березняк, осинник да лозняк – надвигается на раскорчеванные людьми лапинки земли, то ли упрямые люди отвоевывают у леса новые скупые загоны. Лес тут заходил под самые окна, а за каких-то сорок метров от крайнего огорода начиналось настоящее болото, на котором всегда крупной кровавой дробью была рассыпана клюква. Болото называли Борками. Был Первый Борок, Второй Борок и Третий Борок – участки хлипкой, скрытой подо мхом и кочками черной каши, которую рассекали длинные параллельные языки острова, поросшие диким мрачным ельником – бором. Это было завидное место для белок, куниц и волков, и только позорный страх перед волками держал наши мальчишечьи интересы на приличном отдалении от этих мест. Как показала жизнь, не такие уж и дикие были эти «борки», не так много было там волков, но тогда мы редко заходили даже на «крюк», и жизнь его немногочисленных жителей было для нас окутана какой-то тайной. Была еще одна причина, почему мы редко сюда наведывались: в этом поселке жили в большинстве пожилые люди, и у нас не было ровесников. Тогда Гелька, хотя она была и неровня нам, но мы ее считали своей, одиноко и пригоже красовалась в этом уголке.
Сам Питер мне запомнился не своими кадками и саночками, а странным поведением, которое у одних вызывало смех, а у других снисходительную улыбку. Питер всегда точно знал, кто и когда на селе собирается колоть свинью. Позже, когда я вырос, когда уже и самого Питера не стало, я начал думать, что он, видимо, вел какую-то свою бухгалтерию, свой учет, у кого сколько и каких свиней и кто когда собирается точить шило. А может быть, у него был острый нюх на паленую щетину: когда смолят свинью, едкий запах жженой щетины слышен далеко вокруг… Еще думалось, что, может, он умел уловить последний предсмертный вскрик раненного в сердце животного, хотя это и сомнительно, потому что был Питер туговат на ухо. Как бы там ни было, но как только в каком-нибудь дворе осмолят, освежуют кабана, положат чего лучшего на сковороду – печенки, мяса, сала – и по хате пойдет живой вкусный запах, вдруг тихо открывалась дверь и на пороге возникал он.
Приходил он всегда не просто так, а доставал из глубокого кармана кожуха четвертинку водки и торжественно, как будто это была по крайней мере литровая бутылка, ставил на стол.
В деревне не принято, не угостив свежениной, выпускать человека, который зашел в хату, а тем более когда он принес свою выпивку. Рядом с малюсенькой, как детская игрушка, четвертинкой вырастала бутылка хозяина – полулитровая или литровая. Вряд ли кто в Липнице помнил случай, чтобы когда-нибудь дело дошло до этой четвертинки, потому что хозяин, рукой и взглядом обходя эту посудину, всегда добавлял, если требовалось, своей выпивки и вместе с завернутым в полотняную тряпицу ладным куском свеженины возвращал четвертинку обратно захмелевшему гостю. И тот, как будто так и надо было, опускал ее обратно в бездонный карман кожуха. Разрумянившись от выпитого и осмелев, Питер вдруг начинал вспоминать: «А знаешь, братка, зарезал вчера я гусака, огромного гусака, а лою, братка, лою было… фунтов шесть…» Говорилось это всегда так, как будто тут, перед глазами, не лежал разобранный кабан, и выходило, что тех «фунтов шесть» было если не больше, то столько же, как у этого кабана. Иной раз Питер рассказывал, как зарезал барана. Тут уже лою было… на все село. У Питера было что-то неладное с носом, он сильно гнусавил, и это «лою» выходило у него как «ною, ною»…
Чудаковатый Питер и Гелька… Не вязалось все это в одно, по было оно так. Да мало ли что у кого не вяжется…
Как и до всех, докатилась война и до нашей Липницы, разве только немного позднее, потому что лежало село в болотной глубинке. Но отдаленность от бойких дорог, леса и болота, наверное, и стали тем первым условием, которое позволило людям пересилить внезапность, собраться в партизанский отряд и начать отвоевывать обратно у немцев свою землю.
Война наложила печать на все, но жизнь продолжалась, хотя была она какой-то скованной, замороженной. Как вода реки под ледяным полушубком.
Для нас, мальчишек, эта скованность была не чем иным, как приметой большой тайны, которая овладела людьми и однажды должна была взорваться и показать всем нечто неожиданное и чрезвычайно смелое. И потому мы шныряли всюду, где нюхом угадывали хоть какой-то намек на присутствие этой тайны, чтобы не пропустить мгновение того неповторимого взрыва.
Особенный интерес вызывали вечеринки. Они собирались и теперь, хотя и реже, чем до войны, но с гармошками и бубнами, и неистовыми польками, когда хату трясло от топота множества мужских ног. Это были не просто танцы, а нечто большее. Люди как будто вымещали свою злость и ярость на половицах. Словно бедные половицы были виноваты в чем-то, и потому их беспощадно колотили каблуками.
Детей на вечеринки не пускали. Их бесцеремонно выводили из темных углов, взяв больно за ухо, и некому было пожаловаться: отец и мать, если узнают, что был на вечеринке, добавят от себя еще.
И все же мы ухитрялись пролезать на танцы и всегда знали, что там происходило.
Ни одна вечеринка не проходила без Гельки. Да и как можно было без нее! Мы знали, что за Гелькой ухлестывают два хлопца, и оба – командиры партизанских рот, правда, из разных отрядов, и ожидали, что из этого выйдет.
Все знали, что у Гельки есть наш, липницкий хлопец, Леник Кривошеев. Он окончил десять классов на год раньше, окончил, как и она, на «отлично», но теперь был на фронте.
Все разрешилось очень плохо. Вечеринка была в соседнем селе, была там и Гелька, и приехали оба хлопца. Никто не мог толком объяснить, с чего все началось, но оба схватились за наганы. Хлопец из отряда Ивана Ивановича оказался проворнее, выстрелил первым…
Гроб с убитым командиром роты с непривычной для нас фамилией Евстратов стоял в нашей хате.
Была зима, но на дворе стояла оттепель, в хате душно. И лежал в гробу он – спокойный и красивый парень с черно-смоляными волосами. Наша соседка тетка Тэкля срезала комнатный цветок «паучок», он рос у нее подвешенный под потолком, и эта нежная зеленая веточка, разделенная надвое, лежала на белой подушечке справа и слева у смуглого лица мертвого командира. Она как будто напоминала людям о том, что скоро весна, тепло, зелень, жизнь, а его, этого парня, уже никогда не будет, и он никогда ничего этого не увидит…
Приходили сельчане, толпились у порога, стояли у гроба партизаны, а Гельки не было. Женщины рассуждали, что ей и нельзя показываться. Чтобы партизаны под горячую руку не рассчитались с нею: девка играла с огнем, и огонь уже забрал одного.
А я все же ждал, что она придет. Мне казалось, что она не может не прийти. И она пришла, когда уже собирались выносить гроб. Все расступились, дали ей дорогу. Она подошла к изголовью гроба, и все увидели, что она словно повзрослела за эти сутки, потемнела лицом. Постояла молча, без слез, повернулась и пошла из хаты, и все снова расступились, дали ей дорогу, и никто ее не задержал. Все с облегчением вздохнули, как будто этим своим приходом она сняла с души у людей тяжелый камень.
Меня же радовало то, что вышло так, как я и думал. Гелька не могла поступить иначе. Сердце мое полнилось гордостью: разве есть еще где-нибудь такие девушки, чтобы из-за них стрелялись командиры? Жаль, конечно, что стрелялись они насмерть. Лучше бы они вышли в лес, взяли наганы и стреляли в мишень. Можно было даже в портсигар, поставив его на пень. Отойти шагов на тридцать и стрелять. И кто лучше будет стрелять, кто точнее попадет в цель, с тем Гелька и пойдет. А то на вечеринке, в хате, никто ничего и не увидел. И совсем уж несправедливым казалось то, что и второго командира собирался судить партизанский трибунал. За что его судить? Что ему нравилась Гелька? Так она всем правится. А эти вечеринки и все это – просто так. Потому что у Гельки есть жених, настоящий, наш. Тогда в Липнице еще никто не знал, что Гелькин жених лейтенант Леонид Кривошеев еще год назад погиб смертью храбрых под Ленинградом.
Гельку в селе до конца войны не видели.
Объявилась она неожиданно и уже как городская – форсистая, с накрашенными губами и завитыми волосами. И юбчонка на ней была намного короче, чем у наших деревенских девчат, и вся она была какая-то нервно-быстрая, подвижная, и смеяться старалась громче других, и разговаривать на «городской» манер, перекручивая «деревенские» слова.
Мне запомнились ее неестественно громкий смех и новая привычка мотать головой, словно она хотела что-то стряхнуть с волос. «Ой, умру», – говорила она, резко поводя головой по сторонам, и волосы ее пружинили и взлетали волнистым веером. Что-то фальшивое было в этом «умру», и во всей ней, и было жаль ту, прежнюю Гельку. Правда, я мало задумывался над этим: у меня были свои хлопоты. Уже было другое время, я ходил в школу, и надо было добывать деньги на тетради, учебники – собирать и продавать грибы и ягоды, драть, сушить и сдавать лозу. И я без острой душевной боли слушал, с каким злорадством перемывали Гельке косточки наши бабы и девчата тем летом.
Спустя несколько дней после приезда Гельки домой мать отправила ее пасти корову. Коров тогда в селе было еще немного, и постоянного пастуха не было, каждый пас свою и где хотел: травы хватало. Гелька пасла корову в кустах далековато от дома, и их застиг ливень. Это был один из тех редких ливней, которые налетают внезапно и дают столько воды, что ее хватило бы на целый месяц спокойных дождей.
Гелька прибежала домой такая промокшая, что на ней рубчика сухого не было. Мать дала ей переодеться и, хотя за окном все еще лило, строго спросила: «А где же корова?» И услышала в ответ: «Карова бяжала через прясла да брац у гразь». – «Что?» – не поняла мать. «Карова бяжала через прясла да брац у гразь…» – повторила Гелька. Мать мало чего поняла из этих слов, одно ей было ясно, что коровы нет, а скоро вечер, и что Гелька как будто насмехается над матерью, ломает язык, – она взяла в руки скалку и указала дочери на дверь: «Я тебе покажу и брац, и гразь, попробуй только вернуться без коровы».
Искать корову Гельке не пришлось, корова пришла домой сама, переждав ливень в лесу под елкой. И, кажется, никого постороннего не было в хате во время разговора матери с Гелькой, но с того дня, как только кому хотелось подколоть Гельку, всякий начинал с этого: «Карова бяжала через прясла…», перевертывая каждое слово так, как Гелька никогда не смогла бы. Чего тут было больше – желания поиздеваться над человеком или проучить его за то, что так быстро и легко отказывался от своего родного, – неизвестно, но Гелька на это как будто и не обращала никакого внимания. Погуляла недели две, посмеялась: «Ой, умру»… – и опять махнула в город.
Вернулась жить в Липницу она так же неожиданно, как и уехала. Правда, вернулась не одна – с высоким белокурым парнем, Василем, с лица которого никогда не сходила довольная сытая усмешка. Вдобавок к молодой мужской силе он имел удивительно красивые белые зубы и усмехался всегда, даже и тогда, когда ему говорили неприятное и когда уже другой размахивал бы кулаками. Эта усмешка запомнилась всем хорошо.
Рядом с двором старого Питера пустовали чужие сотки, и колхоз отдал их молодой семье. Спустя какой-то год там уже стояли хата, хлев, истопка, а из болотистой земли зябко тянулись вверх хилые деревца молодого сада. Все это была Питерова работа – старик из последних сил старался для дочери и зятя.
Зять как-то сразу стал финагентом, ходил по деревням, собирал налоги, страховку, займы. Вряд ли кто может вспомнить Питерова зятя в селе с косой или граблями, но все хорошо помнят его с финагентовской сумкой. Свою работу он выполнял самозабвенно, все с той же неизменной белозубой усмешкой.
Старый Питер покинул этот свет тихо, незаметно, похоронили его, и спустя какое-то время люди стали замечать, что у зятя и покойного тестя есть одно удивительное сходство. Если у кого затевалось застолье – родины, крестины, свадьба или даже похороны, он всегда появлялся в самый пик его, и всегда ему находилось место где-нибудь неподалеку от хозяев. Пил и ел он много, но никогда не бывал пьяным и никогда не забывал главного, с чем приходил, – свою сумку.
Строгие финагентовские обязанности иногда заносили его далеко от Липницы, он не успевал возвратиться домой засветло и оставался ночевать там, где застала ночь, – то в одном, то в другом селе. Гельку это поначалу злило, но что она могла сделать? Погода всегда непостоянна: то снег, то дождь, а работа у Василя ответственная, и если он не мог добраться домой днем, то кто же отпустит человека в далекую дорогу ночью. Тем более что на руках у него сумка с деньгами и документами. И чем чаще не ночевал Василь дома, тем спокойнее становилась Гелька. А тут как раз приехали в село военные заготавливать дрова, и молодой лейтенант выбрал их хату себе для квартиры.
Случилось это тогда, когда Василь находился в одном из тех дальних сел своего обхода, откуда обычно добирался домой суток через двое, трое. Еще по дороге к дому ему сообщили про квартиранта, довольно откровенно намекнув, что, мол, не только ты умеешь облагать налогом яблони и ульи. Гляди, придешь в свою хату, а твое место уже занято. И тебя обложили. Гелька твоя – девка что надо.
Василь выслушал это спокойно и, показав, как обычно, белые зубы, ответил:
– А что то за дерево, если на него и ворона не садится?
Что он думал на самом деле, неизвестно, но весь тот месяц, пока военные заготавливали и возили дрова, ночевать всегда возвращался домой. А когда солдаты со своим лейтенантом уехали, Гелька несколько дней не показывалась на люди. Говорили, что под глазом у нее то ли чирей вскочил, то ли синяк.
О том, что Гелька с Василем уехали из Липницы, я узнал, будучи в армии. Их отъезд меня не удивил, уехали, значит, так надо. Тем более что налоги, которые собирал Василь, были давно отменены, и он со своей финагентовской профессией, видимо, не мог найти работу. Умерла и Гелькина мать, старая Питериха.
Это было то бойкое время, когда многие и из Липницы, и из других соседних сел начали срываться с насиженных мест и ехали кто в Караганду, кто в Донбасс или Карелию за конкретной, живой копейкой.
Неизвестно, кто из липневцев первым решился на такой шаг, но, прижившись на шахте, в городке под Карагандой, потянул за собой и других односельчан. Где-то среди них была и наша родня: тетка со всей своей дружной семьей из двенадцати человек. Попали туда и Гелька с Василем.
Василь, слышал я, пошел работать на шахту. Это меня немного удивило, и я подумал, как мы иногда ошибаемся в своих суждениях о людях. Вот Василь – финагент, а не побоялся полезть в шахту. А Гелька… Гелька – жена своего мужа, мать детей. Наверное, тоже нашла какую-то работу по себе.
Так думал я, так говорили односельчане – из тех, что выехали, а в село приезжали теперь как гости, в отпуск. Гелька с Василем в Липницу не приехали ни разу.
Несколько лет назад случилось так, что дела неожиданно забросили меня в Казахстан. Было это летней порой, и из-под крыла самолета степь напоминала затвердевшую бурую корку испеченной в деревенской печи буханки хлеба.
Пролететь тысячи километров и не заглянуть к землякам, к своей родне, было бы совсем непонятно. И я заехал к ним.
Это был небольшой, зеленый, уютный шахтерский городок, и пролегли его улицы в ладном отдалении от бурых терриконов шахт.
Встретили меня, как когда-то в деревне встречали человека, приехавшего если не из Канады, то из далекой Сибири. И вопросы «Как там?», а чаще: «Как там Меланья? Померла? Гляди ты! И Петрусь? Тоже помер? Ну, дела…»
И грустно, и радостно было мне среди людей, которые давно перестали считать меня настоящей родней. Потому что родня, как и любовь, держится на одном огне: жить вместе, помогать друг другу, видеть друг друга. Время – неумолимый садовник – отсекает каждую веточку, на которой появился хоть намек на усыхание. Отсекает ветви, не думая о том, что, даже мертвые, они связаны с корнями, отсекая их, он сечет и сами корни.
Я сидел за столом, окруженный родней и вниманием, смотрел на свою тетку – когда-то очень бойкую женщину, красивую лицом и статью, острую на язык и решительную на действия. Похоронив перед войной первого мужа и оставшись с тремя детьми, она вышла замуж за молодого парня, родила ему еще семерых и со всей этой оравой не побоялась поехать на край света. И живет, и, кажется, неплохо. Правда, постарела, морщины легли на лицо и руки, поблекли глаза. Известно, годы, известно, семья. Да какая семья! Если собрать вместе с внуками, то будет за тридцать душ. И мужа – того, второго, похоронила здесь, осталась одна.
И вот, когда были сказаны первые тосты, когда прошел первый голод на вопросы, когда застолье набрало возбужденный, хотя и не хаотичный разгон, вдруг раздался звонок в дверь. Открыли – и в комнату вошел не кто иной, как финагент Василь. Мало того что зашел, в руках у него была все та же на истрепанном ремешке финагентовская сумка.
Все это было для меня неожиданно. А он улыбался такой знакомой белозубой улыбкой. И зубы, было видно, все свои, и лицо молодое, и глаза смеются, словно и не прошло более четверти века с того дня, как мы виделись с ним в последний раз. А виделись мы в Липнице, на прощальном вечере, когда я уходил в армию.
– Вы что, и здесь все так же финагентом? – спросил я.
– Нет, теперь не финагентом. Теперь – страховым агентом. Страхую – мебель, машины, дачи, жизнь… Хочешь, могу застраховать твою жизнь, если ты еще не застрахован, а? Ты же много ездишь, много летаешь, всякое бывает, а?
Жизнь моя была не застрахована, но и страховать ее я не хотел, лишь заметил – с искренним удивлением, – что годы не берут финагента.
– А что им брать меня? Я на пенсии, а что им нужно от пенсионера? Имею шахтерскую пенсию, хорошую пенсию, а страховка – это так, доплата, приварок.
– Ты думаешь, он на шахте жил без нее? – кивнула тетка на Василеву сумку. – Не-е, она и там была ему и мамка, и тятька.
– Ага, выдавал зарплату шахтерам, – подтвердил Василь, все так же усмехаясь и шевеля тонкими крыльями носа, будто принюхиваясь. Он уже сидел за столом, и перед ним стояла полная чарка.
Под вечер, когда жара немного спала и потянуло прохладой, я с теткиным сыном Володей вышел в городской парк. В одном из дальних его уголков присели на лавочку. Он рассказывал о своей жизни, о том, как ему работается на шахте. Работается и живется неплохо.
– Но по всему видно, я долго здесь не задержусь. Поеду на БАМ или на Камчатку… Хочется поглядеть свет, пока молодой, – неожиданно закончил он свой рассказ.
– А как же мать? – спросил я.
– Мать? – он задумался. – Мать… Чем дальше, тем труднее с нею. Как только приближается весна, она начинает собираться домой, в Липницу. Ехать – и все тут. И календарь свой имеет: «Там уже земляника зацвела…»; «Наверное, грибы первые пошли»; «В Борках в нынешнем году клюквы должно быть много, вишь, по телевизору все передают: дожди да дожди». И так, пока осень не склонится к зиме. Тогда успокаивается, затихает. А потом все сначала. Мне кажется, это старость.
– Старость – одно, но это скорее болезнь.
– Может, и болезнь. И еда ей невкусная, и все не так.
– Ну, а что вы думаете?
– А что тут думать? Был бы жив отец, можно было бы что-то думать, а так… К кому она туда поедет? Все ж таки здесь…
Где-то сбоку за спиной у нас зашелестели кусты. Я оглянулся. Оттуда с черной хозяйственной сумкой в руках вышла еще совсем не старая женщина и пошла вдоль зарослей акации, пристально вглядываясь в кусты. Что-то показалось мне знакомым в ней, но ощущение это мелькнуло, как смутное воспоминание, и исчезло. Володя тоже поглядел вслед женщине, затем повернулся ко мне:
– Ты узнал ее?
– Нет. Да и как я мог узнать?
– Мог… Это же Гелька.
– Питерова Гелька?..
– Она.
– И что она здесь… делает?
– Собирает бутылки. Сюда, бывает, приходят семьями на весь день, с детьми, с едой. И часто, чтобы не тащить домой, оставляют бутылки под кустами. Вот она и ходит, собирает их.
Это уже было слишком. Гелька… Гелька собирает в городском парке брошенную посуду. Вспомнился Василь – не по летам молодой, красивый, шахтерская пенсия, агент по страхованию. Припомнились его слова: «Хочешь, могу застраховать твою жизнь».
– Слушай, Володя, а он, Василь, знает, что она ходит вот так?..
– Знает. И хорошо знает…
– Он что, не дает ей денег?..
– Видимо, не дает: он очень скупой. И все как-то раскололось у них, пошло в распыл… Она иногда заходит к нам, к матери. Все Липницу вспоминает… – Володя сказал это задумчиво, растягивая слова.
Я не стал больше ничего спрашивать у него, хотя мне очень многое хотелось знать.
…И был еще один день цветущей весны. Это уже было после того, как умер отец.
Приехал я домой, подхожу к двору, думаю, как в дом зайду. Хотя мы и просили двоюродную сестру Соню присматривать за хатой, – она жила через улицу, – но просьба просьбой, а у нее свои заботы, хозяйство…
Захожу во двор, гляжу, а из трубы тихонько дым вьется. Оказалось, брат приехал и затопил печь, чтобы обогреть хату. Тем более что дров далеко искать не надо было: отец запас их года на три. Обогрели мы хату, переночевали, а назавтра утром решили пройти в лес – туда, на Борки. В болото лезть было еще рано, хотя мелиорационные канавы и сделали его более доступным. Шли берегом леса, перелезая через сдвинутые тракторами в кучи изжеванные кусты и молодые деревца.
Было начало мая, стояла теплынь, светло-зеленые, острые, как иглы, стрелки травы смело и легко прошивали прошлогоднюю бескровную листву и настырно тянулись вверх. Над кочками стлался бледно-зеленый волглый дымок. В воздухе стоял смоляной запах еще зажатой в почках, но готовой вырваться на волю листвы молодых тополей и осин.
Мы то углублялись в заросли, обходя желтоватые, словно заплесневелые лужи еще не впитанной землей воды, то забирались в лозняк, то входили в молодой, сырой ельник. Плутали так довольно долго, пока не выбрались на более светлое место.
Это была чья-то усадьба, чей-то сад. Хотя березняк и осинник, цепко переплетенные лозняком, обступили все вокруг, место это выделялось правильностью линий когда-то посаженных деревьев. Сливы шли по периметру сада, они давно одичали, обросли побегами, их трудно было отличить от лозняка. Внутри этого четырехугольника ровными рядами стояли яблони. Было видно, что люди давно оставили этот надел когда-то отвоеванной у леса, возделанной земли. На местах, где когда-то стояли строения, сплошным бледно-зеленым массивом росла крапива.
Но поразило не это. Поразил цветущий сад. Соцветья так густо облепили ветви, что самих ветвей не было видно. Одни пуки цветов – крупных, разлапистых.
Подошли ближе, и тут я остановился как вкопанный. Глядел на стволы яблонь и ничего не мог понять. Стволы были не круглые, а квадратные! Кора, как и должна быть на яблонях, только в одних местах темно-бурая, а в других – светлая, мягко-шоколадная, и эти цветы тянулись от кроны до земли, словно кто-то провел кистью по стволу сверху вниз: раз – одним цветом, раз – другим. Но стволы были квадратными, как столбики на веранде дачного домика.
– Ничего не понимаю, – повернулся я к брату, вопросительно поглядел ему в глаза.
– Чего не понимаешь? – Он говорил спокойно, даже слишком спокойно.
– Ты погляди на стволы. Какие они?
– Обтесанные.
– Как… обтесанные?
– Топором. Обычным топором.
Я подошел ближе к яблоне. Вся она была бледно-розовая от соцветий, там мирно, еще несмело в начале весны гудели пчелы. Ствол дерева действительно был когда-то грубо – чах, чах, – видимо, человек торопился или нервничал, – обтесан топором. Но дерево нашло в себе силу залечить эти раны, почти все обтесанное затянуло молодой корой, и даже те участки, где вместе с корой была снята и древесина, покрылись тоненькой коричневой пленкой. То же было и с другой яблоней, и с третьей… И сад цвел.
С немым вопросом я смотрел на брата. Ожидал, что он скажет.
– А ты знаешь, чей это сад? – спросил он.
– Не знаю.
– Питеровой Гельки. Уезжая отсюда, она взяла топор – а ты должен помнить, что у Питера они были острые, – выскочила в сад, как сумасшедшая, и пообтесала все деревья. Говорили, будто бы на это место хотела переселиться одна женщина, из тех, у кого, будучи финагентом, останавливался на ночлег ее Василь. И вот Гелька топор в руки и… «Не мне, так пускай никому». А как там на самом деле…
Я больше ни о чем не спрашивал. Мне вспомнилось, как когда-то мы с братом лазили по болоту, обдирали лозу, чтобы купить тетради и учебники, и какими сиротливыми и голыми стояли те лозины. И вот яблони. Хорошо, что она не обтесала их вокруг, а только с боков, оставив полосы живой коры.
Домой мы шли молча. Брат все время курил, глядя перед собой. Мне тоже не хотелось говорить. На душе было пусто и неприятно. Словно кто-то очень близкий предал тебя, и предал открыто, бесстыдно.
Я не стал рассказывать брату о том, что не так давно видел Гельку.
И вот этот телефонный звонок.
Я сижу на кухне, курю, хотя два месяца тому назад бросил курить… И жене клялся, что это навсегда…
1983








