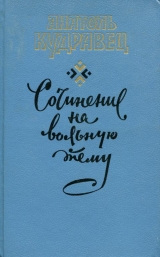
Текст книги "Сочинение на вольную тему"
Автор книги: Анатолий Кудравец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц)
II
Они шли по стежке обочь дороги: высокий, несколько сутуловатый Игнат Степанович, в ватнике, подпоясанном ремнем, в кирзовых сапогах и кепке, и Валера – рослый, худой, с большими голубыми глазами и по-девчоночьи нежным лицом, усыпанным вокруг носа бурыми конопушками.
И тот и другой шагали легко, и лишь сутулость человека в ватнике выказывала, что он старше, хотя намного ли старше – на десять, двадцать лет, – издали не определишь.
А было одному семьдесят, другой пока что ходил в девятый класс.
Шли и разговаривали меж собой. Игнат Степанович – взмахивая старой брезентовой сумкой, которую держал в руке, Валера – подбивая плечом ремень раздувшейся, перегруженной учебниками и тетрадями черной сумки. Тяжелая сумка стягивала ремень с плеча, и, чтобы вернуть ее на место, Валера время от времени дергал плечом.
Говорил больше Игнат Степанович, Валера слушал. Однако ни у того, ни у другого не возникало ощущения, будто тут что-то не так или могло быть иначе. Игнату Степановичу довольно было и тех немногих слов, которые нет-нет да и подкидывал Валера, и его желания слушать. В этом желании было нечто большее, нежели обычное уважение школьника к старшему, хотя бы и соседу.
Валере хорошо было слушать Игната Степановича, следить за ходом его мысли, которая подчас делала такие неожиданные петли, как заяц, скидывая след, что нелегко было угадать, куда она поведет дальше. Однако продолжение непременно следовало, хотя и держалось чаще всего на внутренней логике, порой совсем неожиданной. Сам не замечая того, Игнат Степанович перескакивал через десятилетия, но все, о чем он говорил, хотя это было и давно, жило в его воображении так свежо и отчетливо, будто происходило не далее как вчера. Казалось, время само по себе, как некая конкретная мерка отпущенного всему живому, для него не существовало и жило лишь определенным признаком предмета разговора. Порой он забывал, что его собеседник на сорок, если не больше, лет моложе и не может знать ни того, о чем речь, ни условий, в которых это происходило. Он говорил о себе самом, он весь жил в том времени, и все оживало там.
– Вопщетки, как пора года меняет личину земли, так и люди любят напяливать на себя всякое новое тряпье. И тряпье это бывает настолько смешным, что иной раз человеку делается противно за самого себя. Это все равно как долго пить, а потом, протрезвев, увидеть себя в зеркале. Моды проходят, а все остается. И однажды, проснувшись с чистой головой и посмотрев на небо, человек вдруг открывает для себя такое, что должно бы знать давно: что солнце всходит там, где оно всходило и пятьдесят лет назад, когда ты еще бегал без штанов. Правда, тогда, может, там стоял лес, болботал тетеревами и другими птицами, а теперь поле, как плешь. Оно так: коли что есть, так не надо спешить уничтожить его. Начинают с малого, а кончается большим, и от этого никуда не уйдешь. Иному кажется, что земля пропадет, если он на ней не перевернет все вверх ногами, а выходит наоборот. В историю все идут пешком, и она сама выбирает себе любимчиков.
– Не знаю, как в истории. А мода… – сверкнул глазами Валера. – Моды тоже разные… Мода на штаны, на платья… А возьмите ракеты, спутники, атомные корабли – тоже мода. Сегодня человек залез в атом, как вот… – Валера указал на свежий холмик земли, наточенный кротом, – как этот крот в землю, и копается там, будто в своей хате. Тоже мода…
Игнат Степанович бросил косой взгляд на холмик земли, пыхнул дымом.
– Вопщетки, крот всегда корни подрывает, это ты верно подметил. А я хочу сказать так: только чудаки считают, что все начинается с них и кончается ими и что своя пядь самая большая. Допустим, сегодня и в Липнице мало кто помнит, что это была вовсе не мельница, а костёлок, – Игнат Степанович кивнул головой назад, туда, откуда они только что вышли.
– Костел? – не поверил Валера.
– Костёлок, – повторил Игнат Степанович, – И службу в нем справляли, и покойников отпевали. Только стоял он на том, польском кладбище, что за седьмой бригадой. По округе их много сидело – поляк не поляк, шляхта не шляхта. Понаехали, еще когда делились Польша с Россией. Земля всегда манит к себе людей. И они – люди как люди, хотя, скажу тебе, гонору больно много, как у собаки блох. Старались цену себе держать. Оно опять-таки: человек без цены – ничейный человек, никогда не знаешь, что он тебе выкинет.
А некоторые поврастали тут крепко. Все один к другому «пан» да «пане». Пускай себе, всякий человек должен как-то обзываться. Я сам не люблю, когда подходит к тебе с бычьими глазами, и не знаешь, чего он хочет: «здравствуй» сказать или на рога посадить. У них «пан», у нас «товарищ». А некоторые широко распростерлись тут – и земля, и леса, и батраки… Паны… Сам пан, а кроме «быдло», других слов не знает. Ну, эти сбежали вместе с поляками в двадцатые годы. И было их – разве только Яворские и Казановичи? Батраки и организовали в их подворьях кооперативы, или, как говорили, «коммунии». А почему не организовать: и дом на месте, и конюшни, и овчарни. Сады были, ставки. Оно, может, и вышел бы из всего этого какой-нибудь толк, ежели бы кто разумный взял все в свои руки, а то подохотился на это дело Рыгорка Захожий. Он долго батрачил у Яворских, все больше при конях, на конюшне. А на это много ли мужчины надо? Правда, служил потом в Красной Армии. Вернулся из войска и ничего лучшего не придумал, как опять во двор пойти, в конюшню. Коней стало меньше, и самого пана уже не было, но осталась его дочка. Она еще до революции слюбилась с батраком, тот и украл ее ночью через окно. Батька позлился, позлился, да все же дал лесу, они и построили себе хату через дорогу от его двора, вот как будем идти – за лесом, по левую руку.
Рыгор прослышал, что кругом создают коммунии и сами батраки хозяйничают, объявил коммунию и тут. Коммуния – это хорошо, да и в коммунии работать надо. И пахать, и сеять, и за скотиной ходить. Земля человеком держится, отступился от нее – и все на закат пошло. А Рыгорка был не шибко грамотен в этом. Привык при конях – «но!» да «но!». Кони и те не всегда это любят, а люди и подавно. «Но»-то можно и послухать, а есть надо! И пошли под нож – то баран, то овечка… Словом, погнали Рыгорку из начальства. Выделили ему земли. Садись, Рыгорка, и воюй, шевелись. Да недолго он сидел там: только и успел поставить хату, а тут колхоз начали собирать, он и переехал в поселок. Зачем я, говорит, буду там обстраиваться, чтоб посля снова перевозиться. Да уж одним ходом. Оно и верно.
Можно сказать, он первым и записался в колхоз. Пошло еще человек десять. А председателем выбрали Габриеля Василевского, из Кутиня. Тут много понаехало, как стали землю нарезать. Ведомо, земля добрая, ухоженная. И леса много. Пришел он тогда и ко мне:
«Давай, Игнат, в колхоз. Что ты будешь на хуторе сидеть. Да и надо. Пойдешь ты, за тобой остальные пойдут. На тебя многие кивают».
«Ну и нехай кивают, – говорю. – А я хочу поглядеть, что вы будете делать, когда последнюю овечку Казановича под нож пустите».
Так, знаешь, кажется, человек человеком, а тут раскраснелся, как бурак. Потом мы сошлись с ним, он и за кума у меня был, Соню крестил.
«Ты с этим не шути, – говорит, – А то за такие шутки можно далеко угодить». И аж слюной брызжет в глаза: была у него такая болезнь, много слюны во рту собиралось. Так что ж ты ее на людей пускаешь.
«Ты во что, Габриель, – говорю ему, – слюной на меня не пырскай, лучше возьмись хоть какой порядок в колхозе навести. А колхоз, вопщетки, дело добровольное: хочу – иду, хочу – нет. И что до овечек, то правда. Почему-то у вас, в колхозе, они болеют, и вы их прирезаете, как неделя – так овечка, а у всех других людей они живут здоровые».
«Легко тебе говорить. Попробовал бы сам на моем месте».
«На твоем месте я не был и, по всему, не буду. Нет у меня такой прыти. Делаю, что умею. Мне бы со своими рубанками и прочей такой амуницией управиться. А что про овечек сказал – так запомни: это не я один вижу».
Он-то и сам это знал, да кому приятно, когда тебе твоим же в глаза колют. Потом прислали Вержбаловича. Габриель рад был, что скинул наконец начальницкую заботу с головы. Забота заботой, а и тюрьмы стал побаиваться. Совсем люди осмелели, тащить начали. И не в колхоз, а все из колхоза. И не только ночью, но и днем. А у Габриеля смелости духа не хватало, чтобы заступить кому дорогу. Командовать тоже надо иметь талант. Это не то что на коров: кнутом замахнулся – они и пошли. Люди! Он раз пошел, а два в голове понес, а ты кумекай, что к чему. А костёлок раскатили уже при Вержбаловиче.
– Как… раскатили?..
– Как и полагается разбирать: сверху донизу… Сперва разобрали, потом собрали. Вопщетки, я сам разбирал его, тот костёлок. Ты и теперь глянь на крышу, он и тут простоит годков двадцать, а то и больше, если стропила не лягут… А тогда… Надо было каждую черепичинку снять, спустить вниз, положить, да все целехонькие и перевезти. Пусти которого, так он такого натворит… – Игнат Степанович засопел, зачмокал трубкой, но она уже потухла. Остановился, достал спички.
Дорога поднялась на взлобок, и перед глазами открылся простор серебрящейся низовой разлоги, которая, точно строгой линией циркуля, была обведена вдали темно-синей стеной леса.
– Я тебе скажу, – прикурив, заговорил он снова. – Вержбалович человек был приметный и видный не только в Липнице, а и на весь район. Потому и прислали, хоть он и из-под Виркова. Вирковцы, знаешь, люди заводные и отчаянные. По-моему, так про них много напраслины наговаривали. Кто где украл коня – вирковцы, а если двух или трех – то наверняка они. А тут надо разобраться. Что дружны, как один, так это верно.
Дал он мне в помощь Василя Мацака и Лександру Шалая. Привел их и говорит: вот тебе, Игнат, помощники. «Спасибо», – говорю. Лучшего помощника, чем Василь, и искать не надо. И не больно высок ростом был – ну, метр семьдесят пять, а плечи – как сруб у колодца, и сила… Все дивились, откуда она у него такая. Мацак так Мацак! И что было: на пасху начали катать яйца, а собралось человек пятнадцать, если не считать зевак… Катают. И Василь среди них – не заводила, но и не последний хвост. А заводилой был Горавский Юзик. Чуть повыше Василя и здоровяк. Выйдет косить – коса десятка, а покос не у́же двух метров гнал. А тут вышла чересполосица с очередью – кому катать: Василь говорит – мне, тот – мне… Там и выигрыш был два яйца, а может, и меньше, да ведь азарт. Игра игрой, а перешло на серьезное, за грудки схватились.
«Хорошо, – говорит Василь, – будем биться».
«Как?»
«Как хочешь. Только бьем по разу».
«А не пожалеешь?»
«Не пожалею… Мужчины будут судьями».
На том и порешили: уж очень заелись оба.
Юзик бил первым и ударил под вязы, думал сразу с ног свалить. Да не свалил. Василь отлетел метра на два, но устоял на ногах. Изо рта потекла кровь, он и не вытирал ее – видать, не замечал, что она течет.
Вразвалку, как бы щупая землю, отошел назад, стал на прежнее место. Кто-то из мужчин вытер ему кровь.
«Дык, гета, разве ж так бьют», – сказал Юзику. Тот тоже встал на место, по уговору. Мацак как стоял вполоборота к Юзику, так и рубанул ребром ладони по шее. Кажется, и не замахнулся, а просто так, вроде бы стращая, вскинул руку – Юзик с копыт и вставать не хочет… Подняли его, дали воды.
С полгода потом ходил со свернутой шеей, чем только не растирал, покуда на место поставил. А Василь после признавался мне: «Разве ж я на полную силу бил? Да я, гета, если б юкнул…» И правда, он уж если юкнет так юкнет, ни один на ногах не устоит. Силу имел человек удивительную. Считай, и жить остался, еще когда с поляками воевали, в двадцатом, только потому, что силу такую имел. Когда наше войско переправлялось через Березу, ему перебило левую руку и сорвало с моста. Он летел и зацепился здоровой рукой за поперечную балку. Зацепился и повис. Внизу вода несется, как бешеная – мост на мелком не ставят, – а большего сам ничего сделать не может, ранен. Рука так пристала к дереву, что чуть оторвали. Целую неделю потом фельдшер растирал ее – не хотела разгибаться. А то было и такое: согнул он большой палец крючком и говорит – не разогнете. Несколько человек пробовали сделать это, и не вышло. Шомполом разгибали – шомпол гнется, а палец хоть бы что.
Они все, Мацаки, были крепкие, как дубы, хоть и жили бедно. И работники были тяговитые, да что ты хочешь, без земли, все больше батрачили. А когда землю нарезали, дали им вон там, но ту сторону леса, за бродом… Они скоро обжились – и хату, и хлев, и гумно поставили, ведомо, работы не боялись, а лес никто не стерег. И сад посадили, а тут надо перебираться в поселок. Перебрались, а сад остался. И долго еще стоял. Одну старую яблоню так, наверно, лет пять назад ветер свалил… Лес кругом обступил, а она стояла. Сладкие яблоки были на ней.
– Житники, полосатые такие, – подтвердил Валера.
– Ага, как поросята у дикой свиньи. Василь когда-то батрачил у Казановича, а у того был горбатый брат, Игнась, хороший садовник и человек смирный. Все ходил по лесу и щепил яблони. Увидит дичок – прищепит. Все Казановичи съехали после революции, а он остался, за садом присматривал. Его никто и не трогал.
– Еще одна такая яблоня есть в углу за Стаськовой пасекой, в ельнике, – напомнил Валера. – Яблоки сочные, но с горчинкой.
– Одичала, наверное… Вопщетки, и человек дичает среди чужих, и дерево тоже.
– Ага… Я летось в грибы пошел. Поздней осенью, уже листва осыпалась. Надумал и побежал… Грибов не набрал, а на яблоню наткнулся. Иду по ельнику, домой уже собрался, и вдруг – яблоко под ногами, потом еще… Думаю: откуда они тут? Может, наносил кто? Бывает же, тащит ежик, да потеряет… Гляжу дальше, а там вся земля усыпана ими вперемешку с листвой. Только тогда и яблоню заметил. Затиснули ее елки, как она, бедная, и выросла: тонкая, высокая, ветки с лапками воюют.
– Вопщетки, так оно и есть… Жил горбатый панок, и кто бы его вспомнил, кабы сам не напомнил о себе… Если поискать по лесу, еще много где можно встретить его работу. Делал человек свое дело, на него как на дитё смотрели: ходит с ножиком, забавляется… А оно вон как выходит… Каждый хочет чем-то прославиться.
Так вот: я, Мацак и Лександра Шалай. Лександра тоже хлопец был ничего, и силу имел, только больно суетлив, и голосок тоненький. Если не знаешь, то можно и за бабий принять. От такого голоса не жди серьезности: писком погоды не поправишь. Значитца, полезли мы втроем на крышу костёлка. Василь увидел, что нас ждет копотливое дело, и говорит: «Что мы, Игнат, будем этой вошебойской работой руки занимать… Возьмем колья, повыбиваем клинья, подважим одну стропилину, другую и спустим крышу на землю, к чертовой матери…»
Подважить и столкнуть можно было, да какой толк… Говорю: ступай, Василь, подгоняй подводы, а мы тут с Лександром черепицу сымать будем. Са́мо трудно было начать, взорвать железную обшивку, что шла по коньку, а конек оголился – там пошло полегче. Мы приспособили мешок, как кошель, связали вместе двое вожжей, перекинули через слегу, рычаг такой сделали. Я загружаю мешок черепицей, а Лександра спускает его вниз. Выгрузит – и снова подает мне наверх…
Я тебе скажу, если б не Вержбалович, полез бы я на тот костёлок? Все-таки божий дом, нехай и не нашего бога, и веры в него у меня не было. Бог богом, а коли сам не сделаешь – никто не поможет. Да Вержбалович подъехал ко мне так, что и отступать было некуда. Кто, говорит, окромя тебя, все это порядком сделает? Если бы, говорит, надо было только развалить его, этот костёлок, тут легко найти кого угодно, а надо ведь и сложить все обратно. В районе я договорился, паровик дают, и спрячем мы его под эту черепичную крышу. Заместо креста трубу поставим, во как оно будет. И с религией надо бороться… Делали мы эту работу ночью. Как только я не сорвался вниз – сам не знаю. Встали люди утром, глянули на костёлок, а он стоит без головы, стропила просвечивают. А черепица уже там, на взгорке, где мельница должна стоять…
– Ломать – не строить, – заметил Валера, подтолкнув плечом сумку.
Игнат Степанович только чмокнул губами и замер, прислушиваясь к чему-то, потом повернул к нему голову:
– Я тебе скажу, и разбурить, если сделано с головой и серьезно… Кажется, что там такого: ни единого железного гвоздя, только стяжки на болтах, будто все само по себе держится, а не подступиться… Я два дня приглядывался, и с той, и с другой стороны заходил, прежде чем лезть наверх.
– Ну, а… если б это теперь, в наши дни, пришел к вам… председатель и попросил: «Игнат Степанович, помоги…» Полезли бы вы, как тогда, а?
Игнат Степанович молчал, словно не слышал вопроса, и, навострив слух, к чему-то напряженно прислушивался.
– Постой, Валера, давай послушаем… – поднял руку.
Запрокинул голову в небо, разинул рот, обсыпанный седой щетиной, и застыл неподвижно, точно охотничья собака, учуявшая зверя.
Валера тоже прислушался. Откуда-то, казалось с высокого неба, доносился протяжный тоненький звон. Нет, это была не песня первого жаворонка, не пчелиное жужжание…
Перед ними лежало широкое, темное, будто затуманенное пылью поле. На нем изредка встречались стеклышки-лужицы, они сверкали, искрились. Поле спускалось вниз, в широкое раздолье, и уходило дальше, к лесу. Что-то волновало, тревожило Игната Степановича – то ли само поле, то ли это весеннее зумканье, – словно он только что поправился и вновь ощутил счастье жить и изведать радость жизни. Радость ступать по этой жесткой, затверделой стежке, скользить по льду, усыпанному изнутри потом вешних капель, и слушать доносившееся с неба зумканье.
Игнат Степанович долго искал источник этих звуков вверху, пока не догадался опустить глаза вниз, и тогда увидел, что это звенел, умирая, снег. Зимой здесь намело огромный сугроб, снег растаял, остался лишь тонкий и прозрачный, как оконное стекло, ледяной козырек. Он отпотел на пригреве, с ледяной коры срывались капли воды и звенели, словно ожившие в улье пчелы. Тонкий, пронзительный пчелиный голос. Сжалось, защемило сердце.
С приходом весны Игнат Степанович ощущал себя птицей, которой надо лететь в далекий край. Она не знает, куда и зачем лететь, но потребность полета живет в ней, как сама жизнь. Он был человек – не птица, однако это ощущение не покидало его.
Игнат Степанович бросил хитроватый взгляд на Валеру, спросил:
– Вот ты хочешь знать, как бы я поступил, если б теперь попросили сделать то же самое с костёлком… А я сперва хочу узнать это у тебя. Если б пришли и сказали такое тебе, что бы ты делал?
– Я? – Валера подумал. – Конечно, не полез бы…
– А интересно знать: почему?
– Ну, хотя бы потому, что под мельницу можно было пустить какую-нибудь из панских построек или поставить новый сруб… Да и… вы же говорите: редкой руки мастера его строили… Пускай бы стоял…
– Вопщетки, голова у тебя правильно варит… А вот ты – комсомолец, и тебе надо с богом что-то делать, ну с той самой религией… Как ты тут будешь?
– Ну, разъяснять людям надо… Лекции читать, кино показывать. Человек должен сам к этому прийти…
– Сам-то сам, конечно. Это теперь, когда с богом все на «ты», можно и самому, а тогда… Я, вопщетки, и теперь, если б пришел Вержбалович и сказал, полез бы… Очень было интересно все это… посмотреть, какая из него мельница выйдет… А мельницу, какую мельницу отгрохали! Пять сельсоветов кормили. А Вержбалович и тогда… не всем по нутру пришелся. Особенно выступали против Мостовские. Их было двое братьев и шурин третий. Они и рассчитывали, что кто-нибудь из них сядет на это место. Был Габриель, так почему бы и им которому не покомандовать. Миша был самый младший, а Стась и шурин Василь – уже в самых годах и по семь классов имели. Классы классами, охота охотой, да надо еще, чтоб люди надумали позвать. Сидели они на хуторе, туда под Бродец, и слазить с него не хотели. И в колхозе, и на хуторе: тут тебе и лес, и луг, и поле. И скотина – где хочет, и сам – где хочешь. Оно и слепому видно: куда ни пойдешь – всюду свое, и свое – свое, и колхозное – свое.
Сход проводили на выгоне перед подворьем Казановича. Подворье было крепкое: конюшня, овчарня, два амбара, гумна и дом комнат на двенадцать, парадный подъезд на круглых еловых столбах, широкие двери, закругленные окна… На фронтоне вывели: «Колхоз «Чырвоны прамень»[1]1
«Красный луч».
[Закрыть]. Хорошее название придумали. Всем нравилось. В панском доме и разместилась контора колхоза и детский сад. Да две комнаты занял Вержбалович: приехал он не один – с женкой и тремя детьми. Женка снова тяжелая была, рожать собиралась, а как без своей хаты? Кругом смелый человек был. Позднее уже, когда мы сдружились, однажды я и спрашиваю его: «Как это ты так – сразу с семьей? А вдруг бы не выбрали председателем?» А оно и такое могло быть. «Ну и что, говорит, попросился бы в колхоз, неужто земли пожалели б, не приняли?»
Принять-то приняли бы, да и из района прибыл человек, сход проводить, все-таки подмога, но вот так – связать все в узел, детей, бабу на подводу – и, как цыган, в белый свет, – тут риск нужон. Правда, и женка его, Люба, легка была на ногу. Не успели сгрузить узлы с подводы, она и пошла командовать: тут это повесить, тут то поставить, это взять, то отдать. Идет, живот выставила вперед, прет, как танк.
Мостовские крик большой подняли на сходе, аж не по себе было слушать. «Разве у нас своих нету, обязательно чилых надо?!» – «А кто тут чилый? – поинтересовался тогда Мацак. – Все мы чилые, грыземся, как собаки, а порядка нету. Много у нас развелось таких: что урвал – то и тянет». Он вроде бы и не говорил впрямую о Мостовских, а глотку им заткнул.
Вержбалович сразу дисциплину взял строгую и о том еще на сходе предупредил: «Я вам по-большевистски говорю, без дисциплины добра не будет. Так давайте вместе его шукать. А что, говорите, чилый, так глядите сами. Я большинство из вас знаю, да и вы меня, видимо, немного знаете.
Оно и верно: многие его знали. Знали, что учился в Минске на коммунистических курсах. Правда, тогда никому в голову не пришло спросить, почему он не окончил их и вернулся на работу. А по правде, так довелось ему утекать с тех курсов. Знали бы это Мостовские – не преминули бы спросить, гвалт поднять.
Он рассказал мне об этом года два спустя. «Чырвоны прамень» в то время уже крепко держался в районе, и на трудодень начали давать – и хлеб, и бульбу, и даже яблоки. Вержбаловича приняли и те, кто и не хотел принять. Увидели: человек и говорит, и делает, а не в свой хайлук тянет. Видно, и на курсах он был такой же горячий. Любил всюду проверить, крепко ли завинчено, а нет – то и перевинтить по-своему.
Говорит, собрались как-то в свободный вечер в комнатенке, и немного было, человек восемь. Стихи, байки, а потом и на религию перешли. Тогда этим все кончалось. После кулака да мирового империализма религия была первейший враг. Стали вспоминать, как когда-то шло богослужение, какие молитвы читались, псалмы. Голос у Хведора густой был, в одном конце поселка гаркнет – в другом на постели не улежишь. Возьми он да затяни вовсю: «Суди меня, боже, и дело мое ты веди против народа без сердца! От людей криводушных и неправедных вызволи ты меня! Ибо ты – бог, заступник мой. Почему же ты отступился от меня?»
И другие псалмы и молитвы: память его много держала. Посмеялись, пошутили, а назавтра вызывает Хведора к себе начальник курсов и зачитывает письмо, в котором черным по белому сказано: курсант Вержбалович мало что сам в бога верует, так еще и других смущает в эту веру. И много всякого-разного было наклепано в той бумаге… Начальник курсов человек был честный, из старых большевиков, он и посоветовал несчастному безбожнику: «Эта бумага лежит у меня на столе, и пусть лежит, а я тебя со вчерашнего дня не видел. Ты захворал и уехал куда-то в село… А с песнями разберись, где какие петь. И с религией. И кому что петь. Понял?» Чего уж тут было не понять… Вот каким макаром он вернулся назад в свой район, а оттуда – к нам…
Помолчали. И снова первым подал голос Игнат Степанович:
– Я должен сказать тебе так: на земле каждый должен топтать свою стежку сам. Однако важно не сбиться, знать, куда идти. Это как ночью в лесу…
А председатель он был на редкость. Как только всюду и успевал… Еще и птица не подаст голоса, а он уже на ногах, марафонит по бригадам. Или в поле, или на конюшне. Тут и веселое, и серьезное. Сам он заметил или кто подсказал: кто-то бураки крадет с колхозного поля. И хитро крадет: бурак возьмет, а ботву обрежет и назад в землю воткнет. Она и сидит, пока желтеть не начнет. И неизвестно, когда это злодейство делается: днем – видно, ночью – сторож ходит. Бураки росли по одну сторону дороги, а по другую был овес. Хведор разглядел в овсе чуть приметную стежку и залег в борозде. Три ночи пролежал, а на четвертую дождался. Человек так привык ходить этой дорогой, что не смотрел под ноги и зацепился за самого председателя. И покатился: сам в одну сторону, мешок с бураками в другую. Хотел было бежать, да куда ты убежишь. Столько караулить и упустить?..
Опять небольшая пауза, опять раздумье.
– Или было еще: вышли косить. Трава поспела, погода так и млеет – тут в могиле не улежишь, не то что дома по закуткам отираться. Взялись дружно, как один. И надо ж было придумать: всем, кто на ударной косьбе с косой ходит, писать по дню двадцать пять. Оно вроде и правильно, если брать во внимание ударную работу. Но одно – станет на прокос Юзик Горавский – гектар на ровном свалит, или тот же Мацак, или, вопщетки, я – меньшей косы, как девятка, и в руки неловко было брать. А тот же Миколка Юрчонок, когда и старается, больше пятидесяти соток не собьет, а ежели шаляй-валяй, так и сорок. Или Стась Мостовский: то закурить, то воды попить… И всем – день двадцать пять. Косим день, другой, а на третий, к обеду, жарко было, я и шумнул: «Бросай, хлопцы, косы, айда в тенек: все равно день двадцать пять». Так и сделали. Перекурили самое пекло под кустами, а немного спала духота – опять взялись за косы. Дело было под выходной. Как раз кино привезли, собрались все в том же Казановичевом доме.
Поглядели кино, начали вставать, по домам расходиться, а Вержбалович и говорит: «Погодите, не все еще показали». И правда, снова засветилась простыня на стене, а на ней человек намалеван: нос шкворнем и в зубах папироса, как оглобля. Вроде и не похож на меня, а слова мои: «Бросай, хлопцы, косы, айда в тенек: все равно день двадцать пять». Вопщетки, тогда я еще трубки не знал… Все хохочут, а мне какой смех, хоть после и вышло по-моему: бригадир стал замерять и, кто сколько скосит, столько и писал. А то взяли моду: маши не маши – день двадцать пять… – Игнат Степанович хмыкнул, развел руками. Было видно: это воспоминание и сейчас глубоко сидит в нем.
– Ну а бураки? Кто крал бураки? – напомнил Валера.
– Кто крал?.. – переспросил Игнат Степанович. Он словно бы возвращался к тому происшествию из своего далека. – Кто… Вопщетки, Вержбалович никому этого не сказал. Даже о том, что сам стерег в борозде, не проговорился. Только мне как-то признался, что это была женщина.
У меня было подозрение… Жила тут у нас Сабина из Закупления. Мужик рано помер, малое на руках. Приметная собой женщина, правда, дикая. Идет и глаза боится от земли оторвать. А взглянет – насквозь пронзает. Зашла как-то речь о ней, я и говорю: «Диковатая она, вопщетки». Вержбалович помолчал, а потом с горечью: «Диковатая… Что мы о людях знаем? Только то, что он сам покажет… Ей еще и тридцати нет, а уже вдова, и дитя, и мать больная…» Вопщетки, он знал про нее больше, и, пожалуй, нечто такое, чего не мог знать я. А она там была или нет – не будем гадать. За давностью поры надо ли ворошить тот пепел. Он и сам не хотел перелопачивать все это. Было после, что и в ударницы она вышла по льну, аж два года подряд, а Люба его все равно не хотела признавать ее. У баб на все свой нюх и своя мерка. Особенно ежели это касается ихнего брата, да еще когда ревность примешается. Не знаю, с чего там началось, но один раз я сунулся было к Хведору, решить что-то надо было, и слышу – за дверью Люба кричит: «Да посади ты ее средь улицы и через два года приезжай, она будет сидеть, как кукла, – никто и не тронет. – Перевела дух и добавила: – Такую ударницу я и из грязи слеплю…» Я понял: это она про Сабину, и сказал бы, что это кругом неправда, да разве станешь доказывать чужой женке? Тут и со своей сладить не всегда хватает терпения.
Через лес шли молча. Дорога пересекала болотистую низинку, по сторонам стояла рыжая вода, из которой торчали пучки осоки и черноголовика. Трактора и грузовые автомашины изрезали свежую насыпь глубокими колеями – придется гнать грейдер и каток, чуток только подсохнет.
Из леса дорога круто пошла в гору, на широкое поле. Отсюда хорошо видна была низина с мелиоративными канавами. Слева рябым частоколом поднимался березняк, дальше за черными метлами обсад шли хаты Липницы.
Игнат Степанович привычным глазом окинул широко открывшуюся панораму и отметил про себя, что еще лет шесть назад Липницу не увидел бы отсюда, если б и хотел. Не давали кусты, разросшиеся по берегам речки, и Казановичев лесок.
– А с Мостовским все всерьез обернулось и отозвалось в войну, – продолжал Игнат Степанович, – Оно и сразу, как только приехал Вержбалович, видно было, что мира не будет, а дальше – больше.
На правлении постановили переселить всех с хуторов до гурта, в поселок… Колхоз любит, чтобы все в куче было. И оно так, но попробуй доведи каждому, что так должно быть. Не просто – сорваться с места, где обжился, огляделся, обвык. Пускай люди далеко, зато лес близко. Уговоры уговорами, а потом Вержбалович собрал бригаду из четырех хлопцев, придал им две подводы. Приезжают на хутор: «Помощь требуется?» Кто понимал, к чему все идет, сразу отвечал: «Требуется». Хлопцы помогали и крышу спустить, и хату разобрать, и перевезти в поселок. А кто не хотел понимать, с теми случалось и такое: пойдет косить, или жать, или еще что, возвращается домой, а в хате средь бела дня темно – крышу спустили и приставили к стене, заслонив окна. Вот и решай теперь, как жить дальше: переезжать или не переезжать.
К Мостовским на хутор вместе с хлопцами приехал и сам Вержбалович, там чуть не дошло до бойни. Встретил их Стась с топором в руках. «Попробуй сунься который, голову снесу», – пообещал и, вопщетки, пошел бы на это. Дикой человек был в ярости. Но в тот раз никто не стал ничего доказывать ему. Только Хведор сказал: «Мы уедем, а ты хорошенько подумай. Я тебе по-большевистски говорю: надо перебираться». Постояли они так друг против друга, посмотрели один другому в глаза и разошлись. Разошлись, чтобы снова когда-нибудь сойтись. Больше ни Вержбалович, ни хлопцы на хутор к Мостовским не заезжали. Да и необходимости в том не было. Через месяц или два Стась сам снарядил обоз из четырех подвод, и они за один день перебросили все подворье в поселок. И тот и другой не умели отступать, да что поделаешь: сила перегнула силу…








