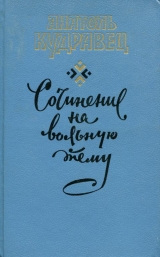
Текст книги "Сочинение на вольную тему"
Автор книги: Анатолий Кудравец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 32 страниц)
– А самому сколько было, когда женился? Лет двадцать?
– Девятнадцать… Потому и говорю. Женился… Есть такая веселая песенка: «Без меня меня женили, меня дома не было…». – Федя немного помолчал. – Жизнь шуток не понимает. Она любит, чтоб с ней всегда были на «вы». Живешь, думаешь, что ты ее обхитрил, потом глядь, а оказывается – это она с тобой шутила. Спохватишься, а уже поздно…
Подошли к Будневу. Где-то у третьей или четвертой хаты Федя свернул во двор – он уже пришел домой. Ивану же надо было пройти еще с километр – на другой поселок.
За крайней хатой, миновав липовую аллею, он остановился, снял с плеча чемодан, вытер лоб. Повернулся направо, в ту сторону, где брало широкий разбег поле.
«Ну вот, отец, я снова пришел к тебе. Я не могу не приходить, потому что ты – это я, а я – это ты. Ты живешь во мне, словно никогда и не умирал, и мне легче с тобой. Это, может, и наивно, но и сейчас я часто думаю: «Что было бы, если б в то утро ты не пошел на лесопилку, а пошел сажать бульбу? Может, ты был бы жив? Теперь тебе было бы шестьдесят…»
II
Иван много думал об отце, о его жизни, о его последнем дне, много слышал от людей о том дне и любил, когда мать или кто другой вспоминали о нем. Может, потому и теперь, спустя столько лет, последний день отца представлялся очень ярко, так ярко и конкретно, что иногда казалось, будто на лесопилке тогда убило не Левона, а его, Ивана… Какая-то дикая несправедливость и незавершенность были в том дне и в самой смерти и какая-то сила и закономерность, если можно говорить о силе и закономерности смерти…
…Левон поднялся, обулся, закурил. Вышел в сад и сразу почувствовал, как брезентовые ботинки набухли от воды и обожгло холодом ноги. Трава матово-белая от росы, темным и мокрым глянцем светились ветки яблонь. Набухли и вот-вот должны были полопаться бутончики цветов. В этом году цветов очень много – если погода удержится, не обернется морозом, яблок будет много.
Было прохладно и зябко. Левон глянул в конец сада и удивился, как бы испугался. На дальней пепинке, как раз в седловатой развилке, ярко рдело солнце. Так на черном, замусоренном полу кузницы горит, начиная остывать, раскаленный добела нарог или лемех. Левон пожал плечами: никогда он не видел, чтоб так ярко, багрово горело солнце. Подошел к пепинке, потрогал гладкий приземистый ствол. В этом году должно быть много яблок. Считай, будет первый урожайный год. Разве это урожай – десять – пятнадцать яблок на дереве? Сад молодой, Левон сажал его перед самой войной, две пепинки, две цыганки, апорт, четыре гнилки, остальное антоновки, сливы. Никогда еще не было такого обильного цвета. И на грушах, и на яблонях. Если погода удержится, вот уж дети наедятся своих яблок!
Левон шел по саду от дерева к дереву, трогал их руками, где срывал прошлогодний лист, где запутавшуюся паутину…
Люди начали забывать войну. Не то чтоб забывать, а перестали вспоминать о ней когда надо и когда не надо, перестали думать о ней как о чем-то таком, что постоянно – хочешь ты того или не хочешь – гнетущей тяжестью висит над тобой и от чего невозможно никакими силами избавиться.
Жизнь берет свое.
Вчера всем колхозом выходили сажать бульбу, даже счетовод и кладовщик, конюхи и они, с лесопилки. Наверно, нужны были и такой добрый день, и такая дружная, живая работа, чтоб все это вдруг прорвалось наружу. Все смеялись, шутили, словно собрались не на работу, а на какой праздник. Вчера Левон увидел, что люди страшно истосковались по радости и вчера, может, в первый раз по-настоящему почувствовали и поняли, что война давно отошла, окончилась и что настало время жить. Все верили в это, как и в то, что в этом году все будут с бульбой и хлебом.
К полудню солнце пригрело так, что некоторые бабы поснимали теплые кофты. Привезли бочку холодной воды. Пили, пока не утолили жажду, потом начали обливаться. Заводилой этого дела стал Левон. Он черпал воду ковшом и выплескивал на каждого, кто подвернется. Бабы гуртом навалились на него, отобрали ковш. Он бросился бежать, выбежал на луговину, и здесь они его настигли. С одной или с двумя он бы справился, а их было пять, и первой среди них бежала Ольга. Она ухватила его за рукав, и тот затрещал, а сам Левон упал, потянув за собой и ее. Ольга навалилась на него горячим телом, не давая вырваться, пока подоспеют бабы. Они подбежали и бухнули на него и на нее всю воду, прямо из ведра. «Бабоньки, спасите!» – кричала, катаясь, Ольга, пока те бегали еще по воду, а тихо, чтоб никто не слышал, шептала: «Пускай бы зашел когда, посмотрел, как живу, куманек». И тяжело дышала, хватала ртом воздух. Он отвечал ей, сводя все на шутку: «Зайду, обязательно зайду, только отпусти». Но она не отпускала его.
Потом, отряхивая воду с рубашки и приглаживая мокрые волосы, он рассказал бабам, что уже слышал кукушку. Он стоял в саду, и она пролетела над ним, кукуя. И тогда Ольга пристально поглядела на него и сказала: «Это не к добру, что кукушка пролетела над тобой, Левон. Ты скоро умрешь». Он захохотал. Ему было смешно. Как это он умрет? Теперь, когда война, на которой он мог десять раз умереть и не умер, на которой его могли десять раз убить и не убили, давно окончилась, теперь, когда на дворе весна и все живое радуется жизни, он вдруг умрет. «Ты шутишь, Ольга». Он так и сказал. «Да уже ж, Левонка, уже ж, – поспешно согласилась Ольга. – Разве ж я всерьез это… Конечно, шучу».
Пришел с бульбы домой, а тут Лёкса скандал учинила. Ревновать вздумала. Ну, подурачились на поле, пообливались водой, а она уже наворотила: «Переманивает Ольга… Или, может, и сам думаешь завернуть оглобли? Так я тебе заверну…» И Ольгу на улице переняла, поссорились… Ат, бабы есть бабы… Чтоб не торчать дома, взял топтуху и с самым меньшим, Иваном, пошли на пруд. Думал поймать что. И поймал… Пять щук и около десятка вьюнов. Окоченел, как чурка. Вылез из воды синий, грязный, злой. Ополоснулся немного, переоделся. Цап-лап закурить, а в карманах пусто. А там и ножик перочинный был, и люлька, и портсигар… Со злости рванул Ивана за ухо. Оставил стеречь одежду, так он постерег. Разинул рот и бегал за отцом, а кто-то выпотрошил карманы. Хотя какое там «кто-то»… Броник или Алесь. Они все крутились возле Ивана. А тот ворона…
Левон достал из-под стрехи пруток, на который вешал табак, сиял с груши паутину, подумал о пауке: «Успел-таки сплести, гад!» И кора у корня что-то начала желтеть и лупиться, словно подопрела. Не иначе червяк подточил деревце. Совсем ведь молодое. Гляди, засохнет.
Увидел, что во дворе ни полена нарубленных дров, взялся за топор. Тяжело ухали, разваливаясь под ударами топора, поленья, летели в разные стороны щепки. Лёкса топила печь, пекла блины – слышно было, как стучала сковородником. И Левону вдруг стало неловко перед самим собой: никогда у него не хватает времени, чтоб как люди запасти дров на зиму, напилить, наколоть. Всегда так: с плеч – да в печь. «Надо в этом году навозить горбылей да скирды две сложить», – подумал, вбивая топор в колоду.
На столе лежала горка толстых серых блинов из сераделлы. Откусил кусок – он черствел, рос во рту. Есть не хотелось. Выпил кружку молока, начал искать шапку.
– Пойду на мельницу.
– Что это вздумал! Сегодня же, может, опять на бульбу?
– Опять или не опять, – проворчал Левон. – Распалю котел. Дам гудок – мужчины подойдут. С бульбой и без нас управятся.
– Обед приносить?
– Не надо. Сам приду. – Он вышел во двор. Потом вернулся.
– Забыл что? – встретила на пороге Лёкса.
– Ага.
Прошел на другую половину, покопался в столе, ища какие-то бумаги. Нашел их у себя в пиджаке. На кровати, разметавшись поперек тюфяка, спал Иван. Левон поправил на нем постилку, потрогал лобик: он был потный. Постоял. Увидел в дверях Лёксу. Стоит и смотрит на него, как на дитя: снова что-то не по нем.
– Соберешь в обед чего-нибудь. Пусть прибежит.
Лёкса кивнула головой.
– Старшие в школе?
– Ага.
В конце поселка встретил председателя Вавилу Пухтика.
– Здорово!
– Здорово!
– На бульбу не идешь?
– Нужно клепку кончать. Приезжал на днях представитель из комбината, просил ускорить. Обещал машины прислать. Да и самим надо.
– Деньги нужны. И коров покупать, и коней… И бульбы, наверное, не хватит.
– Тут не двести тысяч, тут миллион дай – все равно будет мало. Сколько дырок.
– Ну, с миллионом можно было б жить…
Разошлись: Левон в одну сторону, Вавила – в другую.
«Кажись, начинает отходить, – подумал Левон про Вавилу. – Куда денешься – отойдешь. Вместе жить, вместе работать».
До этой зимы мельницей заведовал свояк Вавилы – Игнат. Не столько заведовал, сколько пьянствовал. А потом и в «фунты» начал руку запускать. Глядели на него, глядели – и решили выгнать. Что ни делал Вавила, как ни крутил, чтоб оставить свояка, ничего не вышло: люди уперлись. Был вынужден смириться с тем, что заведующим избрали Левона. Поначалу так и здороваться не хотел. А теперь уже ничего, в хату начал заходить.
Чем ближе подходил Левон к мельнице, тем глуше становилась та внутренняя тревога и неудовлетворенность, которые угнетали дома. Мысли о работе начали вытеснять все лишнее и ненужное. Начал уже сомневаться, придут ли мужчины. Что он тогда один будет делать? «Придут, никуда не денутся, дам гудок – услышат. Гудок такой, что мертвого подымет».
На гребле, возле моста, зацепился за корягу и чуть носом не зарылся в грязь. Обернулся поглядеть на проклятую корягу – увидел в грязи свой каблук. Достал его, очистил, повертел в руке – был он совсем стоптанный – и швырнул в канаву, плюнул: теперь будешь весь день ходить на одной пятке.
За мельницей возвышалась гора опилок, и Левон с наслажденьем вдохнул знакомый, приглушенный после росной ночи прелый запах. Снова на память пришел вчерашний день, солнце, то, как на поле обливались водой, как ловил вьюнов, – и ему вроде полегчало. «Прибежит Иван, сходим в кусты, лук вырежем», – подумал про сына.
Топку растопил быстро, набросал дубовых обрезков – и загудело, зашугало пламя. Смел опилки со стола, проверил пилы: обе острые, недавно точенные. Только теперь вспомнил, что не сделал предохранительных ножей и крюков для щитков, – снять снял, а в кузницу не зашел. «Вечером скажу Максиму, чтоб сделал». Провел рукой по столу: дуб был гладкий, отполированный до глубокого зеркального блеска. Взял шуфель, отбросил опилки, притащил под пилы с десяток дубовых плашек, вытер вспотевший лоб. Поглядел на небо: было оно сухое, белое, обещало горячий, знойный день. Вернулся в кочегарку, дал гудок, включил помпу – долил воды в бочку.
Что ни делал сегодня Левон – и дома, и тут, – он все время чувствовал какую-то непонятную тревогу. Словно на нем лежала какая-то обязанность, но что это за обязанность, он не знал. Ощущение, что он что-то должен сделать, что-то срочное, очень нужное, все время беспокоило его, подгоняло. Он ни минуты не стоял на месте, все время что-то делал, однако чувствовал, что это не то, не главное…
Стрелка манометра давно переползла за половину шкалы, можно было бы начинать пилить, но никого еще не было – ни Федора, ни Миколы, ни Павла. Ну, Павлу далеко идти, да, наконец, Левон один пока побудет в кочегарке, а Федор и Микола могли бы уже и прийти. И Сашка мог… И Левон нетерпеливо потянулся к ручке сигнала, над всей окрестностью разнесся густой, протяжный гудок.
Из кочегарки Левон перешел на мельницу, постоял возле ковша, смел пыль с ящиков, с «фунтами»; все ящики были пустые: из-за клепки давно уже не мололи. Весь нижний этаж был завален мешками: жито, ячмень, пшеница. Навезли со всего сельсовета. Подумал: «Надо как-нибудь запустить, ночи три помолоть, немного разгрузиться».
…Первым пришел Федор, просунул голову с заспанными глазами в окно кочегарки:
– Собирались же сегодня бульбу сажать. Я хотел уже идти в поле. Да и бригадир прибегал.
– Будем кончать клепку. На днях должны машины прибыть из Бобруйска. За Миколой не заходил?
– Сейчас идет. – Федор сел на бревно у стены, достал кисет.
– Что-то глаза у тебя по маковому зерну? Не выспался? – Левон перевесился в окно, сам достал газету.
– Вчера вечером у свояка был. Набрался, что жаба грязи, так где тут им быть большими? Голова трещит как котел. А кто это плашек натаскал?
– Я.
– Один? Не мог дождаться, чтоб помогли?
– Пока вас дождешься…
Подошел Микола, высокий, худой, с длинными жилистыми руками.
– Будем начинать? – спросил, присаживаясь.
– Павла еще нет… Хотя в одну пилу можно, я постою в кочегарке, а там и они с Сашкой подойдут, – ответил Левон.
– Ножи не сделал? – спросил Микола.
– Нет… Сегодня зайду к Максиму.
– Не надо было старые снимать…
– Не надо было. Их же погнули. И болты не держали…
– А щиток?.. Опилки глаза высекут…
– Выживешь…
– Так одевать ремень?
– Давай.
Левон включил машину. Тяжело пошло маховое колесо, Микола с Федором подвели под него ремень, набросили, он зацепился, пополз, провисая посредине, – быстрее, быстрее, и вот уже запели, зазвенели пилы, гоняя под столом опилки.
Микола с Федором взвалили на стол плашку, взяли в руки крюки, стали по обе стороны стола. И голос пил из сухого стрекотанья, когда они крутились вхолостую, перешел в высокий надсадный вой – это пила врезалась в дуб. Плашка медленно ползла по столу – с одного конца ее толкал, багровея от напряжения, Федор, а с другого тянул Микола. Плашку опилили, пустили на клепку. Ядрено запахло свежими дубовыми опилками.
Пила то надсадно выла, вгрызаясь в твердый как железо дуб, то переходила на сухое, даже мурашки бегали по спине, стрекотанье. Но стоило снова пододвинуть брусок, и пила мгновенно смирнела, притихала, будто останавливалась, прорезая в дереве узенький шнурок, и тогда казалось, что не брусок движется по столу, а шнурок сам ползет и тянет за собой брусок.
Через окно Левон видел, как мужчины опиливали плашки, молчал, а когда пошла клепка, начал морщиться, мрачнеть, ругаться вполголоса. Потом не выдержал, выскочил из кочегарки, взял клепку, поднес к глазу, примерился, ровная ли, повернул на ребро, еще раз примерился, взял другую.
– Ну что? – спросил Федор.
– Что? Дерьмо! Кто такую клепку у нас примет? Ты же сводишь ее на конус. Нужно десять на два, а тут… – Он достал из кармана складную линейку, поднес к торцу клепки. – На этом конце хорошо – десять и одна десятая, и толщина два. А на этом? Восемь и пять и полтора… Брак. Нестандартная… Зацепил крюком – и веди ровно, а у тебя рука дрожит. – Он смотрел на Федора и кричал – и потому что злился, и потому, что пилы разгулялись как шальные, заглушая голос.
– А черт его знает. Кажется ж, ровно веду. Не так просто тут под линейку… – Федор плюнул под ноги.
Левон вернулся в кочегарку. Подбросил в топку, прочистил поддувало и не спускал глаз с окна. Видел, что Федор снова запорол несколько клепок; застонал, как от боли, выключил машину, снова вышел к столу, обругал Федора, тот только моргал глазами, но и после этого работы не было. Как раз в это время в кочегарке появился Павел, и Левон пошел сам к пилам.
– Два года стоишь у пилы, а клепку ровно не умеешь отпилить. Становись на место Миколы, а я тут… – крикнул он Федору, взял у Миколы крюк и стал к столу.
Федор подвинул по столу брусок, Левон принял его, подал под пилу. Пила вцепилась в брусок и равномерно, медленно, словно нехотя, начала разрезать его. Федор взял клепку – была она ровная, хоть стреляй из нее, отбросил в сторону, подал брусок назад. И снова пила мягко вцепилась в дерево, прижала к столу и ровно, без толчков и срывов, прошла вдоль бруска, и снова клепка вышла ровная. Федор и эту отбросил в сторону. У него трещала голова от вчерашнего, мутило внутри, а тут еще эта клепка… Вздумал сегодня пилить. Лучше бы шли на бульбу. Там и легче, и можно было б придумать, как опохмелиться. А тут стой, таскай плашки. Много ли их натаскаешь… Федор старался не смотреть Левону в глаза. Тюкал крюком в брусок и, отворачиваясь от опилок, которые секли по щекам, тянул на себя. Распилили один брусок, взялись за новый…
Левон начал успокаиваться. Напряжение у стола, внимание, сосредоточенное на работе, остудили его, он почувствовал, как к нему возвращается хорошее настроение, которое всегда приходило во время работы, когда все шло как надо. Хотел заговорить с Федором, пошутить, но увидел, что тот все еще сердится, не поднимает глаз, – смолчал. Пусть немного остынет.
Федор натужно, с тяжелым сопеньем, тянул на себя брусок, отбросил готовую клепку и, не глядя куда, толкнул брусок назад по столу. Левон поймал его. И снова Федор отбросил готовую клепку и снова, не глядя куда, толкнул от себя брусок, и снова Левон поймал его. Это походило на игру, тяжелую, но простую: ты – мне, я – тебе. Федор отбросил еще одну клепку, привычно толкнул брусок и почувствовал, что он словно ударился о что-то, отскочил назад и вдруг бешено рванулся из рук. Федор понял, что толкнул брусок не по столу, а на пилу, и успел увидеть, как пила с бешеной скоростью подхватила брусок и швырнула вперед.
Левон стоял вполоборота к столу, ждал брусок. Ему показалось, что Федор замешкался, сбился с ритма, и он повернулся взглянуть, что там.
И увидел, что по столу движется брусок, но не рядом с пилой, а на пилу, увидел, как брусок ткнулся в пилу и как бы подался немного назад, но нет – белые кривые зубья подцепили его, приподняли… В эту короткую долю секунды, пока брусок полз по столу и пока его подцепила пила, Левон почувствовал – аж заныло под ложечкой – острое сожаление, что не успел вырезать сыну лук, и теперь ему показалось, что это и была та работа, которую он должен был сделать. Удар неимоверной силы в подбородок и грудь отбросил его назад, в глазах блеснул, разрастаясь, огонь. Он был такой яркий, как солнце, которое видел Левон сегодня в развилке яблони, и все ширился, жег глаза, словно их живьем вырывали из гнезд… Потом огонь начал уменьшаться, уменьшаться, сошел на черную точку и пропал.
…Иван стоит еще несколько минут на дороге, сдерживает застывшие в глазах слезы, прислушивается к говорливому бульканью воды под мостиком где-то там, впереди.
«Ну, прощай, отец. Я пошел». Закидывает чемодан на плечо. Всегда тяжело сделать отсюда первый шаг.
III
Нет ничего лучше утра в материнской хате.
Еще слипаются веки, их тяжело и лень разомкнуть, и голова еще полностью не проснулась, то прорываясь до ясности трезвого озарения, то утопая в сладком тумане забытья, а уже радость, что ты снова дома, словно и не уезжал отсюда никуда, радость возвращения в самого себя – прежнего, маленького, какого-то другого и вместе с тем такого же самого, как и теперь, живет во всем теле, наводит на мысль о большом, нечеловеческом счастье. А мать уже давно проснулась и осторожно, чтоб не разбудить, ходит по хате. Она уже начистила бульбы, перемыла ее и перекладывает дрова в печи. Даже и так, лежа в постели с закрытыми глазами, можно представить, как она положила одно полено, немножко поодаль второе и уже на них бросает остальные, и они ловко, с глухим стуком ложатся одно на другое поперек тех двух, первых. Одно поленце скатилось на пол, и мать нагибается в печь, дотягивается рукой до него, не чувствуя, как лоб черкнул о дугу низкого задымленного устья печи и как от этой дуги на лбу, немножко выше правой брови, засинела еще одна бровь, будто серпик затуманенного месяца. И этот серпик будет темнеть, пока не сядут за стол и пока он не скажет ей глянуть в зеркало.
Дрова хорошо уложены, теперь можно положить растопку – клочок газеты, стружку бересты, зубок лучины. Пока язычок пламени цепляется за газету, пока перекинется на бересту и она сразу скорчится, черно и жирно задымит, пока закурится, затрещит лучина и уже за ней – осторожно и неохотно – дрова, – можно смахнуть пепел и угольки с шестка, налить воду в чугуны с бульбой: два больших – свиньям и один маленький – себе…
А в это время раздается голос с улицы. Кажется, это тетка Ольга:
– Лёкса? Лё-о-окса?!
Мать выбегает на крыльцо, оставив открытой дверь, и сразу в хате делается прохладно. Со двора доносится разговор:
– Не думаешь ли тэ выпускать корову? Или тэ не подоила?
Это она, тетка Ольга, это ее неизменный голос. Можно даже представить и ее саму: с повязанной теплым платком головой, в телогрейке и длинной суконной юбке, которая едва держится на плоских узких бедрах.
– Подоить-то подоила, да что они теперь там найдут?
– Найдут не найдут, хотя по воле походят. Загоню за Агея, пускай ищут. Черноголовник там отскочил: вчера видела.
Скрипят ворота хлева, и по двору идет корова, цокая копытами, и свинья из хлева подает голодный голос.
И снова ласковый туман забытья, кажется, мгновенный, а на самом деле получасовой, разрывается грубым и сильным:
– День добрый в хату!
Это уже Вавила.
– Динь добры! – отвечает мать и глядит в печь на сковороду, где белеет и на глазах начинает пухнуть блин.
– Кто это у тебя? Не Иван ли приехал? – грубый голос словно бы делается мягче, снижается до приятного удивления.
– Ага, ночью…
– И один шел?
– С Микуличевым Федей вдвоем. Но говорил, что много ехало. Внук Данилы, Потапов хлопец, Вера Зайцева…
– Петра?
– Ага.
Мать гремит сковородой, наливает второй блин.
– Она ж, говорят, развелась со своим. Не по вкусу пришелся офицерский паек. Видимо, ищет больший…
– Не знаю, больший или меньший. К тетке поехала в Долгий Лог.
– Ну на могилу к отцу они-то прибудут. Они это соблюдают. Да и года же еще не прошло, как умер…
– И грех был бы, если б не приехали. Он ведь смотрел их.
– Да… Хоть и глухой был как пень, а их берег… Вишь, и наш приперся. Федя, говорю. Снова будет жену гонять.
– А жена его тут ли?
– Тут, а то где же. Всю зиму тут, и дети тут. А он все грозится бросить. Да куда ж ты бросишь… Трое… Одно от первого мужика, и своих двое…
– Ага-а-а…
– Вот, говорят, что свекровь со снохой не уживается… А тут свекровь полюбила, привязалась к снохе сильнее, чем к сыну. И над внуками аж трясется…
– Ребенок есть ребенок, куда ты денешься…
В разговоре наступает пауза – слышно, как потрескивают дрова в печке, и снова Вавилино, размягченное и как будто заботливое:
– Сказала бы мне, что Иван приедет, коня дал бы. А то в темноте да еще, может, и с грузом…
– Я не знала, каким он приедет, да и опять же – разве я сама за ним поеду?
– И то правда… А он уже и не спит! – Вавила повеселел, увидев, что Иван открыл глаза. Сделал два широких шага от порога к кровати: – Здорово, Левонович. Говоришь, и поспать не дают?
Иван освобождает руку из-под одеяла, здоровается. Вавила возвышается над ним тяжелой широкоплечей тушей. Небритое лицо вспухло от недосыпания.
– Я вот толкую матери, – говорит Вавила, – почему мне не сказала? Можно было б лошадь запрячь. Мой младший мог бы и подскочить.
– А я привык пешком, – Иван приподнимается на подушке, смеется, но с постели не встает, и Вавила после нескольких обязательных вопросов о том, как там и что в столице, поворачивается к матери:
– Это же я зашел сказать, чтоб ты помогла бульбу перебирать у буртов. Может, до обеда посидела б? Арина пойдет, Маня, Гуня.
– Да нет, Вавила. Как же я пойду. Сам видишь – гость приехал. Хотим до обеда навоз выкинуть на сотки, ну а после на кладбище пойдем.
– Оно-то так. На кладбище и я пойду. Надо своих навестить, могилки подправить. – Он идет к двери, берется за скобу. – А то сходила б, а? А завтра Иван возьмет какую конягу и на телеге выкинете навоз?..
– Нет. Завтра ему ехать надо. – Мать не скрывает, что ей надоел этот разговор. – Поищи кого помоложе. Разве, кроме Лёксы, нет никого…
– Найду, почему не найти, – Вавила смотрит на Ивана. – Но я думал, что и тебе рубль какой или два не были б лишними. – Он неожиданно меняет разговор: – Вставай, Левонович, и пойдем ко мне. По чарчине возьмем, поговорим. Нона же моя теперь дома.
– Как-нибудь в другой раз. Сегодня некогда, – решительно вмешивается мать. – Работы сегодня много.
– Работа не девка, никуда не денется. Нона о тебе спрашивала. Как будто знала, что ты приедешь. И нам есть о чем поговорить…
Вавила выходит, нагибая голову в дверях. Мать стоит, опершись на сковородник, смотрит в печь.
– Бегает по хатам, баб ищет и где б голову привязать. Вчера у Миколы крестины были, ну а без него где обойдется? Если б не ты, может, и напросился б на чарку. А это раздобрился, даже сам в гости позвал.
Иван молчал. Он лежал на кровати, улыбался, но в душу уже прокрадывалась какая-то непонятная тревога. И как будто та радость, которая недавно пронизывала его всего, и счастье, что наполняло его сердце, поблекли, отступили.
– Так вставай, Левонович, – сказала, улыбнувшись, мать. – Гляди, как тебя величает. Левонович. Думает, может, зятем еще будешь…
И слова матери, и ее ласка, и такой знакомый домашний запах жареного сала с колбасой снова вернули Ивану чувство радости жизни, радости оттого, что он снова дома и видит, как несуетливо хлопочет мать, что она есть, живая – все такая же заботливая, экономная, простая, со спрятанными под платок волосами. И он вспомнил о страхе, иногда накатывающем на него там, в Минске, если долго от нее нет писем, и порадовался этому страху, тому, что этот страх есть и что он гонит Ивана на вокзал, в поезд, а потом эти десять километров, когда бежишь все быстрее и быстрее, думая: хоть бы у нее все было хорошо, и не веришь в свою боязнь, и потом во дворе, постучав в окно, напряженно ждешь, когда послышится легкий шорох и живое шевеление на печи, и с плеч словно гора свалится. Блеснет свет, и вот уже он обнимает ее, жаркую от печного тепла, маленькую, беспомощно прищурившуюся от яркого света, в наспех надетом просторном платье, чувствует шершавость ее разогретой сном мягкой щеки и покатость узких пригорбленных плеч…
После завтрака пошли в хлев. Иван взрывал вилами навоз, накладывал на носилки, старался наваливать на свой край больше, чтоб матери было легче.
Земля на сотках подсохла, и только в ложбинке за хатой, в бороздках цвела серой плесенью вода, и ноги вязли в тягучей, как тесто, липкой мякоти.
Говорили мало – спокойно, созвучно мыслям и настроению. Иван очень скоро разогрелся, снял пиджак. У матери тоже порозовело лицо… И накладывая навоз, и неся его, и разговаривая, он жил в себе. Он думал о сне, который приснился ему сегодня ночью, взбудоражил его.
Не сон ли принес с собой эту непонятную тревогу?!
Никогда Ивану не снился такой красивый и страшный сон.
Сон был про коней. Откуда-то, кажется из Яблонщины, Иван шел домой. Шел, мягко чувствуя босыми ногами горячий дорожный песок.
Пахло полынной горечью, и Ивана что-то тревожило и беспокоило. То и дело посматривал он на небо. На западе его затягивала темная туча. Иван не помнил, что тревожило его – то ли чернота, которая всплывала, разрастаясь, от земли, то ли что-то другое. Но непонятный страх подгонял его, заставлял идти быстрее. И вдруг Иван уловил едва слышное цоканье копыт – будто кто-то далеко и не очень быстро ехал на коне.
И теперь страх, который теснился в груди, приобрел реальный и конкретный смысл. Иван боялся этого конского топота! Он бросился бежать домой, скорей домой, и все время оглядывался назад, на небо. И, подбегая уже к своему селу, Иван увидел, что на небе, как раз по острому краешку черной тучи, летят, увеличиваясь на глазах, два голубых коня. Слаженный, размеренный топот их – тра-та-та! тра-та-та! – словно они неслись не по небу, а по гулкой, укатанной дороге, растекался вокруг, заполняя весь простор, разрывая сердце Ивана диким страхом. Жутко красивые, светло-голубые кони с розовыми гривами и хвостами, которые плыли, развеваясь по ветру, и безумно красными глазами, оскаленными крупными зубами… Иван видел их широкие, мускулистые груди, круглые чистые тарелки копыт, видел, как кони стремительно приближаются – тра-та-та! тра-та-та! тра-та-та! – и бежал по пустой улице, ища, где спрятаться, но всюду было голо, только впереди стояла их хата, и, когда казалось, что кони совсем догнали и вот-вот растопчут его, он наконец добежал до хаты и завернул за угол, прижался спиной к стене, раскинув руки. Кони протопали дальше…
Но тут же они развернулись и понеслись обратно на него, и он побежал вокруг хаты, прячась за углы, и с замершим сердцем наконец услышал, как топот стал затихать и затихать. Тогда Иван зашел в хату, нашел канистру с керосином, и, облив углы, поджег. Пламя рванулось вверх, словно выстрелило.
И, проснувшись, Иван еще долго слушал дикий стук своего сердца, до мелочей припоминая этот непонятный сон, ясно видел коней, слышал их топот и чувствовал только что пережитый страх. Даже теперь, стоило только закрыть глаза, появлялись сытые – аж переливаются! – нереально голубые спины коней, выпученные, налитые кровью глаза. Только теперь не было того ночного страха, остались лишь удивление и радость. Как это было красиво! Страшно, но красиво. Так страшно и так красиво, что сердце готово было разорваться.
И удивительно, вспоминая сон, Иван думал о Вере. Словно этот сон какими-то невидимыми нитями был связан с Верой.
«Это хорошо, Вера, что ты приехала, – думал он. – Это очень хорошо. Я хочу видеть тебя. Мне надо увидеть тебя…»
Пока Иван взрывал слежавшийся, спрессованный навоз – корове подстилали скомканный, спутавшийся лен, который каждый год оставался на стелище, а Лёкса собирала его и привозила на двор, – пока накладывал на носилки, Лёкса сидела у стены хлева на лавке. Успокоенная, немного размягченная работой и теплым днем, довольная, что приехал сын, она думала о себе, о Левоне, о детях, и ей приятно было думать, потому что эти мысли открывали ей ее саму не такой, какой она привыкла себя считать, – маленькой, слабой, слезливой, а другой – сильной, уверенной, красивой. Всю жизнь ей не было времени думать о себе: мать всегда думает о детях и лишь потом, если остается время, о себе. Такого времени она никогда не имела. С нею было пятеро, когда Левона не стало, – где тут быть другим мыслям! И теперь она думала о себе, смотрела на себя как бы отдельно от повседневных мелких хлопот, которыми всегда полна жизнь каждой бабы, а особенно жизнь многодетной деревенской вдовы.
Она вспоминала Левона, каким он был в те военные годы и каким остался навсегда, видела саму себя рядом с ним, тоже молодую и здоровую.
Она сидела на лавке, слышала глубокое дыхание Ивана, видела его черные задумчивые глаза и капли пота на лбу, великоватый нос, сильные руки со вздувшимися венами и видела и слышала совсем другого Ивана.
…Та ночь была холодная и метельная. Еще днем Лёксе стало нехорошо: подкатывала под грудь пустота, тянуло внутри, болел живот. «Не надо было поднимать так тяжело, – не в первый раз подумала она. – Не надо было браться за тот мешок».








