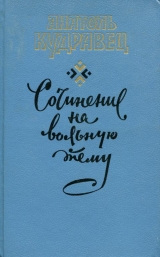
Текст книги "Сочинение на вольную тему"
Автор книги: Анатолий Кудравец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 32 страниц)
IX
Он увидел Веру сразу, как только она вошла, и сразу поднялся ей навстречу.
– Где ты так долго была? – спросил Иван, чувствуя, что ему тяжело стало дышать…
– Управлялась по хозяйству, – ответила она просто, словно он и не ожидал ее здесь весь вечер, и начала развязывать платок, потом сняла пальто. – Они же поехали в Долгий Лог, а я и гостья, и хозяйка.
Он взял из ее рук пальто, повесил на вешалку.
Она была пострижена под мальчика, и эта прическа молодила ее, приятно округляя продолговатое лицо… Шерстяной вязаный костюм ладно обтягивал фигуру.
– Ты хочешь танцевать? – спросил он, подавая ей свою расческу.
– Я миллион лет не танцевала, – ответила она и улыбнулась. По ее напряженному голосу он догадался, что и она волнуется.
Он знал, что все в клубе смотрят на них, ловят каждое их слово, замечают каждое их движение и завтра, и послезавтра, и много дней спустя будут обговаривать все это, оценивать, прикидывать и так и этак, но все это его совсем не интересовало. «Как она переменилась. Я совсем не знаю ее», – подумал он, а вслух спросил:
– Что попросить?
– Вальс… Я миллион лет не танцевала вальс…
Почему-то ему не понравились эти ее «миллион лет». Что-то фальшивое и легкое, как подделка, слышалось в этих словах. Это были не ее слова, и это была не она. Однако Иван подошел к Василю, попросил поставить пластинку.
– Твоя шедевра? – отрывистым басом спросил Василь.
– Разве ты ее не знаешь? Это же Петрова Вера… – недовольно ответил Иван.
– Петрова, Петрова, – передразнил Василь. – Я спрашиваю: вместе приехали? Или каждый по себе?
– Каждый по себе.
– Но отсюда поедете вместе? – Василь шутил, глаза его хитро щурились, и сердиться на него не хотелось. Да и за что сердиться? Иван тоже улыбнулся:
– Не знаю, хотя все может быть…
– Ты можешь не знать, а я знаю. Никуда ты уже не денешься, – сопел Василь, перебирая стопку пластинок. – Иди к ней, а то хлопцы уведут, – он кивнул на Игоря и Леню. – Эти долго гадать не станут.
Иван пошел к Вере.
В динамике что-то зашумело, зашипело, и, словно звоны, ударили первые звуки очень знакомого старинного вальса. Они пошли танцевать. Закружились, замелькали люди, поплыли стены, и сам Иван поплыл, словно по реке, на быстрине… Он видел Верины глаза, видел аккуратненькую круглую прическу, ощущал пальцами кругленькие маленькие пуговки у нее на спине под костюмом, ему было хорошо, и все же он чувствовал какую-то неудовлетворенность, какую-то фальшивость своего положения. Что это было так, подтвердила и Вера. Она вдруг сказала:
– Взгляни, как Нона на нас смотрит. – И снова сказала это неестественно игривым голосом.
– Это тебе кажется, – сухо ответил Иван.
– Нет, ты взгляни… И на Вавилу. – Вера не заметила его сухого тона. Или не хотела замечать? Нет, не заметила.
– Это тебе кажется, – повторил Иван.
– Он готов нас съесть.
– А ты боишься? – Ему вдруг захотелось сделать ей больно.
– Мне нечего бояться, – голос ее стал тише. Она попробовала улыбнуться – ничего не вышло, лишь в уголках губ, словно мотыльки, тревожно задрожали морщинки. Она нахмурила брови. – Я боялась только одного – чтобы тебя не украли…
– Разве я такой маленький, что меня могут украсть?
– Теперь я знаю, что ты не маленький, – Вера внимательно посмотрела ему в глаза.
Ивану стало жаль ее.
– Мы долго в клубе не будем, – сказал он, когда Василь поставил пластинку во второй раз.
– Пойдем, как только окончится вальс.
– Василь будет крутить его, пока не рассыплется пластинка.
– Он тебя любит…
– Мы с ним сидели за одной партой… Слон и Моська…
– Тогда пожалеем его. Уйдем после второго раза.
– Хорошо.
Вера улыбалась, но глаза ее были серьезные, и в голосе улавливалась напряженность. На улице было темно и душно.
– Куда пойдем? – тихо спросил он.
– Не знаю. Пойдем по селу, – так же тихо ответила она.
У него еще слегка кружилась голова, а в ушах звенела музыка.
Впереди кто-то блеснул фонариком – раз, второй, третий… Вскоре оттуда послышался знакомый пьяный голос:
У миня такой характер,
И ты са мною не шути…
Федя шел навстречу, светя то себе под ноги, то вправо, то влево – по заборам, по окнам хат. Иван не хотел встречаться с ним и повел Веру по стежке у забора, по которой бабы носили воду из колодцев. Но Федя сам свернул к ним, секанул светом Ивану в лицо, скользнул по Вере сверху вниз и снова засветил на Ивана.
– Я думал, что это ты с Ноной прячешься… так сказать, прижимониху режешь…
– Погаси! – Иван заслонил рукой глаза. – Ты ищешь Нону? Она там, в клубе…
– Кого я ищу, того давно нет, – Федя погасил фонарик, дотронулся рукой до Вериного плеча. – Барышня, вы позволите сказать вашему партнеру несколько слов? Так скать, по секрету.
Вера взглянула на Ивана, сжала его руку. Иван кивнул головой.
– Иди, я догоню, – сам повернулся к Феде: – Ну говори, партнер… Только быстрее…
– Ломаешь осину, старик, – торопливо заговорил Федя, и Иван увидел, что он не такой уж пьяный. Больше придуривается. – На какого черта связался ты с этой офицершей? Тут, дома, у всех на глазах. Или тебе девок мало? – Федя положил руку Ивану на плечо, но тот сбросил ее. Его уже душила злость. Не хватало, чтоб каждый учил его.
– Ты куда идешь? – спросил он Федю.
– В клуб…
– Так иди. Прямо, прямо и прямо. Там увидишь. И не лезь куда не надо…
– Дурак ты, Иван, как я погляжу, совсем дурак, – искренне снова удивился Федя, разводя руками, и эта искренность снова подкупила Ивана: он не пошел, как было намеревался, задержался.
– Знаешь, сколько у него денег?
– У кого?
– У дядьки моего, у Вавилы.
– Он мне сегодня говорил…
– Говорил? У-у-у, жила. Он может сразу два «Москвича» купить. А за Ноночку он ничего не пожалеет. Дорогая дочушка. Или ты еще о любви думаешь? Брось, старик. В наши годы… Будут деньги – будет и любовь, сколько хочешь…
– Все?..
– Что все?
– Ты все сказал?
Федя какой-то миг вглядывался в лицо, потом ехидно захихикал:
– Или ты идешь по принципу: лучше синица в руке, чем журавль в небе? А? Со стопроцентной гарантией? Тогда хвалю… Тут налог твердый, безответный. Натура…
– Что-о-о?
Все, что где-то сидело у Ивана: и сила, и злость, и бешенство – бросило его к Феде. Он схватил его за воротник и так сжал, что у того глаза полезли на лоб. Какое-то время Федя стоял, хватал воздух открытым ртом, потом рванулся, прохрипел:
– Пусти, дурак.
Иван разжал руки. Его всего трясло.
– Ну и бешеный… Так и задушить можно, – вертел шеей Федя.
– В другой раз будешь думать, что говорить…
– Да уж конечно. Свату и первая чарка, и первая палка… Бешеный, ей-богу. Дай лучше свой адрес, может, когда зайду да чарку выпьем… Мы ведь уже все равно как побратались…
Федя посветил фонариком, Иван записал свой адрес:
– Вечерами я всегда дома, если не в командировке.
– Как-нибудь подгадаю. Иди уж, иди. Тебя ожидают. А с меня хватит. Пойду спать… Может, мои пустят.
Они разошлись. Снова послышалось: «У миня такой характер…» – и это как-то обрадовало Ивана, сняло с души неприятную тяжесть.
– Что у вас было? – спросила его Вера. Она ждала Ивана возле своего дома.
– Ничего. Он попросил мой адрес. Может, когда-нибудь заглянет…
Они стояли у колодца. За ним, во дворе, была Петрова хата. Сколько лет Иван не был в ней? Последний раз забежал, идя в армию… Ему захотелось зайти, посмотреть, все ли там так, как когда-то. Для него это было очень важно. Он словно хотел сверить себя и с этим домом, и с тем, что осталось в доме и в нем самом. Он хотел возвратиться к себе тому, давнишнему…
– Зайдем? – спросил он.
Вера молчала, будто не знала, что делать, потом медленно открыла калитку.
Ее неуверенность как бы оживила тревогу и в Ивановом сердце. С какой-то грустью он переступил порог когда-то такой знакомой хаты. Но теперь хата казалась чужой, и он почувствовал себя в ней чужим. Отвык от нее.
Стол в углу, лавки вдоль стен, дальше, за дощатой перегородкой, печь…
В другой половине было просторно. Выбросили большую печь и вместо нее поставили грубку с прямым, высоким, аж под самый потолок, белым дымоходом.
Сняли пальто.
– Присаживайся где-нибудь, – сказала Вера, а сама осталась посреди хаты. Она не знала, что делать дальше. Куда-то исчезла та веселость и смелость, с которыми она зашла в клуб. Стояла посреди хаты потупившись, кусая губы, стриженная под мальчика и сама похожая на мальчишку, который залез в чужой сад, зацепился за гвоздь и порвал новые штаны. Ему очень жаль этих новых штанов, и он собирает в кулак все свое мужество, чтоб не заплакать перед отцом, который знает, где и как порваны штаны.
Иван подошел к Вере, положил руку на плечо и мягко сказал:
– Не надо.
Она резко повернулась к нему, глянула в глаза.
– Хорошо, что ты приехал. Ты даже не представляешь, как это хорошо, что приехал.
– Я давно не видел тебя…
– Ты не знаешь, сколько времени я тебя не видела… – Вера помолчала, потом тихо попросила: – Ты только ничего не думай, Иван.
– Я ничего не думаю.
– Ты знаешь, о чем я говорю…
– А ты не говори.
И все же и он, и она думали и думали об одном и том же. Оба понимали, что между ними стоит что-то такое, что не позволяет им почувствовать себя свободно, непосредственно. И оба знали название этому «чему-то». Это было Верино замужество. И еще это было время, которое стояло между ними. Вера чувствовала себя виноватой перед Иваном, и вина эта сковывала ее. И еще… Она все никак не могла поверить, что это он, Иван, тот Иван, про которого она столько передумала… Она столько времени не видела его и теперь боялась его. Задумчивые глаза. И она не знала, что он думает. Если б она знала, что он думает, ей было б легче.
Иван не узнавал себя. Он ждал сегодня Веру, обрадовался, когда она наконец пришла в клуб. А теперь вся та радость вдруг исчезла. Ну пускай она была замужем… Так что с того? Разве она стала какой-то другой? Разве она перестала быть Верой? Той Верой, с которой они когда-то решали задачки, с которой он прощался, идя в армию. Он убеждал себя, словно уговаривал, и чувствовал при этом, что чего-то важного не хватает его убеждениям.
Он взял Веру за плечи, повернул к себе. В глазах ее стояли слезы…
– Я ничего не думаю, Вера… Я не хочу думать. Ты мне нужна… Понимаешь, ты. И я тебя нашел. – И он начал целовать ее губы, щеки, волосы и почувствовал, как зазвенел, оживая, нежный голосок ручейка под весенним снегом, тот голосок, который для Ивана звенел когда-то на танцах в клубе, услышал, как этот голосок веселеет, ширится, набирает силу.
По небу плыл прозрачный, как Верина нейлоновая кофточка, молодик, и свет его тускло зеленел в хате. Этого зеленого света хватало, чтоб Иван мог видеть ее темные глаза, темные губы. Этого света хватало и на сад – чтоб ясно были видны деревья, кусты сирени и жасмина, угол хлева…
Его рука лежала у Веры на плече, и он пальцами перебирал ее короткие волосы. Они тихо переговаривались.
Говорила Вера, а Иван слушал, порой вставляя свое слово. Слушал и чувствовал, что за это время, как они вместе в Вериной хате, в нем произошел какой-то непонятный переворот. Вера перестала быть для него чужой. Она стала его, близкой и понятной. Когда только пришли из клуба, их разделяла какая-то отчужденность, какая-то стена. Теперь этой стены не стало. Теперь перед ним была Вера – не та Вера, которую он знал раньше, про которую хотя и изредка, но вспоминал в армии. Это была совсем-совсем другая Вера… Е г о Вера.
«Что же произошло, что изменилось?» Он не мальчик, ему не пятнадцать и даже не двадцать. Он ведь знал и других женщин, но т а к о г о с ним никогда не было. Чтоб человек сразу стал таким с в о и м. Почему этого не случалось раньше? Почему ни одна из тех женщин, кого он знал раньше, не стала такой близкой, такой понятной, такой своей? Почему тогда, каждый раз после этих торопливых минут близости, когда на какой-то миг исчезают всякие границы реальности, наступало трезвое прозрение и оставался неприятный осадок? Как после папиросы. И неудовлетворенность собой. И стыдно было смотреть друг другу в глаза… Может, потому, что где-то на дне души жила уверенность, что это не то, что это временное, чужое, чужое… Может, потому, что он долгие годы ожидал ее, Веру? Может, потому, что он любит ее, и любит давно, так давно, как знает себя…
Он ждал, что оно придет. Ждал много лет, каждый день… Вначале это было просто ожидание, подсознательное ожидание чего-то хорошего. Так, видимо, птица ожидает прихода весны. После двадцати это уже была тоска… Он с тоскливой болью провожал каждую пару влюбленных, счастливых людей, которых встречал на улице, в кино, в ресторанах… Он не хотел верить, что судьба обошла его, что счастье его прошло где-то рядом. Он уже утратил надежду, он начал приучать себя к мысли, что э т о не каждому дается. Как талант, как красота, как сила… И приучил, но тоску из сердца не выгнал. Он уже ничего не ждал… И тогда оно пришло… Но вместе с радостью и успокоенностью, пришедшими к Ивану теперь, было и острое сожаление. Это было сожаление о том, что было и чего уже никогда не будет, – о той далекой Вере и о нем самом – том, давнем. Теперь они были совсем другие люди.
Вера говорила тихо, чуть глуховатым голосом. Иван слушал не все, о чем она говорила, но знал, о чем она говорила. Она говорила о себе, а ему казалось, что это о нем…
– Ты не знаешь, не представляешь, что было со мной, когда ты ушел в армию. Иногда мне казалось, что я не выдержу больше, нет, что я умру, так болело мое сердце. Выбежав из нашей хаты, ты пошел на улицу не через калитку, а напрямик, через гряды. Не знаю, почему ты так сделал, но мне казалось, что ты специально пошел через гряды, чтобы я тебя дольше видела. Выйду во двор, увижу твои следы – и в слезы. Кажется, сердце вот-вот разорвется. Прошу Клавдию: «Закопай ты эти следы, или запаши, или засыпь, а то я не выдержу, помру…» А она смеется: «Дуреха, говорит, вот снег пойдет и сам засыплет все, заровняет, и не узнаешь, было ли что где. Он в армии, у него есть о чем думать. Он даже не знает, что ты так надрываешься по нем, так сохнешь…» Смеялась, смеялась, потом сердиться начала, ругать меня: это же надо, школьница, восьмиклассница, вместо того чтоб про учебу думать, места не находит из-за хлопца. А я ничего не могу с собой поделать.
Но вот пришла зима, повалил снег, засыпал все-все и следы твои. И у меня как-то спокойнее стало на сердце. Вначале ждала, думала, что хоть слово напишешь, ну, просто так, как знакомый, разве ж так нельзя… Не-а… Бывало, иду из школы – все девчата и парни впереди побегут, а я плетусь нога за ногу… И думаю, думаю… «Ну, не может быть, чтоб он ничего не знал, ничего не чувствовал. Я столько о нем думаю, так мое сердце мучается. Даже дерево почувствовало б это, а он ведь человек, живой человек». Тебе смешно, правда? Скажи, смешно?
– Нет, не смешно, – ответил Иван. – Говори, я слушаю.
– Стану у березки, обниму ее… А то представляю, как мы встретимся с тобой, как ты поцелуешь меня. И переживаю, аж ноги дрожат. Никакие уроки в голову не лезут. А увижу твою мать – сердце в пятки уходит. Хочу спросить, присылал ли ты письма, и боюсь: еще подумает что. Хотела спросить Адама, он тогда почту носил, чтоб хоть глянуть дал на твое письмо, чтоб хоть почерк твой увидеть. Встречу его и спрашиваю, нет ли нам писем. «Нет, нету». – «А кому есть?» – «Кому есть, тому есть…» Набралась смелости, забежала к вам. Два раза… Зимой выдумала погреться, летом – воды попить. Тогда, кажется, впервые и увидела тебя в военной форме. Ты с каким-то своим товарищем, носатым таким… Веселые, здоровые. И какой-то незнакомый ты был на той фотокарточке, далекий. Потом пришла весна, согнала снег – и снова все началось сначала… Закрою глаза и вижу, как ты перебегаешь двор, берешься одной рукой за плетень, прыгаешь. Хлопаешь рукой по штанине – то ли пыль отряхиваешь, то ли колючки… На дворе стало тепло, трава пошла… И с сердцем снова что-то начало твориться, что-то бушует там, чего-то хочется, а чего – и сама не знаю. Просто места себе не находила. Особенно под вечер. Кажется, шла б и шла неизвестно куда. Кажется, только б увидеть тебя, один только разочек увидеть…
С горем пополам окончила восемь классов, а что дальше? Ходить в девятый? А тут и Митя перешел к нам. Они с Клавдией давно были как муж и жена. Сидит, сидит поздно, да и останется ночевать. Клавдия и тогда уже стелила для двоих. Ночь пробудет, а на рассвете бежит домой… А теперь совсем перебрался к нам. Ты же знаешь, как он водку любил. Каждый вечер под градусом. А под градусом-то или драться, или ссориться. Клавдия тоже цаца добрая. Терпела все, пока неженатые были, пока к нам не перешел. А как перешел – она ни на какую уступку. Он слово – она два. Прошу: «Замолчи. Уступи ему». Где там! Как схватятся драться – насмерть… Раза два полуживую вырывала у него из рук. Два дня поохает, постонет, а там все заново… А тут как раз подвернулись курсы бухгалтерские. Я и поехала… Клавдия родила первого сына, и Четыресорок остепенился: пить стал меньше, драться перестал.
Окончила курсы и махнула на Север… Есть такой город Североморск… Одна-то я никогда не решилась бы ехать за свет, а это подбила напарница, на тех курсах училась, Маня Жадейка, у нее как раз сестра жила в том городе. Я, как за веточку, раз-раз и поехала. Работу нашли быстро. Я в вэчэ, она – на комбинате… Сижу, кручу арифмометр, свожу сводки. Копейку потеряешь, два дня ищешь… Теперь вспомню, так сама диву даюсь: откуда у меня смелости хватило поехать на край земли. Никого: ни родных, ни знакомых, одна только Маня. Она, как поводок, и удерживала меня там. Без нее я не выдержала б там… И пусто, и голо, и холод. Куда ни глянь – сопки. А Мане хоть бы что. Прибежит, смеется… «Не горюй, Вера, не замерзнешь. Хлопцы не дадут замерзнуть». А морозы там страшные. Градусов сорок – сорок пять. Выбежишь во двор, раза два дохнешь – и назад. Словно иголками прошивает. И темно. Глухой темени, такой, как у нас, нет, а так – серо вокруг и днем и ночью. Ни день ни ночь. А вверху, над фонарями, белые столбы мигают, переливаются… Прибежишь со двора, а тут печка горит. Дверцу откроешь – ближе к теплу. Возьму стул, сяду напротив печки, и кажется уже: никакой это не Североморск, а наш Буднев, и я дома… И вот скоро ты придешь, задачки решать… – Вера замолчала и долго лежала, глядя в потолок. Иван повернулся к ней.
– Дальше не надо…
– Нет… Я хочу, чтобы ты услышал это от меня. Только… – она запнулась. – Если тебе неинтересно, скажи…
Он погладил ее по волосам, дотронулся губами до щеки, щека была горячая.
– Маленькой я очень боялась темноты, – начала Вера, непривычно растягивая слова. – Даже выйти во двор ночью мне было страшно. Я бегом пролетала через сени, хваталась за щеколду, стараясь как можно быстрее открыть дверь. Мне казалось, что в темноте кто-то есть, кто-то неизвестный и страшный, и он схватит меня. И теперь… мне хочется как можно быстрее пробежать через эти темные сени… Так вот. У Джека Лондона есть один страшный рассказ о севере, о белом севере, о том страхе, который наваливается на человека, когда он остается один на один с севером. Прочла я этот рассказ там. Вечерами делать было нечего, так перечитала всю библиотеку. Прочла я этот рассказ и забыла. Но вот однажды пошли мы на лыжах на сопки. День такой ясный, где-то уже к весне. Маня, офицеры из нашей части, я… Поднялись на первую сопку, солнце увидели. Как желток висит на небе. Спустились за сопку – его не стало. Идем и идем. Смех, шутки… Кто-то кого-то зацепил, кто-то кого-то подцепил. Я в хвосте шла. Они впереди, а я за ними плетусь. Какой там из меня лыжник… Иду себе, думаю… Сосенки вокруг – небольшенькие, кривые, как у нас на болоте. Кое-где береза, опять же кривая, коростливая. Спустилась вниз, а наши где-то впереди, за сопкой. Остановилась я поправить лыжу. Оглянулась вокруг – одна на всем свете. Хоть бы душа, хоть бы что живое… Ну, ворона, или заяц, или самолет. И такая тишина, такая тишина… Крикнула – голос никуда не полетел, кажется, так на губах и остался. Белый снег кругом, белое, словно вата, небо над головой, ну как раз как в том рассказе. Там еще человек погибает. Его деревом придавило. И как поселился во мне страх! Кажется, никогда я никуда не выйду, голоса человеческого не услышу… Бросилась вперед по следам. И не иду уже, а бегу, спотыкаюсь, и бегу, и плачу. Вижу, кто-то спускается навстречу. Ну, слава богу. Это был он, Толя. Увидел слезы, пожал плечами: «Что такое?» Говорю: «Ногу подвернула». Разве скажешь кому, что испугалась?.. Так с ним вдвоем мы и вернулись в город. Потом еще ходили на лыжах, на танцы в офицерский клуб… Очень трудно человеку одному. Еще пока не замечаешь, что ты один, – ничего. Кажется, живешь – и все тебе. А когда почувствовал, что один, – тогда тяжело. Поссорилась я с хозяйкой, у которой жила. Попросила Толю: помоги квартиру найти. «Хорошо», – говорит… И вечером приходит с друзьями. «Собирай манатки – и пошли…» А много там чего собирать! Связали постель в узел, чемодан и пошли. Приводит он к себе в комнату… Там уже стол готов: водка, шампанское… Я в слезы, а он смеется: «Чего ты? Все равно этим кончится, не сегодня, так завтра». Я подумала, что, и правда, так оно будет…
Назавтра пошли в загс, а еще через два дня он уехал. Он все пропадал в командировках. Мотался по всей нашей области. Я снова одна, и снова мне страшно, как тогда, на лыжах… И вижу уже, что не то, не то я сделала… Нет в моем сердце любви к нему. Я и хочу любить его, и не могу… Ищу любви – и не нахожу. Он и высокий, может, даже красивый, и поговорить умеет, а мне чего-то не хватает. Чего – и сама не знаю. Правда, тогда я не знала, чего мне не хватает. Как раз души не хватало, человечности. Мы были совсем разные люди, у него своя жизнь, у меня своя. Только постель одна. А разве ее надолго хватит? Искала я в нем опору, а нашла цепи. Днем еще туда-сюда, а ночь придет – все думаю, думаю. Приехал он как-то из командировки, я ему и говорю: «Не будем смешить людей… Давай разойдемся». И разошлись. Побыла я еще немного на Севере, а потом вернулась обратно в Белоруссию…
Вера замолчала. Иван ожидал, что она сейчас заплачет, и боялся этого, но она засмеялась. Неестественно веселым, фальшивым смехом.
– Вот и все… и давай больше не будем об этом. Это мое, и пусть оно будет со мной. – Она вздохнула, тряхнула головой. – Давай про что-нибудь веселое…
– Про что?
– Про тебя. Я тебя совсем не знаю.
Зубок месяца успел перебраться в другое окно, но свет его нисколько не слаб. Иван видел те же тени у нее под глазами, у рта, тот же блеск глаз…
– Можно и обо мне, – задумчиво ответил Иван и притянул Веру к себе. – Можно и обо мне… – И без всякого перехода, как продолжение сказанного, но так же сокровенно и тихо: – Хорошо, что ты приехала…
– Ей-богу?
– Ага…
– Ну, а ты… хоть когда-нибудь и хоть просто так… думал ли ты обо мне…
– Думал… Только до сегодняшнего дня ты была где-то далеко-далеко, так далеко, словно тебя и не было…
– Может, это была и не я?
– Может, и не ты. Зато теперь ты, и мне кажется, что и всегда была ты. Не знаю почему, но сегодня я, может, впервые по-настоящему почувствовал радость оттого, что живу на свете. Не в смысле: «Жую, – значит, живу», а в более высоком: «Живу, – значит, действую, ошибаюсь».
– Не боюсь ринуться с кулаками в драку… – уколола Вера.
– И с кулаками. Без этого нельзя. Жизнь сложна, а люди разные… Одному не хватает денег на хлеб, другому – на машину, и каждый хочет иметь свое… И снова же… эта радуница, кладбище, вечеринка… Сегодня я впервые задумался о том, что на кладбище лежит больше людей, чем ходит в живых. Намного больше.
«Заносит тебя, Левонович, заносит. Не надо мудрить. Меньше абстракции – больше ясности, больше правды…» – напомнил о себе внутренний голос, и Иван согласился с ним и замолчал.
Было совсем светло, когда Иван собрался идти домой. Пели жаворонки. Вера проводила его во двор, держа руки у щек: они горели. Иван задержался у калитки.
– Иди, иди! И так не знаю, как я сегодня буду смотреть твоей матери в глаза…
– Как и всегда…
– Что ты?! Разве она примирится с тем, что ты был у разведенки?
– Примирится, – ответил Иван, но для себя отметил, что «разведенка» – материно слово и она его не уважает.
…Уснул он мгновенно, едва прикоснувшись головой к подушке.







