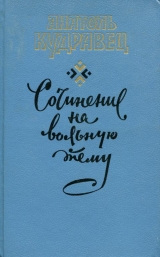
Текст книги "Сочинение на вольную тему"
Автор книги: Анатолий Кудравец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 32 страниц)
Всяких смертей насмотрелся Игнат, когда отступал из-под Белостока, – умирали дети, бабы, старики… Страшнее всего – бомбы, да если еще человек не попадал под них и не знает, что это такое. Стоит будто вкопанный или бежит, выпялив от ужаса глаза, вместо того чтобы броситься наземь, затаиться, перележать…
Солдатская смерть – дело обычное. Солдату смерть как бы самим уставом предписана. Кто, если не солдат, может и обязан заступить дорогу врагу. И не просто заступить – уничтожить его, чтоб и следа не осталось. А нельзя иначе – так и умри. Умри, но не допусти надругательства над людьми.
Конечно, умирать никому неохота. Но и тут у солдата своя мерка. Он должен уметь убить врага. Пересилить, перехитрить, обмануть и убить. А самому выжить, чтобы делать свое дело дальше и радоваться всему, что есть на свете живое. Для того тебя и строю учили, и винтовку дали, и к орудию приставили. Ты – солдат, и ты должен… Не ты на его землю пришел, а он на твою… Со смертью пришел. И ты должен найти способ не дать убить себя… Должен. Но как же так получилось, что двоих – Хведора и Лександры – уже нету? И все вышло так просто! Взяли, как овечек из хлева. Давно ли говорил Лександра: «Мы еще повоюем. А ежели большего не удастся, то хоть свою жизнь разменяю на чужую: смерть на смерть». А вышло, что и этого сделать не успел. И Хведор тоже. Приехали, скрутили руки, поставили к стенке и расстреляли. И помогал ведь свой же, сосед. Да кому помогал!.. «Дай тебе боже разум, а мне гроши…» «Были когда-то свои, а только теперь…» «И ты тоже, вопщетки…» «Там разберемся…» Разберемся!..
– Вопщетки, если по правде брать, и я должен был лежать вместе с ними, – промолвил Игнат, опустив руки с рубанком на доску, которую строгал.
– Не очень много ума надо, чтоб додуматься до такого, – понуро заметил Тимох. – Мог и ты быть, и я, и другие.
– Хведор с Лександрой заходили за мной, когда шли к Мостовскому, а я как раз перед тем косить выбрался, – вел свое Игнат.
Тимох пристально посмотрел на него, подошел ближе, навис над ним горбоносым лицом, прошептал, почти прошипел над ухом:
– Тебе хочется землю парить? Так я скажу: твое время еще придет, не волнуйся. Можно сказать, все только начинается, и надо думать.
– Я и думаю, – упрямо повторил Игнат.
В это время тишину Яворского леса взорвал отчаянный тонкий вопль. Он повторился несколько раз и затих, Липница встречала подводу с убитыми.
Хоронили их той же ночью: никто не знал, что будет завтра, а ждать можно было всего. Ярко светила полная луна, белым отсвечивала кора берез, тусклый матовый блеск лежал на высоких мраморных памятниках, и издали чудилось, будто это не памятники, а огромные застывшие привидения. Странно и жутко было видеть среди этого застывшего безмолвия людей, темными тенями снующих между могил. Обессиленно всхлипывали наплакавшиеся женщины. Молча, роняя редкие слова, исполняли обязательную в таких случаях невеселую работу мужчины. Гулко стучали молотки, которыми заколачивали крышки домовин, шаркали лопаты, засыпая могилы. Потом цепочка людей потянулась обратно в село.
А на болоте, перебивая друг друга, словно поддразнивая, драли глотки, аж стонала округа, два дергача. И с такой охотой, словно с насмешкой: «Драч, драч! Драч, драч!..» Прямо хоть позатыкай глотки.
Этой же ночью Игнат с Тимохом ушли из Липницы. «Время крутое, а бог дважды не милует. Надо самим думать. В Липнице пока что делать нечего», – сказал Игнат Марине.
Идти решили в Леневку, к шурину Тимоха, а там видно будет. Кого-то ведь должны найти.
На этот раз торба у Игната была тяжелее, чем утром. Вместе с харчами и махоркой в ней лежали и ватник, и пара белья. Сходил он в конец соток к осине, слазал в дупло. У Тимоха тоже был добрый сидор за плечами.
Миновали гать, мимо курганов поднялись к присадам, остановились закурить. Как раз под теми липами, где позавчера стояли Игнат с Вержбаловичем. Старые деревья черной тучей нависали над ними, тревожно шептались. В окнах Казановичева дома блестели огни. Оттуда время от времени доносились голоса: после кладбища люди собрались на поминки.
Небо на востоке начинало светлеть. Мужчины, не сговариваясь, посмотрели в ту сторону и двинулись в путь. Только не на Клубчу, а правее, через средний поселок и в лес. Оба понимали: оставаться дома нельзя, однако ни тот, ни другой не знали, что ждет их впереди и когда они возвратятся сюда, под эти липы. И возвратятся ли вообще. Шла война…
И через годы она продолжается.
Обо всем можно вспоминать, но не все остается в памяти. И хорошо, что не все. Какая память может вместить те годы – день за днем, час за часом?.. Те пути-дороги, и неизвестность, и отчаяние, и голод, и холод, пережитые на этих дорогах. И сами дороги, что пролегли и по Белоруссии, и дальше, и в обратную сторону…
V
Было ясное июльское предвечерье, когда на небольшой двухпутной станции притормозил свой тяжелый многотонный бег воинский эшелон и из приоткрытых дверей первого пульмановского вагона на влажный песок – незадолго до этого здесь прошел дождик – полетели один за другим два солдатских вещмешка, а вслед за ними соскочил, пропахав сапогами размокший грунт, высокий, сутуловатый солдат.
Из окна паровоза за всем этим наблюдал машинист. Он видел, как солдат, соскочив, встал на ноги и повернул голову в сторону паровоза. Машинист помахал ему рукой. Тот широко улыбнулся, вскинул вверх сжатую в кулак правую руку – салют!
Поезд пошел дальше набирать потерянный разбег. Мимо солдата с тяжелым стоном проплывали платформы с танками, орудиями, теплушки, в раскрытых дверях которых стояли солдаты и что-то кричали тому, на земле. Он смотрел на них с виноватой улыбкой, смотрел и тогда, когда хвост состава скрылся за сумрачной кромкой леса.
Эшелон спешил на восток, туда, где еще шла война. А война шла с Японией. Солдат же прибыл домой.
Он стащил вместе оба вещмешка, достал из кармана трубку, набил махоркой, попытался раскурить ее от трофейной зажигалки, но слабый огонек тянулся вверх, махорка никак не разгоралась, и солдат не выдержал – задул пламя и достал из кармана спички. Раскурил трубку, затянулся и решил оглядеться.
Самой станции и было всего-то лишь бревенчатый дом на высоком, в пояс человека, каменном фундаменте по одну сторону путей и водокачка из красного кирпича – по другую. В этот предзакатный час омытые дождиком рельсы блестели, местами вспыхивая искрами. Дальше за станционным зданием, у самого леса, под дубами, стояли еще две хаты.
«Вопщетки, уцелели, выжили», – удивился солдат, поворачивая голову и обводя взглядом другую сторону железной дороги: за лощиной, заросшей ольховником, черемухой и лозняком, должна была находиться деревня. Она и была там: сквозь гривы кустов на взгорке просматривалась цепочка хат.
«И ты выжила!» – обрадовался солдат, взялся за лямку вещмешка, намереваясь закинуть его за спину, и тут увидел: из здания станции вышел человек в форме железнодорожника и направился к нему. Человек приближался, и спокойное безразличие на его лице сменилось сперва удивлением, а затем открытой радостью. Последний десяток метров он не шел, а бежал, припадая на правую ногу.
Солдат тоже узнал железнодорожника и не захотел дожидаться его на месте, бросился навстречу. Это был Андрей Цукора.
Он долгое время противился перебираться со своего насиженного хутора над ставком, однако Вержбалович начал настаивать, и он снялся с места, переехал. Однако не в Липницу, а сюда, ближе к станции, заново отстроился. Обживаясь здесь, и ногу покалечил. Залез на высоченную ель нарубить сучьев на заплот и, можно сказать, оголил ее доверху – оставалось каких-нибудь суков пять – и тут не рассчитал удара: топор срикошетил и вонзился в колено.
– Игнат?! Браток! Живой? – закричал Андрей, раскинув руки, обхватил и сжал солдата в объятиях.
– Живой, Андрей, живой! И ты, вопщетки, тоже… – растроганно говорил Игнат, похлопывая свата по худым плечам.
– Приехал?
– Ага. Приехал.
– Насовсем?
– Кажись, насовсем.
– Аж не верится…
– А ты думал: уже все, пропал курилка?
– Не хотел думать, да сам знаешь, какое время. А ты как ушел, так и пропал.
– Вопщетки, ты правду сказал: сколько было всякого-разного! Признаться, и я не планировал, куда война завернула. Вышли мы с Тимохом к его шурину, сошлись с партизанами. А потом сложилось так, что образовались витебские ворота, можно было пройти через линию фронта и назад, мы и перекинулись туда. А оттуда почтальона не пошлешь: передай привет от Игната. Вот там меня снаряд и перевернул с ног на голову. И мысли не было, что жив буду: и осколки, и контузия. Но доктора подключили медицину, подправили, и я пошел воевать дальше. Скажи, как там мои?
– Живы, здоровы… сам увидишь. А ты молодцом во, вернулся, – заспешил говорить Андрей, но Игнат не почуял в его поспешности ничего подозрительного, стоял растянув в улыбке рот, похоже, он и сам все еще не понимал до конца, какое выпало ему счастье – вернуться домой. – Так зайдем ко мне, – Андрей взялся за лямку вещмешка, потянул к себе: мешок оказался не настолько легок, чтобы так просто закинуть за плечо. Пошутил: – У тебя тут золото, не иначе.
– Оно и не золото, а не дешевле. Собирая в дорогу, хлопцы подобрали слесарный инструмент и все такое прочее, тут сгодится.
– Еще бы не сгодилось. Сейчас иголка в доме – все равно что когда-то пила или топор для лесоруба. А уж такое, да по специальности…
Игнат подхватил второй вещмешок, и они пошли.
По толстому бревну, служившему балкой разобранного в начале войны моста, перебрались через ручей. По правую руку непролазно росли крушина и ивняк, по левую, несколько отступив от дороги, темнел ельник. Изрезанная колесами песчаная дорога поднималась в гору. На ней и остановил их неожиданный голос кукушки. Он послышался совсем близко, как будто из дубовой бочки.
Ку-ку! Ку-ку-ку! Ку-ку-ку!..
Кукушка словно бы удалялась, но голос ее был все такой же густой и отчетливый.
Ку-ку! Ку-ку-ку!.. Ку-ку-ку!
– Знаешь, как давно я не слышал ее? – спросил Игнат, поворачивая голову вслед за голосом. – Можно сказать, уже и забыл, что она есть на свете.
– Тут тоже было не до них, – задумчиво ответил Андрей.
Кукушка смолкла, а Игнат еще долго стоял, напрягая слух, желая услышать еще, но лес молчал. Андрей снисходительно, как больному, улыбнулся Игнату, проговорил:
– Пошли. Теперь у тебя будет много времени, наслушаешься.
– А вопщетки, и правда, – улыбнулся Игнат.
У Андрея была небольшая, но уютная хата на две половины, и садик при ней, и хлев. Во всем чувствовался заботливый хозяйский глаз, тяга к порядку и завершенности, и Игнат снова подумал, как долго Андрей противился переезжать с хутора: там у него также было все налажено и обихожено.
Возле двора, огороженного с улицы новым, из окоренного молодого сосняка, частоколом, Игнат замедлил шаг, затем остановился:
– Вопщетки, это непорядок: ехать тысячу километров и даже больше, и, вместо того чтобы спешить домой, идти в гости.
– Пошли, – Андрей отворил воротца, дав тем самым понять: он и мысли не допускает, что можно тут поступить как-то иначе. – Не так много у тебя сватов, чтобы раздумывать: зайти или нет. Да и не был же ты у меня вон сколько, и вечер надвигается. Проехал тысячу километров, так уж тут доберешься.
Все верно, и Игнат не стал упираться.
Андреева Ганна обрадовалась Игнату, как отцу родному. И плакала, и смеялась, что не мешало ей хлопотать у стола, как обычно, когда гостя долго ожидают и он наконец приходит. Ганна и сейчас была вся нараспах и расторопна, как когда-то, с мгновенными перепадами от веселья до слез, но ни смех, ни слезы, казалось, не могли смутить ее природной душевной доброты и равновесия, характера она была на удивление отходчивого и общительного. И с Андреем они быстро поняли, что им словно бы судьбой назначено жить друг подле друга, но годы шли, а они все никак не могли заиметь ребенка. Это омрачало и незримым грузом угнетало обоих. «Война, по всему, не внесла тут никаких поправок», – отметил про себя Игнат, доставая из вещмешка банку тушенки и приобщая ее к расставленным на столе тарелкам. Но Андрей взял банку и решительно стал заталкивать обратно в вещмешок.
– Не надо, детям отнесешь.
– Детям еще есть, – заперечил Игнат, не давая Андрею настоять на своем.
Так они некоторое время боролись руками, пока не вмешалась Ганна, и тоже твердо:
– Игнат, у нас найдется что поесть, и на столе, видишь, не голо, а это отнеси детям. Мы ж вдвоем, и оба работаем. Отнеси, ей-богу, – попросила она. И Игнат подчинился.
Андрей взял в руку стакан:
– Давай выпьем за тебя, Игнат, за то, что вернулся. Это главное. Сколько людей не пришло, страх подумать. У нас на селе – из пяти хат хорошо если в две вернулись, да и те – кто без руки, кто без ноги. А ты – слава богу. И все остальное, что может быть… – Андрей перехватил настороженный, беспокойный взгляд Ганны и поспешил закончить: – Ага, а все остальное… самый что ни есть пустяк.
Перехватил этот взгляд и Игнат, но поднял свой стакан:
– Ну что ж, вопщетки, ты правду говоришь. Как бы там ни было, на войну идут умирать, хоть каждый и надеется на своего бога. И счастлив тот, кто вернулся. Как подумаю, сколько раз переглядывались со смертью, то не верится, что так полюбовно разошлись. Взять хотя бы, как при орудии был. Ляснет – и все тут. Когда снаряд летит на тебя, его уже не подправишь. Не скажешь ему: «Возьми чуток левее или дальше». А гляди, как вышло. И одно орудие разбило, и второе перевернуло, а я остался. Первый раз троих накрыло, второй – двоих. Во какая алгебра. Правда, когда перешел в артиллерийские мастерские, экспозиция изменилась. Там больше работа была, война дальше отступила. И вот, видишь, приехал. Так уж она распорядилась.
Игнат махнул рукой и с некой отчаянной решимостью выпил. Поймал вилкой ломтик сала, бросил в рот.
Сидели, закусывали, вспоминали, как доводилось тут и что было там.
Ганна тоже выпила горелки и, хотя смелости ей никогда не надо было занимать, чувствовала себя смелее обычного.
– Игнат, вот ты только что оттуда, из Германии. А как у них там?
– Что – как? – переспросил Игнат.
– Как живут они? Вот у нас повертались некоторые, кого немцы взяли, когда отступали. Так они говорят, что там у них бабы, окромя комбинашек, никаких сорочек не носят. Правда это?
Андрея словно подбросило на лавке. Он круто посмотрел на жену: «О чем ты, баба, думаешь?» И не выдержал:
– Ты больше не додумалась, о чем спросить?
– Дак они вот так и говорили: там бабы, окромя комбинашек, никаких сорочек не носят, – повторила Ганна теперь уже для Андрея, однако понятно было, что отвечать на этот вопрос надобно Игнату.
Игнат озадаченно потер рукой щеку, будто проверяя, хорошо ли выбрит, хотя выбрит был чисто.
– Должен заметить, мне тут трудно что рассказать. Навроде как не по моей это части.
– Как до баб, так по вашей, а как для баб – не по вашей. – Ганна покраснела. Видно было: она и стеснялась говорить на эту тему, и в то же время ей очень хотелось знать, как оно там, у «них».
Андрею это явно не нравилось, но на сей раз он смолчал.
– Вопщетки, я не то что совсем ничего не могу сказать, а что могу сказать – мало. Мы делали свое дело, я – работник оружейных мастерских, ну там прицельная планка, инструмент поворотного механизма, щит там, допустим, а это…
– При чем тут поворотный механизм? Ты был в Германии?
– А откуда ж я, как не оттуда?
– Вот и расскажи, как оно там… Хотя… Все вы одинаковы. Добейся от вас правды.
Игнат и теперь не очень понимал, что именно хочет услышать Ганна, и начал несколько издалека:
– Вопщетки, я не люблю тумана. А ежели ты, Ганна, хочешь в открытую, – тут Игнат даже голос повысил, – то могу сказать по-вашему, по-бабьи… Не знаю, что они и как на себя напяливают, с кружевами там, махрами или без всего этого. Надо сказать, и для них не то время было, чтоб показывать всякие гафты и еще что такое. Когда за окнами барабанят чужие танки, а свои солдаты бегут кто куда может, мало кто отважится выйти на улицу, чтобы похвастаться новым платьем. Хотя что до меня, то бабы всюду одинаковы и всегда найдут причину показать свое. Важно только, в какой порядок она поставлена.
– Так уж и однаковы, – не то рассмеялась, не то осерчала Ганна. – Были бы все однаковы, то не было б всяких… разных.
Игнат понял, что копнул не в ту сторону, поворотил обратно.
– Заняли, значит, мы городок, ну, может, как наши Осиповичи, потому что Бобруйск уже намного больше. Заняли наши, мы пришли после, мы – тыл, боевое обеспечение, ремонт, мастерские. Боев больших там считай что и не было, то и у нас работы немного… И один раз мы вышли в город, увольнительную дали нам – помощнику начальника мастерской Ивану Новосельцеву и мне. Интересно поглядеть, что за город. Когда еще доведется. Городок аккуратный, чистый, как на картинке. Его и не бомбили и не обстреливали: они боялись в котел попасть, отступили, а мы заняли. Домишки прижались один к другому, крыши по большей части острые, черепицей крытые, вроде нашей мельницы. И – ни живой души: городок бытта вымер. Идем по улице, автоматы, конечно, при нас, но не по себе как-то: не может быть, чтобы город остался, а людей не было. Знаем, что есть, и, конечно, видят нас, только не показываются. Бытта попали в какое-то безлюдное мертвое царство.
Иван Новосельцев хлопец высокий, стройный и грамотный. Он и по-немецки хорошо понимал – и говорить, и читать. Как признался потом, он с немцами еще до войны встречался, приезжали какие-то спецы к ним на завод. Ходим. Он читает, пересказывает мне, где какая лавка, цирульня, и все равно неприкаянно на душе. И еще, скажу вам, видел я, как немцы оставляли наши города и что от них оставалось, и злость на них берет даже за этот городок: вот же чистенький, целехонький, и окна, и витрины. Это я про себя. А приказ суровый: не трогать ничего, иначе… И вот Новосельцев остановился перед одним двухэтажным домом – что он там прочитал, не знаю, но как-то хитро усмехнулся и спрашивает у меня:
«Зайдем?»
«А что это?» – спрашиваю в свою очередь.
«Что-то веселое, – говорит. И – по-немецки название этому дому. – Зайдем, а?»
Не понимаю, правду он говорит или брешет. Брешет, видать, но вижу: очень уж интересно ему знать, что там, за этими дверьми. А двери красивые, по краям красной медью обшиты, железные выкрутасы разные, и все так мудрено переплетено, вроде как и не металл это, а, допустим, лоза. На что Максим, наш коваль, может сделать такое, что на загляденье, попотевши, а тут не знаю, что и он сказал бы. За железом фигурное стекло темно-желтое. Скажу, и меня любопытство взяло, хоть я и старше его, и приказ имеем категорический: в ихние дома – ни богу ногой, чтоб ничего такого. Было, что и пропадали люди ни за что: вошел и не вышел, откуда ты знаешь, кто за теми дверьми. И под трибунал можно пойти. А что такое трибунал, когда война на сгон идет, победа, считай, впереди светит, оркестры скоро марш заиграют. Но опять же, быть там и ни глазом не глянуть ни в одну хату – никто не поверит, во как ты, – Игнат повернулся к Ганне.
– А что я? – засмеялась Ганна. – Я – баба. Мне все интересно.
Игнат достал трубку, хотел было закурить, но Андрей удержал его за руку, показал на чарки. Выпили. Игнат опять взял трубку. Набил ее, раскурил, затянулся и словно бы повеселел, озорным глазом кинул на Ганну.
– Говорю Новосельцеву: ладно, хоть ты и выдумываешь, но где наше не пропадало, пошли.
Заходим за эти двери, а там прихожая, два дивана мягких, столик на низких ножках. Выходит женщина, пожилая, но аккуратная, чистенькая. Новосельцев сказал ей что-то. Она исчезла и тут же вернулась с двумя альбомами. Вопщетки, сели мы, начали смотреть альбомы, фотокарточки. Красивые девчата такие, молодые, которая так сидит, которая эдак, которая курит, а которая смеется…
– А одеты во что? – добивается своего Ганна.
– А во, в чем мать родила.
– Совсем?
– И совсем, а если и есть что-нибудь, так тоже как совсем.
– А бо-о-о! – всплеснула в ладоши Ганна. – Тут во, бывает, летом искупаться захочется, и то ищешь место, чтоб никто никогда…
– Во, а ты говоришь: никаких сорочек, окромя комбинашек, – расхохотался Андрей.
– Ай, что ты знаешь, – незлобиво отмахнулась от него Ганна. – Ну и что дальше?
– Я как увидел эти фотокарточки, сразу встал: «Пошли, Ваня, нечего нам тут…» Но он опять: «Игнат Степанович, раз уж зашли, поглядим». А что там глядеть? – Игнат поморщился, махнул рукой. Видно было: ему не больно нравилась и сама эта история, и то, что он начал рассказывать ее. Да куда денешься, начал… – Подошла как раз эта женщина. Новосельцев и говорит: «Идите, Игнат Степанович, а я здесь побуду». Вопщетки, можно было и не ходить, колхоз – дело добровольное… Словом… повела она меня по коридору. Подвела к двери, кивнула головой, мол, ступай. Я еще сомневался, да она весело подтолкнула вперед. Ну что ж, отступать некуда, можно сказать, сам напросился. Открыл я дверь, вошел. Маленькая комнатенка, кровать, столик, пара кресел. За столиком боком ко мне сидит девчурка… облокотилась на столик. И совсем голенькая. Взглянула на меня, сначала вроде испугалась, но тут же заулыбалась, залопотала что-то, показывает: смелей, мол, раздевайся. А я… знаешь… сапоги, шинель, пилотка… Столько дорог, дым, грязь… Война – это тебе не прогулка в Курганок на танцы. Вопщетки, вроде увидел себя сбоку. И она, девчурка… Как Соня моя, может, чуть постарше… И так мне не по себе стало, так гадко, будто хотел злодейство какое над собой и над всем светом учинить. И злость на фашистов всех этих. Надо же до такого людей довести… Повернулся я и назад за дверь… А Новосельцев сидит за столиком, с той женщиной растабарывает. «Вопщетки, – говорю ему, – пошли-ка отсюда, и чем скорей, тем лучше». А самого аж трясет.
– С таком и ушли? – не то с радостью, не то с разочарованием спросил Андрей.
– Ага, – хмуро ответил Игнат. – Новосельцев извинился перед хозяйкой того заведения, достал из сумки банку тушенки, оставил на столике, и мы пошли. Потом мы с ним никогда не говорили об этом и никому не рассказывали. Кому расскажешь? А тогда вышли, я и говорю ему: «Ну что, сходили в гости?» Он мне: «Я наперед знал, что тем все кончится. Но, Игнат Степанович, это тоже надо увидеть». – «Видеть-то видеть. А если б им вздумалось провокацию против нас организовать, как бы ты на это посмотрел?» – «Против провокации я и остался в коридоре…» – «Ну, а кабы я… Ну, вопщетки, это самое… Война, когда я видел ту женщину… Ну, если б я… Что тогда?» – «Война есть война, а мы – люди…» А потом рассказывает: «Я спросил у хозяйки: как же мы расплачиваться будем?..» Марки – что, марки уже были ничто. И она ответила ему: «Вы победители, и вы первые зашли… Мы вас бесплатно обслужим». Ну и разозлился я на него тогда. Победители… Мать вашу… по захлевью пошли. Да что с него возьмешь… молодой был хлопец, отчаянно любопытный до всего. Все ему чего-то не хватало, куда-то тянуло. Все ему хотелось знать… Может, с месяц прошло после того, мы переезжали на новое место, и налетели откуда-то самолеты, бомбить начали. Одна бомба накрыла их машину. Зачем он остался сидеть в машине, когда все по канавам лежали, не знаю. Вот такие, Ганна, комбинашки… Скажите-ка лучше, как там мои? Давно вы их видели? – спросил Игнат уже о своем.
– Не сказать, чтоб давно… Живут… Сам увидишь, – забеспокоился, будто виноватый в чем-то, Андрей.
– Ты налил бы еще, – подсказала ему Ганна, поглядывая на мужчин напряженным взглядом.
– Нет, мне достаточно! – остановил Андрееву руку с бутылкой Игнат. – Ты, вопщетки, имеешь что-то мне сказать, да не осмелишься. Так давай!
– Ну что ж, – начал Андрей. – Если б не встретились мы с тобой, пусть бы лучше другой кто сказал тебе все это, а раз так получилось, должен буду сказать я. На мою долю выпало быть твоим сватом, так, видать, до конца. Дома у тебя не все ладно. Как оно и что, сам увидишь.
– Сам увижу – это ясно. Живы все – дети, Марина?
– Живы…
– Тогда что же? Другой мужик в хате?
– Был. Теперь, кажись, нет. Марина выпроводила его. Выпроводила, как только пришло от тебя письмо.
– Ясно. – Игнат сжал зубы, на скулах заострились, окаменели желваки. – Ясно. А кто он?
– Из партизан. Стоял в твоей хате, был тяжело ранен, долго не мог оклематься. Так и…
– Прижился, – ответил за него Игнат.
– Не прижился, раз выпроводила, – резко вмешалась Ганна.
– И что ж мне теперь делать? – тихо спросил Игнат.
– Что делать? Домой иди, – снова заговорила Ганна. – Домой. У тебя дети, трое их. И они ждут батьку. А сами разберетесь. Разберетесь как-нибудь. Мало ли что бывает на свете, мало что людям видится. Надо самому поглядеть, разобраться.
– Вопщетки, это так. Надо будет разобраться, – спокойно заметил Игнат, так спокойно, что Ганна удивленно уставилась на него: не показалось ли ей это? Игнат глубоко затянулся, выпустил дым, наигранно веселым тоном произнес: – Вот тебе, брат, и «ку-ку-ку». Первая кукушка, первая радость.
– Что за «ку-ку-ку»? – переспросила Ганна.
– Так, – махнул рукой Андрей. – Шли со станции и услыхали кукушку.
– Ну и что?
– Ничего, – сказал теперь уже Игнат. – Я давно не слышал, как они кукуют. И вот услышал… Кукушки всегда кукуют в два выдоха, дуплетом: «ку-ку», а эта с тройным доворотом – «ку-ку-ку». Аж дивно.
– Ну и нехай себе, – не могла взять в толк Ганна.
– Конечно, нехай себе. Просто это моя первая кукушка дома. Да-а… Так что, вопщетки, сегодня мне, наверно, выбираться в дорогу не стоит?
– О какой дороге ты говоришь? Ночь на дворе, – неожиданно рассердился Андрей.
Желая успокоить его, Игнат хлопнул по плечу и задержал на нем руку. Потом встал из-за стола.
На дворе и вправду была уже ночь. Внизу за огородами лежало болотце, текла речка, и оттуда тянуло свежестью.
Вспомнился Игнату последний вечер с Хведором Вержбаловичем: и тот дергач, и звон лошадиных пут, и тревога в душе и на земле. На какое-то мгновение ему показалось, будто ничего с той поры не изменилось и вообще ничего не произошло, что это тянется все тот же вечер. Но это ощущение сразу же сменилось суровой и ясной трезвостью, пониманием неизбежности всего, что было после той ночи. И та неудачная попытка уйти к партизанам, и немцы с Мостовским, и ночное кладбище… И все то, что было и последовало затем – их скитания с Тимохом, потом партизаны, переход через линию фронта, ранение, госпиталь, и снова фронт, и Германия, и вот это возвращение домой, и то, чем встретил его родной дом. И он почувствовал некую вину перед Хведором и Лександрой, словно причиной всему, что случилось и как случилось с ними, был не кто иной, как он, Игнат. Точно он был виною тому, что им скрутили руки и увезли в Клубчу. Увезли, чтобы загубить, загнать в землю.
По стежке, ощущая росяной холодок от ближних загонов картофеля, Игнат спустился вниз к речке. Над ней стоял густой туман. Он затопил всю низину, а выше над ним темнел гребень леса. Остро пахло вянущей травой и еще чем-то очень знакомым. Будто где-то тут, на луговине у речки, приостановилось стадо коров. Их только что подоили женщины и оставили на пастуха, а сами сейчас двинутся в село, повязав ведра сверху от мух и пыли чистой белой холстиной. Надо только подождать немного – и увидишь. И с ними Марину. Косынка надвинута на лоб, повязана на затылке, и под нее спрятаны, подобраны волосы. Идет, чуть покачиваясь на своих маленьких упругих ногах. Ведро в правой руке, левая для равновесия слегка отведена в сторону, она взмахивает ею, и под белой вышитой кофтой в такт взмахам подрагивают груди. Игнат даже застонал от столь живого воспоминания. Воспоминания, которое так часто приходило к нему…
Постоял немного на возвышении у ольхового куста, будто и впрямь надеясь увидеть, как из тумана с оживленным гомоном выйдут спокойные, смягчившиеся женщины. Игната всегда удивляла эта перемена в них. Собирается иная на дойку – ворчит, покрикивает, кипятится, а побудет наедине с коровой, поговорит с ней, подоит – и словно подменят ее: станет добрее, оттает душой. Идет обратно, весело переговаривается с другими бабами, и лицо светится добротой и лаской. Будто корова – сам поп-батюшка: она и выслушает, и успокоит, и разумному научит. С мужиком будет браниться, кричать, кипятиться, а к корове – с теплотой, с добрым словом, с лаской. Знает: накричи на нее – и можешь без молока пойти. Вот так бы и людям друг с другом. Со скотиной научились разговаривать, а меж собой разучились.
Никто из тумана не вышел. Потом вдруг за спиной застонала земля. Задрожала, и, прорезая ночь слепящим клином огня, через станцию прошел тяжелый эшелон – снова туда, на восток. И Игнат позавидовал всем, кто был в этом эшелоне: они знали, куда едут. Впрочем, так ли уж знали?
Игнат вернулся ко двору Андрея, сел на лавочку у ворот. Ехал домой – все было ясно: приходи, засучивай рукава – и за работу. Ведь кругом ее – делай не переделаешь. Мужик воюет – земля плачет.
Все у него было спланировано задолго до того, как пропахал сапогами влажный песок на своей станции. Сложить пристройку к истопке – под мастерскую. А пока не готова пристройка – можно и в хате отвести угол. Он там и был у него когда-то – по правую руку от двери, около окна. И видно, и сподручно – и что надо внести и вынести. А свежая сосновая либо кленовая стружка никогда не вредила здоровью. И вот все твои планы – собаке под хвост. Андрей попусту не стал бы огород городить. Не тот человек. Хорошо еще, что встретились, что хоть предупредил. Другой мог бы и умолчать. Кому охота чужие прорехи перетряхивать. Пришел бы и увидел сам: «День добрый! Вопщетки, это я!» – «А кто такой – ты? Твое место уже занято…»
Сидел Игнат, размышлял, почему все так вышло. Кажись, все было как у людей. Ну, не без перекосов, не без того, чтобы иной раз обозвать крутым словом. Крутое слово – не кривое. На что уж голуби – полюбовные птахи, да и то, случается, грозятся друг на дружку, а это ж люди. Не так взглянул, не так ступил… Не то, не так… Тебе кажется – не то, не так, а по мне – в самый раз. Всякий видит жизнь по-своему, особенно если человеки эти мужик да баба.
Однако потом, коли в голове что-то есть и коль сошлись вместе не просто так, не из чужого бору и не людей смешить, можно столковаться. Легко сказать: горшок о горшок – и вон из родни… Одни черепки посыплются. А дети – не черепки. И опять-таки, может, издали и виднее, что у обоих носы кривые, да ведь и с кривыми носами люди умудряются жить и даже целуются. Это если разум до кучи, а не враздробь.
Он знал: бывает, и даже часто бывает, что мужик с женкой расходятся, но всегда считал: не долго они думали перед тем, как сойтись, а еще меньше – разойтись.







