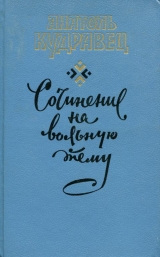
Текст книги "Сочинение на вольную тему"
Автор книги: Анатолий Кудравец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 32 страниц)
– Ты это куда? – Стась повернулся к нему всем телом.
– Туда… – Любомир кивком головы указал на дверь.
– А ну назад! – Это была не угроза, это был приказ.
Любомир сверкнул на него глазами и, как послушный школьник, полез обратно. И потянул за собой карабин.
– Так вот, хлопчик, мы не успели договорить с тобой. Столько вместе, а сказать все не успели, – говорил Стась, старательно выговаривая каждое слово. – А сказать есть что. Ты говоришь, что я держал тебя как заложника. Это верно, мы давно заложники. Ты – мой, я – твой. Мы с тобой – две половинки, две разные половинки одного и того же. Моя жизнь – это кровь, грязь, земля, дерьмо. Такая половина мне досталась. И я не хотел допускать на нее тебя… Ты такой мягкий, такой нежный… Такой грамотный… У тебя такие красивые глаза… Это твоя половина. Я берег ее. Я растил тебя, я охранял тебя… И потому ты не попал ни в одну блокаду, ни на одну ликвидацию, туда, где стреляли и убивали, убивали и вешали. Потому ты и остался чистенький. Чистенький… как дитя, которое обгадилось, но которое подмыли. Только не думай, что я берег тебя просто так, за твои голубые глазки… Или потому, что ты бедненький сирота… На свете все сироты… Я берег тебя для себя… Думал когда-нибудь прийти на твою половину, ведь она и моя, может, больше моя, чем твоя. Прийти погреться, погреться у твоего огня. Дурачина, где искал огонь.
– Перестань! – прошептал Любомир, отодвигаясь в самый угол. Короткий французский карабин лежал у него на ноге дулом в сторону Стася. Любомир с ужасом смотрел на Стася. Тот никогда еще не говорил с ним так.
В это время за стеной ударил пулемет. Он бил откуда-то сверху, по пазам, и прошивал стены насквозь. Несколько пуль вонзилось в трубу, посыпалась глина. Одна пуля зацепила Стася. Тот дернулся, но остался сидеть на месте. Пуля чиркнула по голове над ухом, он зажал рану рукой, простонал – кровь текла между пальцев.
– Достал-таки… Достал… Так вот… Я думал, что есть половинки… Как в хате: грязная и чистая… Захотел – и перешел с грязной на чистую, и сам ты уже чистый… Ан нет… Половинок нет. Все – г..но, и все в одной куче. Несчастный выблядок какого-то панка и горничной. Нежный, добренький, красивый трус…
– Перестань!.. – закричал Любомир, прижимая к себе ложу карабина. Ствол его малость не доставал до груди Стася.
– Ты что это? Ты это что? – прошептал Стась, но страха в его голосе не было. Он попытался даже усмехнуться. – Разве это неправда? Я хотел, чтоб ты знал, чтоб…
Любомир нажал на курок. Стась выпрямился и стал валиться. И валился не в хату, а на печь, на Любомира.
И снова над селом повисла тишина.
Тихо было и около Миколкова подворья. Все ждали стрельбы в ответ на пулеметные очереди, но ее не было. Донесся лишь глухой, словно в бочке, выстрел.
– Из карабина… – то ли сообщил, то ли спросил у лейтенанта сержант.
– Подождем еще минут десять, – проговорил лейтенант. Бессонная ночь серой паутиной легла на его лицо, глаза покраснели.
Лейтенант бросил взгляд в один конец села, в другой. И в том и в другом конце видны были люди. Солнце уже оторвалось от леса и висело теперь в сером небе, обещая погожий день.
– Ну что, попробуем? – сказал лейтенант.
Сержант кивнул головой. Они стояли за углом хаты. Лейтенант махнул рукой солдатам, притаившимся за хлевом.
Сержант осторожно приподнял клямку и, резко толкнув дверь пристройки, вскочил внутрь. Тихо. Только слышно было, как где-то в хате тикали ходики.
– Эй вы, кто еще живой, сдавайся! – крикнул сержант.
Опять – тишина. Прижимаясь к стене, сержант рванул на себя посеченную пулями дверь. Она открылась. Из хаты потянуло смрадным запахом человеческих испражнений и чем-то паленым.
Теперь тиканье часов раздавалось на всю хату, точно она давно была пуста и часы отсчитывали чье-то посмертное время. Казалось, они спешили, все ускоряя свой ход, и чем дальше шли – тем быстрее…
Лейтенант осторожно глянул из-за косяка. Скомканные, поставленные на ребро подушки. Лейтенант набычил голову и шагнул через порог. Одновременно с ним, оттирая его плечом в сторону, шагнул и сержант.
Тихо.
Обогнули печь.
На окровавленных подушках, свесив ноги на лежанку, распластался Стась. Правая рука откинута в сторону. На ней лежал и автомат. Скрюченные смертью короткие пальцы, казалось, и теперь не хотели расставаться с ним. На кожухе камелька исчерна-желтый огарок свечи, пепел. Жгли бумагу… Уголки недогоревших красных тридцаток. Жгли деньги.
– Этот готов! – сказал лейтенант. – Хендэ хох унд зибен-зибен. А где же второй?
Отошли на середину хаты и увидели Любомира. Он хотел спрятаться в подпечье, плечи протиснул, а дальше пролезть не смог. Так и застрял: голова в подпечье, зад в хате.
– Так и будешь сидеть, вояка? Вылезай! – скомандовал лейтенант, пнув ногой в слизанную подошву сапога.
– Не могу… – простонал тот из подпечья. Завертел задом, заелозил сапогами по полу, пытаясь выбраться на волю. – Не могу. У меня рука перебита…
– Помогите ему, – сказал лейтенант.
Солдат присел на колено, ухватился за ноги Любомира и потянул на себя – тот застонал и ни с места. Солдат сжал зубы, рванул что было силы, и тело Любомира медленно подалось в хату. Щурясь от света, тот встал на ноги, правой рукой одернул гимнастерку: она заголилась, пока солдат вытаскивал его из подпечья. Тонкие белые пальцы дрожали. Левая рука висела как плеть, гимнастерка выше локтя засохла коробом от крови. Любомир дрожащей рукой одергивал гимнастерку, губы его растягивались в жалкую улыбку, глаза виновато искали встречи с другими глазами.
– Карабин мой там, за печью… В нем три патрона, проверьте, – произнес он, обращаясь к лейтенанту.
– Какая разница, сколько там патронов?..
– Три… а десять тут, в кармане… Мне их выдали вместе с карабином, в сорок третьем. Пятнадцать. Они были у меня всю войну. И только теперь, в лесу, один раз стреляли из карабина. Стрелял Стась в этого, как его… Да я помешал… А второй раз, сегодня, стрелял я, в самого… – Любомир кивнул на печь.
– Хотел откупиться? – спросил лейтенант.
– Хотел жить…
– А чего под печь полез?
– Со страху…
Сержант напряженным взглядом оглядывал пленного, от его сапог до полотняно-бледного детского лица с тонкими сухими губами и черными усиками, и вдруг взорвался:
– Мать твою… Ну, пусть этот… Туда ему дорога, а ты?! Чего полез? Пятнадцать патронов, пятнадцать патронов… Отца не было штаны спустить?
– У меня никого нет, ни отца, ни матери… Всех война накрыла…
– Рука перевязана?
– Не до этого было…
– Пятнадцать патронов… Дайте бинт…
– И воды… – попросил пленный. Он качнулся и, если б не поддержали, упал бы. Его подвели к лавке, усадили, дали воды. Он жадно, проливая воду на гимнастерку, выпил, откинулся спиной к стене, закрыл глаза. Так и сидел с закрытыми глазами, пока сержант разрезал рукав гимнастерки, забинтовывал.
В хату начали сходиться люди. Вошел Игнат. Посмотрел на мертвого Стася, на недогоревшие деньги, промолвил:
– Вопщетки, вот и все, и имеешь… «Дай тебе боже разум, а мне гроши…» Однако ж и они не понадобились.
XV
Работы наползали одна на другую, и не было мочи успеть за ними, хоть ты день надбавь или ночь укороти. И до войны Игнат Степанович мастерил самопрялки, а война еще более нарушила ход жизни, заставила людей научиться обшивать и одевать себя, и уж тут без самопрялки совсем стало невозможно. Заказов было много, и Игнат Степанович пилил, строгал и точил до поздней ночи. Вставал чуть свет, трубку в зубы и впрягался в работу, врастал ногами в стружку. Глаза боятся, а руки делают, и скоро его самопрялки крутили суровье в каждой липницкой хате, да не только в липницкой…
Думал Игнат Степанович, что отвоевал свое, что его война отошла вместе с перестрелкой в Миколковой хате, однако же нет. Она напоминала о себе по ночам, являлась в судорожной горячке тревожных снов. То снилось, будто его ведут на расстрел, и пускать в расход должен Стась, и вот он стреляет – сзади, под левую лопатку, Игнат Степанович чует жгучую тяжесть пули, что вошла в тело, и валится наземь. Валится и только тогда начинает сознавать, что все это не взаправду, во сне. А то виделась собственная могила – продолговатый затравенелый холмик на тихой поляне, где-то там, в Штыле. И так жаль было самого себя: он лежит в могиле, а наверху все зеленеет, цветет, идет в рост. Несколько дней не мог избавиться от ощущения, что где-то в лесу и вправду есть его могила, хоть сходи да проверь…
Старый хлеб съели, нового еще надо было дождаться, а без хлеба – ни с косой, ни с рубанком.
Наскреб Игнат деньжат, поехал за хлебом в Бобруйск. Попросилась и Поля вместе с ним.
Выстояли день в очередях, пуда по два купили, рассовали по мешкам и котомкам. В вагон втиснуться не смогли – ехали на крыше, держась за вентиляционные трубы. Хорошо, что труб этих было много. По всему поезду лежали такие же, как они, мужики и бабы – с мешками и котомками. Около Игната с Полей – женщина из-под Свислочи. Котомку привязала к трубе, руками вцепилась в углы. Разговаривали, чтоб не задремать и не сорваться вниз, потом притихли. И незаметно уснули: близилось утро.
Задремал было и Игнат, но вдруг словно кто толкнул его под бок. Открыл глаза: над женщиной стоял, нагнувшись, какой-то мужчина. Он взмахнул финкой по рогам котомки, они и остались в руках у женщины. Она ничего не почуяла, спала. Котомка с хлебом перешла к мужчине. Он уже и не смотрел на женщину, следил за Игнатом. Их взгляды встретились, и Игнат увидел, что это детина лет восемнадцати с настороженными, холодными в своей решительности глазами. Обе руки у Игната были заняты: одна с мешком, второй он держался за трубу.
– Положь на место! – проговорил Игнат глухо и подтянул ногу для прыжка.
Вскинула голову и Поля. Детина какое-то время раздумывал, потом кинулся прочь. Бежал, а котомку из рук не выпускал. Игнат бросился за ним:
– Стой, мать твою!..
Их вагон находился в голове поезда, они бежали в хвост, перескакивая через людей, мешки и узлы… Люди со страхом смотрели на двух ненормальных, чесавших по вагонам.
Поезд шел среди поля. Промелькнула небольшая речушка, колеса вагонов глухо прогремели по невидимому мосточку, и тут до Игната долетел отчаянный Полин крик. Обернулся: поезд приближался к мосту через реку, и на него уже наплывали черные стропила.
– Ложись! – крикнул Игнат детине, падая на крышу вагона.
Но тот продолжал бежать. Его силуэт отчетливо виден был в проеме моста, и Игнату подумалось, что, возможно, он так и проскочит.
– Ложись!!! – завопил Игнат, и в это время черная косая поперечина чиркнула парню по голове. Он подскочил, как будто собираясь нырнуть в реку, распластался в воздухе и свалился на крышу вагона. Рассыпались и, как бобы, покатились вниз буханки хлеба из развязанного узла…
Поезд затем долго стоял на следующей станции. Явились милиция, доктор. Убитого сняли с крыши вагона, отнесли в маленькое станционное здание. Ударом у него была снесена верхняя половина черепа. Смерть, как заключил доктор, наступила мгновенно. Какое там может быть не мгновенно: полголовы нет и вместо мозгов студенистая каша. Никаких документов при убитом не нашли, лишь пришитый к подкладке фуфайки чехол от финки. Не для забавы пришивал и, видать по всему, не впервые показывал финку.
Милиционер снимал допрос тут же: что, как, почему?..
Плакала женщина из-под Свислочи, повторяла: «Чем же я детей кормить буду?..» У нее их было трое, и для них собрали буханок пять хлеба. Добавил к ним и Игнат свои две.
Плакала Поля, теребя пальцами уголки платка: такой молоденький хлопец, ему бы жить да жить, но вот сгрузили на какой-то станции – где родня, где дом?
Чуть позже, когда они шли со своей станции домой, Поля рассказывала Игнату: «Вцепилась я в мешки, держу и сама держусь за трубу, гляжу, как ты догоняешь его. И что меня толкнуло взглянуть вперед? А на паровоз наезжает черная рама моста. Глянула назад: вы все бежите, ничего не видите… И тогда я закричала…»
Этот крик и уберег Игната.
А еще через некоторое время, уже на полпути до Липницы, Игнату вдруг стало плохо. Сперва бросило в холод, потом в жар, не хватало дыхания, чужими, ватными сделались ноги, и весь он стал вялый, словно сам не свой. Игнат знал, что это значит. Это была она, контузия, которая так долго не беспокоила его, как бы щадила… Надо было где-нибудь отлежаться…
Метрах в ста от дороги стояла скирда соломы, к ней и свернули. Поля забрала у него мешок. Игнат едва переставлял ноги. Он ожидал, он знал: вот-вот должен начаться приступ…
Поля быстро надергала соломы, устроила постель, уложила Игната. Расстегнула поддевку, рубаху, послушала сердце: оно билось как ошалелое.
– Вопщетки, ты уже думаешь, может, совсем перестало биться? – сделав усилие, промолвил Игнат. Он лежал откинув голову. Попросил, с трудом ворочая языком: – Ты не гляди на меня, отвернись.
На губах у него выступила пена, его начало бить. Потом он долго лежал с закрытыми глазами. Поля растирала ему грудь – кругами, захватывая все шире и шире. Рука ее, поначалу холодная, сухая, разогрелась, стала мягче. Игнату приятно было ощущать эту крепкую теплую руку, и он чувствовал, что ему все легче дышать, потом начало клонить в сон. Он не заметил, как провалился в забытье, а когда разлепил глаза, Поля по-прежнему массажировала ему грудь. Но делала это медленнее и спокойнее, и глаза ее смотрели куда-то далеко-далеко.
– Со мной что-нибудь было? – спросил, с усилием разжимая зубы. Не ворочался язык.
– Ничего… Сперва метался, потом уснул.
– Значит, пронесло… А у тебя пот на губе…
Поля повернулась к нему всем лицом, улыбнулась.
– Вот тут, – Игнат коснулся пальцами ее верхней губы.
– Смелая твоя Марина, – вздохнула. – Не боится отпускать одного…
– Она ничего не знает…
– …с чужими бабами…
– А тут, вопщетки, наверно, так: бойся не бойся, а от своего не убежишь.
Поля ничего не сказала.
Потом была середина лета, самое пекло. Поля попросила Игната помочь наделать сырца-кирпича. Обожженного не нашла на всю печь, хорошо хоть – на трубу привезла, а в хате и сырец будет лежать.
Делали кирпич у заплота, на улице. Глина оказалась отменная густо-красная и залегала неглубоко – меньше чем на метр. Месили тут же, на месте, в раскопанной яме. Нелегкая это работа – глину месить, и они спускались в яму наперемену – то Игнат, то Поля.
Игнат присел перекурить на угол скамейки, на которой лежала форма для кирпича. Поля, высоко подобрав юбку, чтоб не выпачкать, тяжело переминалась с ноги на ногу, едва вытаскивая их из густого красного месива. Глина уже не приставала к ногам, – значит, была вымешена.
– Глянь-ка, Игнат, не готова ли? – спросила Поля, тыльной стороной руки откинув прядь волос со лба, усыпанного потом.
Игнат поднял глаза и… поперхнулся дымом. Он увидел загорелые до бурого цвета, словно точенные из сердцевины старого дуба, крепкие, мускулистые икры и выше – такие же загорелые округлые колени, откуда начиналось беззащитно-белое, волнующее…
– Что ты спрашиваешь у меня? Сама не чуешь? – глухо, с трудом отведя от ямы глаза, проговорил Игнат.
– Я-то чую, но ты ж мужчина. Тебе лучше знать, – переведя дыхание, тихо проговорила Поля.
– Мужчина… Нашла батюшку. Ладно будет, вылазь.
Поля ухватилась руками за край ямы, легко выскочила наверх, встала перед Игнатом.
– А ноги, вопщетки, у тебя справные. Их бы в хромовые сапожки или в лодочки…
– Во мои сапожки, Игнат. На все вдовьи годы сшиты, – с горечью, от которой недалеко было и до слез, проговорила Поля.
А ноги ее в половину икры и в самом деле были словно обтянуты чем-то темно-шоколадным, вроде замши… Поля смотрела на Игната, и его пронизывала насквозь приглушенная внезапным блеском чернота се глаз.
Он почувствовал, как пересохло во рту.
– Вопщетки, тогда я тебе сошью. Увидишь, я это смогу…
– Не надо, Игнат. Не надо… – Поля подошла к ночевкам с водой, поочередно поставила в них одну ногу, другую – и вот «сапожек» как не было.
Игнат наблюдал, как она мыла ноги, и слышал острый стук сердца в груди. Отвел глаза в сторону и… увидел кота: он осторожно и ровненько, точно по коньку хаты, шел по только что выложенным на доску кирпичам. Там, где прошел, на кирпичах остались неглубокие аккуратные следы.
– Апсик! – пугнул кота Игнат, и тот, будто и сам почувствовал, что нашкодил, сиганул в сторону, на траву, с травы – на заплот и дальше, в огород.
Ни Игнат, ни Поля не стали затирать те следы. Кирпичи так и высохли, так и пошли на печь.
И вышло так, что Игнат под вечер возвращался домой с косой – добивал дальнюю полоску, а Поля с Витиком накладывали воз сена на своей делянке. Поля подавала, Витик стоял наверху. Скосили сами – оба умели держать косу, высушили и сгребли, но воз сложить не могут – сено плывет как мыло в мокрых руках.
Игнат раскидал воз, начал сначала. Сам подавал и командовал, куда класть. Поля принимала. Перед тем она отправила сына домой:
– Беги, сынок. Начистите бульбы, поставьте варить. Чтоб была готова, пока мы приедем.
– Ты ж Раисе приказала, она сварит, – заупрямился Витик.
– Помоги ей.
– Сама справится, не маленькая. – Сын не спешил уходить, хотел дождаться, пока увяжут воз и можно будет прокатиться наверху.
– Может, и не маленькая, а ты старший. Беги, – настояла на своем Поля.
– Вечно что-нибудь выдумаешь… – Сын подсмыкнул штаны и нехотя ушел.
Воз получился широкий, приземистый. Увязывали его, когда уже стемнело и туман пополз по низине. Игнат намотал веревку на рубель, захлестнул петлей.
– Может, вожжи подать, сверху видней дорога? – сказал Игнат.
– Что ты, еще перевернусь, – засмеялась Поля.
– Тогда давай помогу слезть.
Она спускалась сзади воза, держась за рубель, и Игнат поймал ее, не дав коснуться земли. Поля и сама не вырывалась, с теплой расслабленностью замерла в его крепких, как обручи, руках. Он нашел ее губы, затем поднял на руки и понес к ближней копне.
– Куда ты? Это ж Анаево сено! – прошептала Поля.
– А может, старый и не возбранит, – ответил Игнат.
– Ой, Игнат… И даюсь, и боюсь, – шептала Поля и крепче прижималась к нему…
На следующий день Игнат сказал, что в хате душно и он пойдет спать на сено. Как раз перед тем вскинул две копны на чердак мастерской. Взял с собой постилку, подушку, кожух. Марина кивнула головой: Игнат любил спать на дворе.
Всякая радость знает свою пору, и если толком поразмыслить, то каждому следовало бы держаться этой поры. Если толком поразмыслить… А вот найдет на человека, накатит, как болезнь, закрутит, точно лист в водовороте, чтоб потом выкинуть его где-либо на спокойном, уже помятый, изжеванный, измочаленный. Что же это такое? И почему человек не желает прислушиваться к голосу рассудка? Хотя что тут рассудок… Да ведь все вокруг стремится помешать этой встрече, не допустить ее. Но как же ей не быть?
Потом, когда минет время, успокоишься сам и перестанут чесать языки люди, а людям что: поживились чем-то веселым либо горьким – и рады, и больше ничего не надо, – потом, когда все отойдет, переболит, можно спокойно поразмыслить. Но опять-таки не при народе, не на виду у всех, а забившись, подобно зверю, в глухой угол, чтобы никто не слышал и не видел. Волк зализывает свои раны в одиночестве.
Все это будет потом… А пока что Игнат каждый вечер шел спать на сено, а затем, когда затихало село, украдкой пробирался к лесу, чтоб оттуда через сотки вернуться к Полиному хлеву. Трижды стукнуть косточками по бревну, услышать в ответ тоже тройной, только более глухой стук изнутри. Значит, она там, она ждет. И ворота приотворены, предательским скрипом не наведут никого на их тайну…
Игнат не считал себя последним человеком, быть может, он только более спокоен, чем некоторые. Даже не спокоен… Человек должен уметь держать себя в руках. Баба может позволить себе слабину, слезу там пустить или крик поднять, а мужчина есть мужчина. Похвали – не запляшет, дай по носу – не заплачет. Отчего воск недолго сохраняет форму? Оттого что очень мягок, чуть пригрело – и пополз. Или взять для примера хотя бы Мельяна Горавского. Рослый, светловолосый, видный мужик, если взглянуть со стороны, а – слабак. Неспроста же прозвали его Мельяном Мягким. Дома – жены боялся, весь век через кочергу скакал, на людях – людей боялся, голоса не осмеливался подать.
Ведь вот еще при панах было… А жил он тогда на взгорке, по правую руку, как идти на Селище. И надо было ему что-то вспахать, кажись, раскорчеванный загон, под жито. Сила у него была, и что следовало вывернуть – он вывернул; соху имел, а тут требовался плуг, и хороший плуг. Такой плуг был у его брата Хведора. Тот хоть и моложе на три года, а хитрый и скупердяй. К нему и пришел Мельян плуга просить. Долго у порога топтался, пока не решился на лавку присесть. Ждет, какое будет решение брата. А тот и говорит: «Оно-то плуг есть, и брат ты мне, и человек добрый, и дать надо бы – а не дам!» Вот так: «А не дам!..» Пожалел, побоялся, чтобы лемех не затупил. С тем и ушел Мельян. Какой же мужчина после этакого стал бы считать того братом? А Мельян ничего. Утерся рукавом и продолжал жить дальше, как будто ничего не произошло.
Это если говорить про мужчин. А если про баб – тем более. Тут без строгости нельзя. Чуть дал слабину – на шею сядут. Пока разберешься, что к чему, глядишь, и поздно: не ты возом правишь, а тобой правят. А то и едут на тебе.
С бабами надо строго. Только строгость держит порядок в жизни. Игнат знал это твердо и жил, считай, весь свой век по этому правилу.
Правда, теперь порядок тот порушила Поля. Игнат это чувствовал, хотя и не хотел признаваться себе. Его словно подменили. Будто в кровь кто-то подмешал чужой крови и новую душу вставил – таким непохожим стал на самого себя.
Никогда Игнат не слышал столько ласковых слов, да и сам не умел сказать их. А тут говорил и верил в то, что говорил и что говорилось ему про него. И лишь одно сжимало сердце, заставляло каменеть всего – это то, что все у них происходит украдкой, точно недоброе что-то, не как у людей. А что тут недоброе и что доброе?.. Об этом надо было думать, об этом нельзя было не думать… Но все сомнения уходили, забывались, когда Поля была рядом, когда он слышал ее дыхание, ощущал острый, полынный запах ее волос…
Оба они знали, что долго так продолжаться не может, что когда-нибудь придет конец всему, однако при встречах ни Поля, ни Игнат, точно сговорившись, не вспоминали об этом. Игнату нравилась деликатность, с которой Поля обходила то, что тревожило обоих. Он делал вид, что и сам не замечает этого. Всегда трезвый, рассудительный, замкнутый в себе, он вдруг словно утратил и волю свою, и разум. И махнул на все рукой: пусть идет так, как идет…








