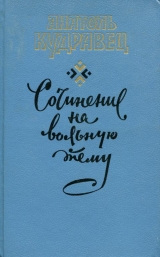
Текст книги "Сочинение на вольную тему"
Автор книги: Анатолий Кудравец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 32 страниц)
Не для меня весна прядет,
Не для меня сад разовьется…
Пел, как будто в хате был он один, только он один. Как будто у печи не топталась мать, а на кровати не сидел Костусь, и на печи не спала Таня.
На пе-е-ечке бедная Татьяна-а-а,
Она лежит не для меня-а-а-а…
Вместе с грустью и страшной тоской в его голосе прорывалось что-то очень щемящее, жалобное… Костусь был зол на Дёмина и не хотел примиряться с ним, а песня размягчала его, примиряла. Костусю было чудно слышать пение всегда хмурого Дёмина. Пел про какую-то «бедную Татьяну», а на печи у них лежала партизанка Таня, и Костусь не понимал, почему Дёмин поет, что она лежит не для него. Костусь смотрел из-за люльки на Дёмина, а сам думал о том, что вчера, после того как Дёмин понес планшетку командиру, Костусь залез в его брезентовую сумку – она висела в углу на гвозде – и выкрал десять винтовочных патронов. Патроны Костусю совсем были не нужны, и украл он их назло Дёмину, за планшетку. И сейчас он смотрел на Дёмина и думал: «Это тебе за планшетку. Налетят немцы, ты начнешь перезаряжать винтовку, полезешь в сумку, а там раз-два – и все патроны. Тогда будешь знать, как отнимать планшетки…»
Дёмин перестал петь, поднял голову:
– Таня, пусти погреться… А, Таня? – Глаза его не стали веселее, но ожили, засветились.
– Что ты прицепился ко мне? Разве это моя печь? Спрашивай у Ивановны…
– Ивановна и слова не скажет. Печь кирпичная, разве ей жаль… И опять же. Буду тихонько под бочком у тебя лежать, а?
– Ты б лучше о жене думал, о детях.
– Разве дети у него на уме? – поддержала Таню Костусева мать.
– Ты, Ивановна, зря это, – Дёмин снова помрачнел. – Жену как жену, а детей я всегда помнил и теперь помню.
– Теперь ты, может, и жену вспоминаешь…
Дёмин ничего не ответил. Опять наклонился над стволом и опять печально затянул:
На печке бедная Татьяна-а-а,
Она лежит не для меня.
Зашел Жибуртович, обежал взглядом хату: Костусь, знал – искал Таню. А она тихонько лежала на печи, и от порога не было видно ее сапог.
– Командир… Непорядок во взводе, – поднял голову Дёмин. – Прикажи ей, чтоб пустила погреться, – Дёмин кивнул на печь.
– А кто там? – как бы удивился Жибуртович, заглянул на печь. Увидел Танины ноги, улыбнулся, лицо его просветлело. – В этом я ей не командир… Тут у нее свой плацдарм…
– Ну вот, слышишь, Таня. Командир сказал, чтоб пустила…
– Я и ему накомандую. – Таня присела на печи, опустила ноги, провела рукой по лицу, улыбнулась Жибуртовичу.
– Что, мало ночи было, не выспалась? – засмеялся Жибуртович.
– Ночи… Какая тут ночь… На рассвете пришла погреться, так Ивановна усадила бульбу чистить. Пока начистили, пока то, се… – Она говорила и смотрела на Жибуртовича, и Костусь видел, что ей приятно было и говорить так, и смотреть… И Жибуртовичу не хотелось отходить от печи. Но он повернулся, подошел к Дёмину.
– Нужно Петрусевичев пулемет посмотреть. Заедает где-то. В диске, наверно. Возьмись.
– Возьмись, возьмись… Хватит мне этой дурищи, – Дёмин стукнул ногой по стволу миномета, встал, повернулся к Костусю. – Ну, а я тебе что говорил, малец? Командир есть командир, пришел, приказал, а я должен слушаться, хотя командир прекрасно знает, что на мне эта дурища, миномет, висит. – Дёмин как бы шутил, шел на примирение с Костусем, брал его в помощники, но Костусь не желал его и слушать.
– Миномет минометом, – недовольно поморщился Жибуртович. – Петрусевич говорит, что пружина барахлит. Принесешь сюда. Здесь в истопке и опробуешь, далеко ходить не надо… Только патроны экономь.
– У меня только и в мыслях, чтоб пострелять. Как у него. – Дёмин кивнул на Костуся. – Только и ищу этой забавы…
– Ну, забава не забава… Знаешь, не на прогулку собрались.
Пока Жибуртович разговаривал с Дёминым, Таня слезла с печи, приткнула зеркальце в уголочек на окне, начала расчесывать волосы. Волосы были густые, гребень не хотел влезать в них, и Таня смешно морщилась, дергала головой, и Жибуртович смотрел на нее, улыбался.
– Где он стоит, знаешь? – обернулся к Дёмину и как бы забыл о Тане, посерьезнел.
– Почему не знаю… За колодцем…
– Ага…
Дёмин вынес во двор миномет, положил на пароконную фуру, на которой стояли ящики с минами. Мать тоже вышла куда-то. В хате остались Костусь с Вовой – он спал, – Жибуртович и Таня. Жибуртович подошел к Тане, обнял ее за плечи. Она повернулась, обняла его за шею, провела рукой по щеке: «Колючий…» – «Ага». Жибуртович погладил ее по волосам.
«У-у-у, надумали обниматься… И он, конь такой, и она», – сердито подумал Костусь и полез на печь.
– Весь отряд пойдет? – спросила Таня.
Жибуртович кивнул головой:
– И не только наш.
– Я тоже пойду…
– Ты останешься с ранеными.
– Я пойду.
– Тебе лучше остаться…
– Не-а, – Таня замотала головой. – Нет.
В хату зашел Дёмин, нашел Костуся на печи.
– Тебе, малец, видимо, нечего делать, а? – спросил, вытирая руки тряпкой.
Костусь молчал. Он твердо решил с Дёминым не разговаривать.
– Вижу, что тебе делать нечего. Пошли со мной, – Дёмин надел поддевку, подпоясался. – Пошли принесем пулемет, поглядим, что там в нем, может, что и подправим.
– Пулемет? – не поверил Костусь.
– Ага… Пошли, пошли. Тебе здесь делать нечего.
Костусь в один миг соскользнул с печи, набросил свитку, поглядел на Таню и Жибуртовича:
– Если Вова проснется и будет плакать, дадите соску. Она в люльке.
– А то как же, – засмеялась Таня. – Иди, иди…
Потом Костусь с Дёминым сидели на полу у разобранного пулемета. Костусь никогда не думал, что пулемет можно так разобрать – и ножки отвинтить, и раструб, и диск… Дёмин снял крышку диска – у Костуся аж сердце зашлось: в диске было полно патронов. Они лежали по кругу, аккуратненькие, клювиками в середину, как цыплята под курицей. Дёмин вышелушил их все, как семечки, оставил лишь один, проверял, как он выскакивает… Постучал молотком по пружине, подпилил краешек напильником, достал из сумки масленку, смазал. Затем снова наполнил диск патронами, проверял, как они выскакивают… Потом опять оставил один. Снова что-то подпиливал напильником. Снова наполнил диск – аккуратненько, один к одному, и они не рассыпались, лежали плотненько, сжатые пружиной. Смазал и затвор, собрал весь пулемет, опустил руки на колени и долго смотрел на Костуся. Смотрел и как будто не видел его. Костусю даже страшно стало: что это он смотрит на него так долго. Может, знает о тех патронах? Ну и надает!.. Но Дёмин начал шевелить губами, словно говорил что-то без слов, и ничего нельзя было услышать… Провел рукой по лицу, сморщился…
– Тебя как зовут, малец? – спросил наконец.
– Костусь. Живешь уже сколько и не знаешь. Как маленький.
– Костусь… – повторил Дёмин. – Говоришь, Костусь? У меня дома где-то такой же оголец растет… Это не близко, аж за Витебском. Ты не знаешь. И второй – постарше… И третий – еще старше… Трое… Так, говоришь, Костусем зовут… Хорошо. – И снова он говорил тихо, как будто сам с собой, говорили одни губы, а слов не было слышно, и Костусю непривычно было это и немного страшно. Однако Дёмин вдруг ловко вскочил на ноги, легко поднял пулемет за ствол, поставил прикладом на пол. – Пошли, проверим.
Зашли в истопку. Сразу запахло сыростью, плесенью, гнилой бульбой… Демин поставил пулемет на чурбак, – он стоял у самого входа – повернул так, чтобы пули шли в землю у дальней стены…
– Закрой дверь, – сказал Костусю. Костусь закрыл. В истопке стало темно, как ночью, не верилось даже, что там, за дверью, день и светит солнце.
– Стой у двери, – приказал Дёмин, а сам пригнулся над чурбаком, упер приклад в плечо, и сразу же из ствола засверкал белый огонь, освещая все в истопке и лицо Дёмина, колючее и злое, и залязгало – ду-ду-ду-ду-ду-ду! – Костусю аж в ушах заложило, и сразу густо и приятно запахло порохом, зазвенели, посыпались на землю гильзы.
– Кажется, нормально, – сказал Дёмин. – Попробуем еще раз…
И снова залязгало в ушах у Костуся, и, казалось, затряслись, заходили ходуном стены истопки.
– Нормально, – повторил Дёмин и толкнул дверь. Она легко открылась.
– А мне можно выстрелить? – попросил Костусь.
– Мал ты еще… И слышал же, что говорил командир. Нет патронов.
– У меня патроны есть, – сорвалось с языка у Костуся.
– Есть? – Дёмин уже хотел выходить, но задержался, внимательно посмотрел на Костуся, и голос его опять стал чужой и глухой. – И много?
– Нет, штук десять… А стрельнуть дашь? Хоть один раз…
– Ладно, неси… Только один раз…
Костусь побежал к крылечку, сунул руку под первую половицу и ощутил приятный, ровный холодок патронов. Выгреб их, принес Дёмину… Тот высыпал их себе в карман, опять поставил пулемет ножками на чурбак, дал приклад Костусю в руки:
– Хорошо упри приклад в плечо и ноги шире расставь, а не то как даст, так во двор вылетишь. Нажимать будешь здесь, на курок. Подожди, я дверь прикрою. – Он хлопнул дверью, и снова в истопке стало темно, темнее, чем было перед этим.
– Ну давай, – нетерпеливо сказал Дёмин. Костусь жал на курок, но выстрела не было.
– Сильнее нажимай, сильнее, – совсем рассердился Дёмин.
Костусь рванул за курок со всей силы, приклад сильно толкнул в плечо, впереди блеснуло пламя, и над ухом страшно ухнуло.
Вышли во двор.
– Откуда у тебя патроны? – спросил Дёмин.
На Костуся он не смотрел, думал о чем-то своем.
– Нашел за хлевом, – соврал Костусь, исподтишка посматривая на Дёмина: поверил ли?
Дёмин молчал, наверно, это ему было безразлично.
* * *
На рассвете, еще в полной темноте, в Буде началось неспокойное движение, то там, то здесь прорывались приглушенные голоса людей, фыркали кони. Из хат во дворы и со дворов в хаты сновали люди, что-то грузили на подводы. Сухо щелкал металл о металл, и звук этот словно таял в густом мраке. Отряд готовился выступать.
По улице проехали две четверки лошадей – потянули орудия. Мокро чмокала тугая грязь под лошадиными копытами, тихо материли лошадей люди, ища в темноте более твердую и не такую грязную дорогу. Орудия отправили раньше, они будут ожидать отряд в лесу…
В Костусевой хате тоже давно не спали. Не спал и Костусь, лежал, подперев руками подбородок: чтоб все видеть. На столе поблескивал «сопливчик», бросая рваные тени на пол и стены. И во всем том, что происходило сегодня, и в самих людях жила напряженная, тревожная деловитость, как будто людям нужно было сделать какую-то очень важную, тяжелую работу, и они знали: чем быстрее и лучше сделают ее, тем будет лучше. Сновал, тяжело ступая, из хаты во двор и со двора в хату Дёмин. Несколько раз заходил Жибуртович. Последний раз он зашел, когда на окнах посветлело и погасили «сопливчик». Таня передала ему фляжку. Он взял ее, подбросил на руке:
– Что это?
– Чай. Чтоб не замерз, если доведется долго лежать на земле.
– Где ты взяла?
– У Ивановны… Только много не пей. Он злой…
– Я перед боем никогда не пью…
Таня провела рукой по щеке:
– Примолодился, как на праздник…
– А как же – в сваты едем… А невеста капризная…
– Будь осторожен, Володя… Я боюсь за тебя…
– Ты всегда боишься…
– Мне не хочется оставаться здесь.
– Дня через три вернемся. Организуйте встречу.
– Здесь мы организуем. Вы там смотрите.
– Все должно быть хорошо… Все будет хорошо…
– Я одна буду мерзнуть. – Таня прижалась к Жибуртовичу. Ее била дрожь.
– Костусь пустит погреться…
– Пустит… – Таня подумала, тряхнула головой. – Он не любит тебя… – Они не видели, что Костусь не спит.
– Не о чем говорить. Ему ведь, наверное, и семи нет. Как он может любить, не любить… И почему?
– Он ревнует… Вчера залезла на печь. Попыталась обнять его – не дается, отворачивается. «Почему ты отворачиваешься?» – спрашиваю. «От тебя пахнет Жибуртовичем». У меня даже дыхание перехватило. «Как ты сказал?» – переспросила. Повторяет. «Усами, – говорит, – Жибуртовича пахнет». Полежали, полежали, потом он и говорит: «И зачем ты его выбрала?» Говорю: «Он добрый…» Долго лежал, думал, а потом и говорит: «Он носит мою планшетку». Помолчал немного и опять: «Но ты не бойся. Я и так тебя буду любить…»
– Я не знал, что Дёмин у него взял… Мне он сказал, что ему младший Карачун дал.
– Привези ему что-нибудь…
– Привезу…
Дверь приоткрылась, и в нее просунул голову Дёмин:
– Командир, все построились…
– Иду. – Дверь закрылась.
– Так поцелуй меня, командир…
– Будешь пахнуть Жибуртовичем…
– Пусть… Костусь все равно обещал любить… – Она оглянулась на печь и теперь увидела, что Костусь смотрит на них. – Правда, Костусь? – спросила у мальчика, но не шутя, как обычно, а совсем серьезно.
– Ыгы, – ответил Костусь.
– Разве что гак… – сказал огромный Жибуртович и, не обращая внимания на Костуся, обнял Таню, зажал в своих руках, спрятал – такой она казалась рядом с ним маленькой и так прижалась к нему, и, казалось, нет той силы, которая разделила б, разорвала их. Они гладили друг другу головы, щеки, плечи, застывали на какой-то миг, словно неживые, потом опять и опять начинали ощупывать друг друга, как будто оба были слепыми и хотели запомнить друг друга навсегда.
Кажется, даже самая длинная минута кончается, и каждое, даже самое затяжное, прощание тоже… Жибуртович вышел на улицу. Взвод стоял на другой стороне улицы, возле забора, на сухом месте. Все партизаны были молчаливые, притихшие, словно невыспавшиеся. Жибуртович прошелся перед строем. Остановился посредине.
– Где Карачуны?
– Мама не отпускает, – попытался пошутить кто-то, но никто из партизан не засмеялся, даже не улыбнулся. Все повернули головы в сторону двора Авгиньи. Оттуда как раз выходили Карачуны – отец и Витька, за ним – рядом со стариком и немножко позади него – мать, а с другой стороны, возле брата, Людмила. Следом шла Авгинья.
– Ты ж смотри, одного его не отпускай, – говорила Карачуниха, не обращая внимания на то, что на нее смотрят все партизаны и что и муж, и сын уже стали в строй и смотрели не столько на нее, сколько на Жибуртовича. – И ты смотри, – она поправила сыну воротник пиджака, поцеловала в щеку и вдруг заплакала, упала ему на грудь.
– Ну хватит, Поля, – глухо сказал старший Карачун и сморщился. – Еще будет время наплакаться…
Подошла тетка Авгинья, взяла Карачуниху за руку:
– Нехорошо поступаешь, Поля, нехорошо. Зачем растравляешь им души. Им и без твоих слез нелегко. Пускай идут здоровыми и живыми возвращаются.
Женщины отошли к воротам. К ним присоединились и Костусева мать, Таня, повыходили женщины из других дворов. Костусь стоял в своем дворе, укрывшись за калиткой. Он долго искал свои лапти, не нашел и выбежал босой, в свитке и большой зимней шапке. Земля была сырая, холодная, и он все время подпрыгивал, переминался с ноги на ногу. Где-то за спиной Костуся взошло солнце. Оно холодно побелило заборы, ветви деревьев, освежило и словно подвеселило лица партизан. Жибуртович еще раз прошел вдоль строя, внимательно присматриваясь к каждому.
– Кажется, все…
– Пошли, – сказал кто-то глухо.
– Говорить ничего не буду. Куда идем, узнаете позже, в дороге. Конечно, не на свадьбу. А теперь шагом марш!
И они пошли, грузно ступая по скользкой, недавно оттаявшей, перемешанной колесами подвод, лошадиными копытами и многими ногами людей земле.
Жибуртович немного отстал от колонны, оглянулся на Костусев двор и увидел Костуся – тот вышел из своего укрытия и перебирал синими закоченевшими ногами, – улыбнулся. От женщин отделилась Таня, побежала за ним, и они шли позади колонны аж до конца улицы и дальше. Партизаны миновали греблю и пошли в гору, но ни Тани, ни Жибуртовича не было видно. Потом Костусь пробежал по гребле один, догнал партизан, оглянулся, помахал рукой…
Бабы начали расходиться по хатам. Мать увидела Костуся и тоже погнала домой.
* * *
На четвертый день после обеда по поселку на взмыленном коне проскакал Мишка из разведвзвода. Этот сумасшедший Мишка на своем коне мог перескочить любую канаву, любой забор. Возле Лисаветы – ее хата стояла в самом конце – Мишка спешился, забежал на минутку во двор, что-то сказал Лисавете, вскочил на коня и так же галопом рванул назад. Скоро цокот копыт послышался по настилу гребли. Мишка и там не сдержал коня.
Кажется, Мишка ни с кем в Буде не говорил, только заехал к Лисавете, а по деревне, как по проводам, побежала долгожданная весть: «Партизаны разнесли немцев в пух. Все хорошо. Отряд возвращается обратно». Однако эта радостная весть жила, тешила людей, пока не столкнулась с другой, тихой и страшной, от Лисаветы: Мишка сказал, чтоб подготовила хату. Туда привезут убитых партизан. Мишка не сказал, сколько убитых и кто они, но они были, и это значит – не все хорошо…
Часа через два по гребле затарахтели подводы. На некоторых из них сидели партизаны, но большинство шло рядом с подводами или по обочине дороги, где было более сухо, а на подводах были сундуки, тюки, поверх которых лежали карабины, автоматы… Возле дворов на улице стояли бабы, ожидали «своих» партизан, своих постояльцев.
Костусь в окно видел, как по улице идут одна за другой подводы, как тяжело тащатся уставшие партизаны. Некоторых он узнавал, некоторых нет. Ему хотелось выбежать на улицу, чтоб все видеть, все слышать, все знать, но мать оставила его с Вовой, а тот не хотел один лежать в люльке, плакал, крутил головой. Костусь качал его – все было хорошо, Вова молчал, начинал трясти люльку – еще лучше: Вова смеялся, раскрывая розовый беззубый ротик, а стоило оставить одного – он начинал реветь.
Костусь увидел Генку, тот ехал на стволе орудия, обняв его руками. Даже Алику партизаны разрешили проехать на подводе, и он сидел на ящике с патронами, как будто и сам был в бою, а теперь возвращается вместе со всеми. Наконец пришла мать, и Костусь кулем выкатился на улицу. Генка стоял возле своего двора.
– А у меня есть автоматные патроны, – похвалился он Костусю.
– Так я тебе и поверил!
– Погляди! – Генка достал из кармана два желтеньких патрончика. – Попрошу, чтоб Мишка дал выстрелить… Думаешь, не даст?
– Мишка-разведчик?
– Ага…
– Даст…
– И я знаю, что даст. А теперь давай сходим к Лисавете.
– Зачем?
– Туда убитых партизан повезли… И Витьку туда повезли.
– И Витьку убили?
– Ага… Их завтра будут всех хоронить. И салют будет. А Карачунихи нет, и Людмилы нет, они пошли менять одежду на бульбу. Вот слез будет, когда вернутся.
По улице все еще шли подводы с сундуками, узлами, мешками.
Было видно, что партизаны взяли большие трофеи. На одной подводе хрюкал ладный, на полтелеги, кабан с чистой белой щетиной и розовыми копытами. Ноги его были спутаны веревкой и привязаны к грядке телеги. От кабана пахло щетиной и еще чем-то очень знакомым, о чем Костусь уже совсем забыл. Ему захотелось потрогать кабана, и он достал рукой его белый бок, провел по щетине. Кабан хрюкнул, словно был доволен.
– Что, сала захотелось? – засмеялся партизан, который сидел в передке телеги. У него было хорошее настроение, и он смеялся, глядя на ребят, на то, что они на кабана смотрят, как на какое-то чудо. – Приходите вечером, хвостик дадим. Вот этот, закрученный в колечко… А?
Мальчики ничего не сказали, обогнали подводу и побежали вперед. Два широкозадых, короткохвостых битюга легко тащили по грязи тяжелое орудие. Таких орудий у партизан не было и таких больших лошадей тоже. Еще впереди два таких же битюга были впряжены в длинную зеленую фуру, высоко нагруженную ящиками со снарядами. Во многих дворах уже стояли подводы, возле них хлопотали партизаны.
Мальчики зашли во двор к Лисавете. Здесь никого не было, в хате тоже никого не было слышно. И хотя ребята не один раз были в этом дворе и в этой хате, но теперь порог переступили осторожно, с какой-то опаской. Как всегда, у тетки Лисаветы все чисто вымыто – и пол, и окна, и стены, – несло свежей прохладой. Мальчики потоптались у порога: тихо. Как будто в хате никто и не живет. Тишина эта смущала ребят…
– Может, их не привезли? – прошептал Костусь.
– Везли. Аж на трех подводах… Я сам был на улице и все видел…
Генка подошел к двери во вторую половину, тихо толкнул. Дверь легко, как будто сама, открылась. Генка переступил невысокий порог. За ним зашел и Костусь. И сразу увидел партизан. Они лежали друг возле друга от окна и аж до середины хаты. Вначале Костусю показалось, что они спят, так мирно и привычно они лежали. Только никакой соломы не было подостлано – все лежали на голом полу. И под головами у них ничего не было. И лежали все лицами вверх. И нигде не было видно ни автоматов, ни винтовок. И гранат не было видно. Словно это не партизаны, а обычные люди. Самым крайним лежал Жибуртович. Он и здесь казался больше всех. Рядом с ним незнакомый пожилой партизан в лаптях и полушубке, Витька – третьим. Лицо белое-белое, а изо рта темный ручеек. Он переводил глаза с одного партизана на другого и не мог поверить, что все они неживые. Теперь Костусь узнал еще одного партизана. Он стоял у Кудиновых – такой же молодой, как Витька, веселый. Любил играть на губной гармошке. Здесь он лежал крайним от окна.
Мальчики хотели уже идти, когда на дворе послышался шум, в хату вбежала Карачуниха, а за ней Людмила. Волосы у Карачунихи были растрепаны, Людмила была белая как полотно.
– Где он, мой сыночек? – тихо, шепотом спросила Карачуниха. Казалось, она ничего не видела, блуждала широко раскрытыми глазами по лицам мальчиков, спрашивала у них. Вдруг она опустила глаза вниз – увидела тех, на полу, и как будто переломилась, грохнулась на колени и так, на коленях, мелко перебирая, поползла от порога. Доползла к Витьке, приподняла голову.
– Сынок, что с тобой? Где болит? – положила голову на место, ощупала все тело – руки, грудь, ноги… – Сынок, что болит? Скажи мне… – Снова приподняла голову, провела рукой по лицу сына, сдвинула волосы со лба, слипшиеся, заскорузлые, и теперь увидела на виске маленькую ранку, которая была прикрыта волосами. – Здесь, здесь болит? Головка болит? – и припала к сыну, заголосила, словно захохотала, сухим, надрывным хохотом. Упала на колени перед братом и Людмила, затряслась в беззвучном плаче. А Карачуниха вдруг выпрямилась, внимательно посмотрела на спокойные лица других партизан, словно впервые увидела их, начала переползать от одного к другому, проводила рукой по лицам, поправляла волосы:
– Да как же это так, сыночки? Да за что же это вас? Таких молодых! Таких красивых! – И снова сорвалась, затрясла головой, заголосила.
Костусь не заметил, когда в хату вошла Таня. Увидел только, как она стала возле Жибуртовича, потом присела на колени, подняла его голову. Осторожно погладила рукой по одной щеке, потом по другой. Как будто живого. И застонала, замотала головой:
– Володя, Володенька-а-а!
Что-то неправдоподобное и страшное было и в том, как Карачуниха переползала от одного партизана к другому, брала их головы, и в тихом Людмилином плаче, и в Танином «Володенька-а-а!». Костусь не выдержал, выскочил во двор. Ему было одинаково жаль и Карачуниху, и Людмилу, и Таню… Он увидел, что Карачуниха никакая не крепкая. Она такая же, как и все бабы… И Людмила. И Таня. Почему-то вспомнилось, как голосила, рвала на себе волосы и ломала руки тетка Авгинья, когда пришла похоронная на Генкиного отца. Тетка Авгинья шла по деревне из конца в конец с растрепанными волосами, пустыми глазами, вскрикивала и то хваталась руками за перепуганного Генку, который трусил рядом с ней, уцепившись за юбку, то совсем забывала о нем…
Вышел из хаты и Генка и сразу потянул Костуся за руку:
– Пошли еще немца поглядим.
– Какого немца?
– Убитого. Его привезли вместе с партизанами. Он был переодет, и партизаны подумали, что это свой. Он лежит за Игнатовым гумном.
Они пошли.
– Это что… Это просто убитые. Они как живые, – говорил, словно хвастая, Генка, пока они шли по улице. – А вон Юзика Марилькиного, так того немцы всего порезали.
– Как порезали?
– А ты разве не видел? Я так бегал глядеть. Его всего искололи кинжалами, и звезды на спине вырезали – как на шапке, только большие. Я был, когда его привезли, и как мыли, и как хоронили – все видел. И мне было страшно.
Сразу за Игнатовым гумном стояло прясло для сушки снопов. Дальше была канава, а за ней шли кусты лозняка. Между кустами и дальше – всюду серая рыжеватая трава. Ступишь – вода показывается.
– Вон он, возле канавы, – Генка показал глазами на кусты. Костусь глянул в ту сторону… У канавы лежала охапка черной соломы и на ней что-то зеленое, все равно как кто снял и бросил немецкую одежду.
Мальчики приблизились к соломе. Там лежал немец. Одна нога в толстом белом носке, вторая – босая, совсем синяя. На нем были зеленые штаны и темная поддевка. На поддевке, у поясницы, было большое ржавое пятно. Видимо, ему попало в живот.
– Видишь, поддевку надел, хотел, чтоб подумали, будто он партизан, – рассуждал Генка. – Но партизаны знают, кто свой, а кто чужой.
– Ага. А ты его не боишься? – Костусь показал головой на немца.
– Не-а.
– И я не боюсь. Но я не хочу… больше здесь быть. Холодно.
И Костусь и Генка были босые, ноги у них покраснели, словно их облили свекольным соком.
– А мне ни капли не холодно. Но и я не хочу здесь быть. Пошли.
– Он, наверно, стрелял в партизан?
– А неужто не стрелял. Все немцы стреляют.
– И хорошо, что его убили. Больше стрелять не будет.
– Теперь пускай стреляет. Мишка, что патроны мне дал, говорил, что их там как дров наложили. А партизан всего шесть убили.
– Зато партизаны наши… И их жаль.
Генка ничего не сказал.
* * *
Дёмин зашел в хату, пошарил глазами по углам, никого не нашел и повернулся, чтоб уйти, но не ушел – сделал два шага назад, заглянул на печь. Там, отогревая синие от холода ноги, сидел Костусь.
– На, малец, возьми свой плановик, – Дёмин протянул на печь руку с планшеткой.
У Костуся глаза аж закричали от радости. Он скатился с печи, схватил планшетку. Это была его планшетка. Перекинул ремешок через плечо, но он был отпущен низко, и планшетка доставала до самого пола.
– Дай я помогу тебе, – Дёмин взял планшетку, примерил, подтянул ремешок, перекинул Костусю через голову. – Ну вот, сейчас в самый раз…
Костусь посмотрел на планшетку, потом поднял глаза на Дёмина. Тот стоял посреди хаты, пустым взглядом глядя на Костуся.
– А ты больше не отнимешь ее?
– Не отниму…
– Ой как хорошо! – но тут Костусь вспомнил Жибуртовича. – А как же?..
Дёмин понял его.
– Ему больше она не нужна… Ему больше ничего не нужно. А тебе она как раз. – Он постукал ногтем по планшетке. – Пойдешь в школу, будет в чем тетради носить… Слушай, малец, пошли со мной… Я тебе и бумаги дам. У меня есть блокноты. А то планшетка есть, а в ней пусто…
– Хорошо…
Они вышли из хаты. Возле истопки, на кострике, как и в тот день, когда Дёмин отнял у Костуся планшетку, была разостлана плащ-палатка. На ней лежала брезентовая сумка. Дёмин достал из нее два блокнота и протянул Костусю. Из одного блокнота вывалился небольшой треугольник письма. Адрес на нем был написан химическим карандашом. Дёмин схватил письмо, торопясь, сунул в сумку. Костусь успел увидеть, что в сумке было еще несколько таких писем.
– Это ты домой пишешь?
– Домой…
– Своим детям?
– И детям.
– А почему не отсылаешь?
– Как же я пошлю, если они по ту сторону, за фронтом. Будет самолет оттуда, передам, может, дойдут…
– Почему же не дойдут? Конечно, дойдут, – заверил Дёмина Костусь. Дёмин грустно улыбнулся.
* * *
– Мама, а когда мне можно будет жениться?
– Жениться? Когда вырастешь, тогда и можно будет. Что это тебе засвербело?
– А когда вырасту, мне можно будет взять в жены Таню?
– Какую Таню?
– Ну, какая ты недогадливая. Нашу… Партизанку.
– А-а-а, вон оно что…
– Ты, мама, не бойся. Я буду ее любить…
– Хорошо, сынок…
– И тебя буду любить.
– Хорошо, сынок… Хорошо. А сейчас спи. Тебе еще надо долго расти.
– Я буду хорошо спать и вырасту большой. Как Жибуртович. И буду бить немцев…
– Ага, сынок… Спи…
Он уснул. Ему снилась война.
1971







