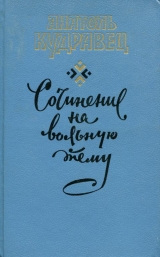
Текст книги "Сочинение на вольную тему"
Автор книги: Анатолий Кудравец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
Иван знает, что бог – это старый и строгий дядька с аккуратной бородкой и острым пальцем, которым он всегда грозит людям, как у них на иконе. «Бог, бог! – сердится отец. – Не слушай ее. Шура умер, а мертвые не встают и не ходят».
«Как это так – не вставать и не ходить? Это ж очень тяжело – лежать и лежать», – думает Иван.
Отец и мать расстилают возле Шуриного гроба скатерть, ставят водку, еду и начинают обедать. Ест вместе с ними и Шура. Там, на кладбище, и Иванов дед, и Иванова бабка Ульяна. Бабку Иван знает, а деда – нет, и дядьку Герасима тоже не знает. И все садятся вокруг скатерти и едят и пьют вместе со всеми. Иван знает, что и бабе Ульяне, и деду, и дядьке Герасиму тоже нельзя идти со своими с кладбища, но ему совсем не жаль, что они останутся на кладбище, когда и отец, и мать, и Реня, и Лида пойдут… Ему жаль Шуру, потому что ему очень скучно будет оставаться на кладбище аж до следующего года, когда снова придет радуница и все – и мама, и отец, и Реня, и Лида, а может, и он, Иван, – придут к нему. Сердце его сжимается от жалости, и к глазам подступают слезы…
…Иван смотрит, как мать кладет в сумку привезенную им из Минска «Столичную», хлеб, соль, яйца, вареное мясо, масло, вилки, нож, видит ее лицо, светлое и чистое, и ему хорошо.
– Надо идти, – говорит она наконец, завязывая платок.
– Ага. Уже многие пошли.
– Когда-когда, а на радуницу многие съезжаются. У каждого кто-нибудь да лежит тут. Оградки покрасили, памятники поставили. Коля Владев так мраморный черный поставил. Говорят, шестьсот рублей стоил…
– Деньги есть, почему же не поставить…
– Денег у него хватает… И сюда не пожалел. Чтоб люди ничего не говорили. Сам же отбил батьке нутро. Если б не отбил, может, и памятник не нужен был бы… И не признавался никому старик, что сынок его побил… Только перед смертью их Авгини пожаловался: «Авгинька, – говорит, – он же танцевал на мне. И за что? Что все волок домой… Ему ж волок». И правда. Уже на пенсии был, и пенсия хорошая, а все равно каждый денек шел на работу…
– И чего они не поделили? Такой дом, сад, пчелы…
– Чего не поделили? Владик мешал сыну… Коля хотел продать хозяйство и переехать в город – он ведь шофер, нашел там работу, а старик ни в какую…
V
Умом Иван противился этому обычаю, что к тем, кого уже нет и никогда не будет, идут шумной большой толпой. Он считал, что на кладбище надо приходить одному, чтоб никто не мешал мыслям. Человек остается сам с собою только тогда, когда один. И вместе с тем он любил радуницу, эти коллективные поминки. Это было как праздник. Люди становились добрее, мягче, с пониманием и сочувствием смотрели друг на друга.
Кладбище находилось недалеко от села. Это небольшая грива из старых высоких берез, пересыпанная подлеском ельника. Еще не так давно эта грива соединялась с лесом, правильнее – была отрогом мрачного сырого ельника. Ельник пустили под топор, выкорчевали, и теперь только этот зеленый островок да огромные земляные валы, поросшие кустарником, в которых допревало то, что осталось от леса, напоминали о недавнем прошлом этого куска земли.
Раньше, когда кладбище было частью леса, казалось, что это и не кладбище, а просто кусок леса со случайными могилами. Теперь же оно смотрелось еще более непривычно – одиноко торчало среди голого поля, словно выставлялось, назойливо напоминая людям о том, что никому из них ни обойти его, ни на коне не объехать: все будут тут. А может, оно и не «выставлялось», а все это только казалось Ивану. Видимо, только ему, потому что мать шла спокойная, сосредоточенная, с мягким, подобревшим лицом, замечая все, что делалось вокруг.
По дороге к кладбищу – и по лугу, через канаву, и по селу, вкруговую, – шли люди по двое, по трое. Возле самого кладбища виднелась целая группа – человек шесть. Двое несли в руках кошелки, остальные шли с пустыми руками. Ивану подумалось: точно так ходят на крестины – со скатертями, в которые завязаны миски, тарелки… Иван понимал, что нельзя так сравнивать: там рождение нового человека, восславление его, радость, а здесь – печаль, жалость и слезы о тех, кого уже никогда не будет, и все же что-то общее было в этих двух явлениях.
– Это Петрусевы, – подсказала мать, и Иван начал вглядываться в далекие фигуры, пытаясь узнать кого. Так никого и не узнал.
В конце улицы встретил Вавилу. Он спешил домой, но был теперь выбрит, со свекольной розовостью на щеках.
– Уже идете? – не то спросил, не то просто так сказал. – А я все бегаю. Но мы свое догоним, Левонович. – Он улыбнулся Ивану, тряхнул головой. – Дай закурить городских.
Иван достал пачку, закурили.
– Мать твою… будто мне больше всех надо, – беззлобно матюкнулся Вавила.
Постояли. Вавила улыбнулся.
– Только что председателя встретил. «Что, – говорит, – на кладбище спешишь? Боишься, чтоб без тебя всю водку не выпили?» – «Что ты, – говорю, – Гаврилыч. Выпить я могу и дома в любое время. А это святое место. Там отец лежит и мать. И нам там лежать…» – «Напьешься, – говорит. – Хи-и-трый как змей». – «Брось, – говорю, – Гаврилыч… Выпью какой стакан – и все. Или ты меня не знаешь?» – «Я тебя, – говорит, – знаю. Ишь, брось! Завали мне посевную – увидишь, как брошу…» Толковый мужик, только этого не любит, – Вавила почесал шею. – Если выпил хотя бы сто грамм, в контору не показывайся. Выгонит.
Вавила покрутил головой, засмеялся и пошел домой, ступая широко и грузно.
– А и правда, нелегко ему, – посочувствовала мать Вавиле. – Бегает по хатам как собака, пока насобирает баб. В будние дни так ничего, сами идут, а в такие вот – беда.
Шли по селу – было затишно, спокойно, а завернули за крайний двор – сразу налетел ветер, туго хлестнул по лицам, аж в носу защипало и набежали на глаза слезы.
Когда-то дорога на кладбище шла через поле, сворачивая у креста. Была она ровная, поросшая травой, с неглубокой колеей от колес. А теперь сколько лет тракторы запахивают дорогу, и каждый раз люди протаптывают ее наново, и начинается она, как и когда-то, от креста, теперь уже струхлевшего, покосившегося набок. Поле было засеяно житом. Оно хорошо бралось кудрявым, будто вывернутый полушубок, серо-зеленым поярком.
Все шли напрямик, оставляя следы на мягкой, податливой земле. Пошли за людьми и Иван с матерью. Не один раз Иван ходил по этой дороге, но сегодня ему показалось, что она стала короче. В его памяти она оставалась такой, какой была тогда, когда по ней везли хоронить отца. Иван тогда сидел на подводе у изголовья отца и со страхом смотрел, как на колдобинах и неровностях отцова голова вздрагивала и сухие, гладко причесанные волосы его рассыпались. Иван всегда знал, что волосы у отцы жесткие, как конский волос, а теперь, поправляя их, приглаживая, он видел, что они совсем не жесткие, а мягонькие-мягонькие, словно льняные. Он никак не мог, не хотел поверить, что отец мертв. Вспоминал, как бежал от пруда домой и догнал тетку Ольгу. Она плакала и сказала, что на лесопилке бревном убило отца. Иван сразу бросился на лесопилку. И перед ним кто-то бежал, и следом за ним бежали. Иван догадывался, что произошло что-то страшное, но не мог поверить в это страшное, не мог поверить в то, что «убило» отца. Его не убило! Может, немного стукнуло, а люди подумали, что убило, и пустили панику. Как это «убило», когда они вчера вместе ловили рыбу?
Возле лесопилки толпилось много людей. Ими были забиты проходы между кочегаркой и столом, между вагонеткой и горой опилок, но люди незаметно расступились, давая Ивану дорогу. Он прошел возле стола и увидел мать и Реню. Они сидели, сгорбившись, на длинном бревне, прижимая уголки платков к губам. «А где ж отец?» Иван подошел ближе к матери и тогда увидел его. Он лежал, пугающе неподвижный, лицом вверх, развернув носки ног. На одном ботинке был оторван каблук, и на этом месте скалили зубы блестящие медные гвоздики. Эти гвоздики больше всего поразили Ивана. Он почувствовал, как внутри что-то заныло, судорожно и мелко. Он присел возле матери. Кто-то, кажется Павел, рассказывал:
– Что вы хотите… Пилили в одну пилу… А пара он нагнал дай бог… Пилы разгулялись как бешеные. Еще если б стоял предохранительный нож, может, ничего и не было б. Нож бы не пустил брусок. А тут брусок как ткнулся в пилу, его подхватило – я как раз смотрел в окно, – и прямо в грудь… Левон стоял напротив, ожидал. Его бросило назад, затылком на маховик, а уже оттуда – сюда. Я за рычаг, остановил машину, выскочил. Тут Федор, Микола. Схватили его на руки, трясем: «Левон! Левон!» Ни слова. Принесли воды, начали лить в рот. Я взялся за грудь, послушать сердце, бьется ли… Какое там бьется – там ни одной косточки целой. Все раздроблено. Что вы – такая сила…
Пуговицы на груди у отца были расстегнуты. Иван дотронулся рукой до тела – оно было холодное. Под рукой что-то легко и сухо зашелестело. Как дресва. Звук этот был такой неожиданный, что Иван нажал рукой еще раз и снова услышал сухое шуршание. Он однажды слышал такое шуршание – когда встретил весной в лесу змею и она спряталась в сухих прошлогодних листьях… Но и теперь Ивану не верилось, что отец мертв. Казалось, он сейчас поднимется, засмеется, что-нибудь скажет.
Мать взяла Ивана за руку.
– Не надо, сынок, не трогай его. – И тихо добавила: – Беги домой. Скажи Лиде, Алеше, Валику. Они ведь ничего не знают. Ох-ха-ха! – Мать ухватилась за голову и запричитала во весь голос: – А куда ж ты от нас уш-е-ел? А на кого ж ты деток своих остави-ил!
Иван поднялся. Люди снова расступились, пропуская его. Была тут уже и тетка Ольга. И беспричинно жестокими показались Ивану ее, сказанные нарочно громко, слова: «Уже не за кого ругаться, Лёкса, уже не скажешь, что Ольга переманивает его. Переманили другие…»
И сейчас, идя по полю вслед за людьми, там, где когда-то была дорога, ступая где в готовые следы, а где в мягкую, податливую землю, Иван снова подумал, как близко от села находится кладбище и какой далекой казалась дорога к нему тогда… Эта мысль не то чтобы озадачила его, а неприятно удивила, оставив в душе намек, вопрос, над которым следует думать. И еще он вспомнил, какой глубокой и страшной показалась тогда могила, в которую опускали гроб с отцом. Могилу вырыли у березы, в сухом песке, и он ручейками стекал на дно, а по бокам землю кровавили соком перерубленные лопатами березовые корни. Тогда Иван впервые увидел и понял, что никаких склепов, в которых лежат «живые» покойники, на кладбище нет. Людей просто закапывают в землю! И никогда они уже не встанут!
…На кладбище было тихо и сыровато. Пахло прошлогодними листьями и свежей землей: вчера и сегодня убирали могилы, обкладывали дерном, посыпали свежим песком, и он не успел еще высохнуть. За стволами деревьев, возле оград виднелись люди. Одни стояли группами по нескольку человек, тихо и деловито о чем-то разговаривали, другие ходили, останавливаясь возле могил. Ни на одном лице Иван не видел скорби или горя. Словно все собрались на работу – серьезную, грустную, торжественную, но обычную, нужную работу. И видимо, из-за этой серьезности и торжественности разговаривали вполголоса.
Мать шла впереди, Иван – за ней, осторожно выбирая место, чтоб не наступить на невысокие желто-серые бугорки с вросшими в землю плоскими камнями-памятниками – то, что осталось от чьих-то давних могил. Мать всем желала «динь добры», Иван с кем здоровался кивком головы, с кем – за руку. Тогда и мать приостанавливалась, слушала этот недолгий и известный ей разговор: «Где ты, как ты, что ты…»
Встретили вчерашних Ивановых попутчиков – Игоря и Леню. Перед тем как идти на кладбище, ребята малость «клюнули» и были в веселом настроении.
– Приходи, старик, вечером в клуб. Потанцуем, – пригласил Ивана Леня. Были у него низкие, но красивые черные баки и легкая, какая-то воздушная и вместе с тем нахальная задумчивость в глазах. На кладбище он ухитрился пройти, видимо, ни разу не ступив в грязь, потому что ботинки его блестели, словно он только что их начистил.
«Не всякая девчина устоит перед таким кавалером», – с восхищением подумал Иван и сказал:
– Посмотрим, возможно, и приду.
Иван вспомнил вчерашнюю дорогу со станции, Ленино хвастовство, его намеки о Вере и снова почувствовал неприятный холодок в сердце…
– Приходи, – серьезно и тихо сказал Игорь.
Ивану почему-то подумалось, что с этим немногословным и спокойным парнем будет тепло и легко жить жене, и кивнул головой.
Вот и отцова могила за просторной черной оградой. Широкая, как стол, обросшая по бокам. В головах серый, закругленный кверху камень, на нем знакомые слова, которые начал уже кое-где обсыпать зеленоватыми крапинками мох.
Ой, леса, вы не шумите,
Моего мужа не будите,
Он спит вечным сном
Во веки веков.
Это были слова матери. Она захотела, чтоб их высекли на камне.
«…Он спит вечным сном…» Иван остановился возле ограды, взялся за острые пики железных прутьев. Мать приходила сюда вчера. Посыпала свежим песком могилы. И Шурину, и дедову – они немного дальше, за оградой. На дедовой – обомшелый дубовый крест, он стоит уже больше пятидесяти лет. На Шуриной, за крестом, – елка, некрасивая, с шишковатым комлем.
В этом углу кладбища лежали все Купцы. Деды и прадеды, дядьки и тетки, отцы и дети… И мать распорядилась, чтоб ограду сделали побольше – чтоб было место и для могилы ей, Лёксе.
К ограде подошел дядька Никита – единственный живой из четырех братьев отца. На кладбище дядька Никита пришел один – жене что-то нездоровилось. Дядька имел представительный вид – чисто побритый, в новом военном френче и хромовых сапогах. Обычно жена боялась отпускать его далеко от себя – знала чрезмерную любовь дядьки к чарке, а он злился, ощущая на себе этот беспокойный контроль. Сегодня же он чувствовал себя свободно, подчеркнуто солидно.
Позже подошли Надя, Иванова двоюродная сестра – отец ее, самый старший из Купцов, умер в войну, – и тетка Грипина с мужем, Лешкой или просто Лёхой – веселым и покладистым зубоскалом. Лёха был ее вторым мужем. Первого, Мишу, убили немцы, когда он, дядька Никита и еще несколько будневцев убегали из концлагеря под Могилевом. И хотя с Лёхой тетка Грипина сошлась где-то сразу после войны, старой родни она не чуралась. У Лёхи была привычка ко всем, кто даже моложе, обращаться на «вы». Поначалу Ивану было не по себе слышать «вы» от человека, который вдвое старше, а потом привык, да с Лёхой и ничего нельзя было поделать…
– Ну, киндюк еще не успел откормить? – подкатилась Надя, кивая на Иванов живот.
– Не успел.
– Спеши, а то и состаришься без живота. Я иной раз гляжу и диву даюсь, откуда что у людей берется! Ему еще и тридцати нет, а уже розовенький, сытенький, как тот поросеночек, и будто спереди подушечка привязана. Как такого жена любит?
– Словно жены за живот любят? – ответил за Ивана Лёха.
– Не смейся. Сам вон тоже пухнуть начинаешь…
– Жена хорошо кормит… И скажу по секрету, она говорит, что с мягкими удобнее спать. Правда, Грипа?
– Отстань, нашел о чем болтать.
– Один приехал? – это снова Надя, и глаза лукаво блестят, смеются.
– А с кем еще?
– Думала, может, жениха мне привез.
– Не имел заявки, а то мог бы и привезти…
– Правда?
Язык Надя имела острый, и его побаивались даже мужчины: в разговоре для нее не было ничего запретного. Лет ей было под тридцать пять, жила вместе со старой матерью. Несколько раз уже собиралась замуж, но каждый раз в самый последний момент женихи били в хомут. Люди объясняли это просто: одна нога у Нади была короче другой – и этот физический недостаток, спервоначалу даже и малозаметный, отпугивал мужчин.
Если раньше и о себе, и о неустроенности своей судьбы Надя говорила легко и весело, а может, хотела показать, что ей весело, то сегодня в ее голосе Иван уловил тревожную натяжку.
– Мне б какого-нибудь завалящего, Иван.
– Чтоб хотя дров нарубил, а?
– Дрова я привыкла сама рубить, но пускай бы и нарубил. И чтоб зимой печку протопил, и чтоб, придя с фермы, было возле кого погреться. А то прибежишь от коров – и в холодную постель, как в могилу – бр-р-р, страшно. Так найдешь? – она смотрела на Ивана и смеялась.
– Найдем. Это чтоб в наш век да не найти всего-навсего одного хлопца?
– И я так думаю. Люди вон на Луну летают… как ее, на Венеру собираются, а тут бабе одного мужика. Не обязательно хлопца. Скажи, пусть не боится, я его любить буду.
Иван подумал о том, что Наде, наверное, совсем не смешно. Нет, не смешно, если так упрямо говорит об одном и том же. Вспомнил, как вчера отпрашивался у Василия Васильевича и как тот вначале сморщился, но все же отпустил: «Поезжай, только не забывай, что в тот понедельник с бригадой должен быть в Гродно»; как ехал домой, переполненный разными чувствами, и главным над всем была радость. Радость от ощущения своего здоровья и силы, оттого, что он скоро будет дома и увидит мать, и она будет рада ему, а сейчас он почувствовал, что той радости ему уже мало. Ему стало чего-то недоставать.
– Где садиться будем? – спросил Лёха у Ивановой матери. Она тут была старшей. Как она скажет, так и будет.
И она сказала то, что говорила не один год:
– На Левоновой могиле. Только рано еще, никто не начинает.
И правда, все словно чего-то ждали – сновали туда-сюда, переспрашивали, где кто лежит – под седыми, темными крестами, под вросшими в землю камнями. Иван сказал матери, что скоро вернется, и они с Лёхой пошли. Продирались сквозь кусты и молодой ельник, читали надписи, и Иван удивлялся: многие, кого он знал живыми, лежат уже здесь. Про многих он уже и забыл и только теперь, увидев могилу, вспоминал, что они были, припоминал их лица, походку, разговор, и ни печали, ни жалости не чувствовал, будто все они были живые, здоровые, какими он их когда-то знал, и будто каждого из них можно сейчас встретить, и ничего неожиданного и странного в этом не будет.
Отходя с Лёхой от своих, Иван имел намерение посмотреть, приехала ли Вера, и потому делал полукруг так, чтоб выйти к Петровой могиле. Вскоре он увидел деревянную, покрашенную в синий цвет ограду и возле нее Клавдию и Веру. Да, с Клавдией была Вера. Иван узнал ее, хотя она и стояла к ним боком.
Первая увидела Ивана Клавдия, сказала Вере. Та обернулась, ожидая, когда Иван подойдет. Она и изменилась и как будто совсем не изменилась. Выросла, пополнела, а лицо, глаза те же. Улыбнулась одними губами – обозначились, стрелками брызнули морщинки от уголков рта, протянула руку.
«Изменилась», – мелькнуло в голове Ивана. Сердце его билось неспокойно. Светло-каштановые волосы. Две прядки отделились, перечеркнули край лба.
«Изменилась и похорошела. Обрадовалась…» Для него она была та же Вера, которая смотрела на него снизу вверх, когда он забежал к ним, уходя в армию. Для него. А она нахмурилась, глаза потемнели – будто ее уже не было здесь, будто она где-то далеко-далеко, в своем, неизвестном Ивану мире.
Они с Клавдией ожидали Митю. Отправил их вперед, сказал, что скоро будет, они давно уже здесь, а его все нет. Клавдия с Лёхой заговорили о чем-то меж собой, незаметно отошли.
– Где ты сейчас, в Минске? – спросила Вера из своего далека.
– В Минске.
– Надолго приехал?
– Завтра еду… А ты?
– Не знаю… – Она повторила тише, уже для себя: – Не знаю…
– В Солигорске? – механически спросил Иван.
– В Солигорске… – Голос постный, бесстрастный.
– Поехали завтра вместе… через Минск… – Иван сказал это твердо, даже грубовато.
– Не знаю… – подняла глаза, как будто только теперь спустилась на землю и увидела его. – Что-то Мити долго нет.
Все равно как когда-то: «Какое расстояние от города А до города Б?» – «Не знаю».
– Что-нибудь другое, кроме «не знаю», умеешь?
– Умею…
– Я буду ждать тебя вечером в клубе…
– В клубе? – переспросила она. – Хорошо, я приду, – тряхнула головой и открыто, радостно, как избавление: – А вон и Митя… Рот до ушей. Рад, что тебя увидел…
– Он такой, как и был…
– Все такие. Человек рождается один раз.
– Рождается один раз, а переродиться может десять раз.
– Не верю. Человек рождается один раз.
С Митей поздоровались, словно не виделись всего день или два.
– Я-то уже думал, что у тебя зуб новый вырос. Вставил бы, что ли, ходишь щербатый, – подколол он Ивана, намекая на тот давний вечер.
– Некуда торопиться. Ожидаю, когда у тебя шрам с носа сойдет.
– Тогда приходи вечером. В дурака, а? – загорелся Митя.
– Надумал в дурака, – перебила его Клавдия. Они с Лёхой пошли вслед за Митей, – А в Долгий Лог кто поедет?
– Завтра поедем, – махнул Митя рукой.
– Завтра можешь не ехать. Завтра ты тетке уже не нужен будешь. Дорога ложка к обеду. Ей надо бульбу посадить.
– Ладно, не плачь, – сморщился Митя. – Тетка так тетка… Значит, Левонович, перенесем на другой раз…
– Перенесем… – ответил Иван. – И ты едешь? – спросил у Веры.
Она молчала, смотрела на Клавдию.
– Чего она поедет? – пожала плечами Клавдия. – Или там работниц не будет?..
– Да и дома кому-то остаться надо: и хата тут, и корова, – вставил свое слово Лёха.
– И собака, – добавил Митя.
– Хорошо, хорошо, – усмехнулась Вера. – Будут целы и хата, и корова, и собака.
Ивану показалось, что говорила она это не без радости. Все на мгновение притихли, и в это время отчаянный женский голос зазвенел на кладбище, ножом полоснул по сердцам:
– А боже ж, мой бо-о-о-же! А что же ты надела-ал! А куда ж ты его забра-а-а-ал? А зачем же ты меня одну оста-а-а-вил!!!
Иван узнал голос. Это была Марыля, с их же поселка. Месяц назад она похоронила единственное свое дитя – десятилетнего сына. Пошел парень на пруд и не вернулся домой. Как оно там было, никто не видел, выловили уже мертвого…
Все, кто где стоял, так и остались стоять. Лица у людей застыли, словно окаменели. Иван чувствовал, как на него начинает давить этот голос. Он заполнил всю голову, и там начало звенеть, будто кто в четыре руки неустанно бил молотком по наковальне. Казалось, еще немного – и череп рассыплется от этого нестерпимого звона.
Но в это время Марыля перестала голосить. Завздыхала, заохала – ох-ха-ха! – и начала деловито расстилать на свежей еще могиле скатерть. Глаза ее были совсем сухие, светились тусклым металлическим блеском.
И на кладбище вдруг все оживились, засуетились возле разостланных скатертей.
Пошли к своим и Иван с Лёхой.
– Ничего не понимаю. Как будто все ждали, пока Марыля заголосит? – спросил Иван у Лёхи.
– Так оно и есть, – ответил тот. – Как вам лучше рассказать… Когда-то на кладбище стояла церковь, и за могилы садились после того, как выйдет батюшка, прочтет молитву. Ни церкви, ни батюшки давно нет. И повелось так: к могилам садятся тогда, когда сядет человек, у которого самое большое и свежее горе…







