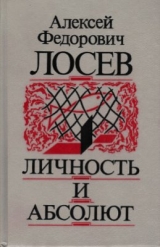
Текст книги "Личность и Абсолют"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 54 страниц)
4) Общая невыясненность терминологии у Бинэ в особенности чувствительна с точки зрения отношения «чистой мысли» к тому, что, напр., Рибо называет «моторной активностью» (activite motrice). Та же 108–я стр., которую мы уже не раз цитировали (о force directrice, organisatrice)* заслуживает упрека еще и с этой точки зрения. Без подробного анализа соотношения чистой мысли и физиологических диспозиций невозможно вполне определенно говорить о чистой мысли. Сенсуалисты всегда будут ссылаться на «activite motrice» [259]259
Напр.: Ribot. Op. cit., стр. 57.
[Закрыть].
5) Наконец, несколько очень важных замечаний можно было бы сделать и относительно самой приложимости к высшим умственным процессам экспериментального метода. Но так как в этом у Бинэ масса точек соприкосновения с другими авторами, которые будут нами изучаться, и так как здесь мы входим уже в область трансцендентной критики, то все эти замечания [260]260
Напр., о возможности простого отсутствия мысли там, где, она Бинэ представляется чистой, ср.: Ribot. Op. cit., стр. 56; о забыванйЙ образов у испытуемых срBinet, стр. 90, где прямо говорится от лида самого Бинэ, что Арманда и вообще образы скорее забывает, чем мысли; об употреблении в качестве испытуемых девочек и о возможной наивности их там, где они категорически утверждают «mais je n'ai pas d'irriage» (ср., напр., стр. 84); о степени выясненности и пригодности термина «intention» и нек. др. особенностях исследования Бинэ.
[Закрыть] [261]261
но у меня нет образа (φρ.).
[Закрыть]в настоящем месте нашего изложения лучше не приводить.
Излагая Кюльпе, Орта и Бинэ конспективно, мы не нуждаемся здесь для цельности изложения в формулировке отдельных тезисов, характеризующих собою исследования этих трех психологов. Но надо еще раз сказать, что во всех разобранных нами пяти исследованиях дана in nuce вся Вюрцбургская школа. Мы рассматривали их хронологически. Систематически же первой, т. е. наиболее общей, работой является, конечно, работа Бинэ, сознательно и фактически выполнившая четыре указанных пункта, ставших почти полным достоянием Уотта, Мессера, Аха и Бюлера. К ней, как более детализирующие, примыкают: 1) работа Марбе о суждении, 2) работа Кюльпе об абстракций, 3) работы Орта, а также Орта и Майера—касающиеся вопроса о Bewusstseinslage. Наиболее общим результатом всех этих исследований является: 1) утверждение возможности каких–то особых состояний, не похожих ни на представления, ни на чувства, ни на прочие обыкновенные явления человеческой психики. Марбе, Майер и Орт еще неуверенно называют какието Bewusstseinslage, колебания в смысле которых, напр. у Марбе, очень знаменательны. Если отбросить первое значение этого понятия у Марбе, именно как Zustand (ср. выше в главе III), и сохранить его как Wissen, то при наличности полного своеобразия этого Bewusstseinslage, по Марбе, оно будет не чем иным, как pensee sans images Бинэ, как «чистая мысль». У Марбе все еще находится, так сказать, в сыром виде; указана только какая–то своеобразная сфера сознания, да и она затемнена утверждением невозможности для знания быть данным в сознании (см. гл. III). У Бинэ мы находим гораздо большую дифференциацию вопроса; у него уже ясно и определенно осознано отличие pensee (т. е. Bewusstseinslage Марбе, понимаемой в смысле Wissen) от прочих состояний, между прочим, конечно, и от Bewusstseinslage Марбе, понимаемой в смысле Zustand. И даже больше того. Чистая мысль таит в себе какую–то intention; общие представления, напр., только при ней и возможны. В результате все эти постепенные различения и эволюционирующее углубление вопроса указывают несомненным образом на одно: есть какая–то особая сфера сознания, непохожая на конкретные и наглядные состояния. Это первый общий результат, воспринятый в плоть и кровь Вюрцбургской щколой. Другой результат, не менее важный, это 2) экспериментальное открытие так называемых заданий (Aufgabe) или организующей силы (по Бинэ) сознания. Наша цсихическая жизнь не есть только игра ассоциаций, но она действенно направляется в определенные, в активно выбранные направления.
Таковы два наиболее общих результата разобранных выше исследований.
Как же теперь восприняла Вюрцбургская школа эти выводы и что она дала своего? Первым и наиболее ранним автором является здесь Уотт. С него и начнем наш критический обзор Вюрцбургской школы.
XI. ИССЛЕДОВАНИЯ УОТТА О МЫШЛЕНИИ.Техника экспериментов. Действие задания в предварительный] период. Задание как установка (Einstellung). «Готовности» (Bereitschaften). «Сознание задания». Взаимодействие заданий. Значение повторений. Задание как отличительный признак суждения. Отсутствие других психологических признаков в суждении. Исходный пункт психологии мышлейия. Вопрос о возможности и полноте показаний Vp. Общие представления и понятия.
Исследование Уотта «Experimentelle Beitrage zu einer Theorie des Denkens» [262]262
Arch. f. d. Ges. Psych. Bd. IV. Heft. 4 (1905).
[Закрыть]построено на изучении так называемых реакций с ассоциациями (Assoziationsrecktionen). Испытуемым предлагалась одна из следующих шести задач: 1) отыскать подчиненное понятие (по отношению к раздражителю), 2) отыскать подчиняющее понятие, 3) отыскать целое, 4) часть, 5) координированное понятие, 6) отыскать другую часть общего целого. После каждого опыта испытуемый рассказывал для протокола все, что у него было в сознании и что он мог вообще сказать о своих переживаниях [263]263
Watt, стр. 289.
[Закрыть]. Уотт пользовался и хроноскопом для регистрирования начала и конца процесса [264]264
Описание приборов—стр. 291 ff.
[Закрыть].
Общий анализ факторов, действующих в этих экспериментах, который предпосылается Уоттом частному анализу, состоит в указании трех групп влияний: 1) задание (Aufgabe), 2) предъявленное слово–раздражитель и 3) находящаяся под влиянием этих двух факторов «душа испытуемого» [265]265
Ibid., стр. 296.
[Закрыть]. Эта последняя в целях исследования разлагается в свою очередь на две группы: 1) наличная тенденция к воспроизведению и 2) готовность (Reproduktionstendenz und Bereitschaften) вместе с тем, что можно было бы назвать мгновенными общими диспозициями.
В последующем Уотт по порядку освещает эти факторы, чтобы потом высказаться о мышлении вообще. Мимоходом он указывает на преимущества его метода реакций с задачами по сравнению с методом свободных реакций. В последнем случае переживание не так рельефно и не так резко отграничено от других предметов, не подлежащих, однако, здесь изучению. Испытуемые могут иметь в экспериментах со свободными реакциями такое неоднородное направление внимания, что они часто не в силах отделить истинные факторы от побочных. Таких неудобств, по мнению Уотта, как раз лишен тот метод, когда надо не просто реагировать ассоциациями, но ассоциациями для известных целей, поставленных предварительной задачей. [266]266
Ibid., стр. 297 f.
[Закрыть]
Громадное значение задания [267]267
Термин Aufgabe я перевожу не «задача», а «задание», так как этому термину удобнее приписать такое всеобъемлющее значение в области мышления, какое придает ему Уотт, чем термину «задача».
[Закрыть], сказывающееся во всем мышлении, заметно уже в предварительном периоде, когда испытуемый только готовится реагировать. Нельзя удивляться тому, что автор исследует такой, казалось бы, не вызывающий никаких сомнений факт, что известная задача решается, что известное задание приводится в исполнение. Даже такие легкие инструкции, говорит Уотт, далеко не всегда выполняются адекватно, и самый процесс выполнения вполне заслуживает изучения. Так, всем таким реакциям обща известного рода телесная аккомодация, состоящая в известных ощущениях напряжения, вызываемых ожиданием раздражителя [268]268
Ibid., стр. 300.
[Закрыть]. Если задача представляет какие–нибудь трудности, то испытуемый всегда пользуется известными вспомогательными приемами, повторяя или вообще как–нибудь воспроизводя инструкцию, конкретизируя заданные понятия и т. д. [269]269
Ibid., стр. 300 f.
[Закрыть]Действие задачи проявляется во время всего репродуцирования; оно бывает разным при разных задачах, и вообще задачи «играют очень важную роль в репродуцировании» [270]270
Ibid., стр. 302.
[Закрыть]. Задача создает некоторую установку (Einstellung) сознания, которое потом обусловливает то или другое течение процесса.
Обозревая все пестрое собрание показаний своих испытуемых, Уотт делит процесс репродукции на два типа: с простым направлением и со сложным, – в зависимости от того, прямо ли достигается цель задачи, или же есть во время протекания задачи какие–нибудь мешающие факторы и вообще иные направления сознания [271]271
Ibid., стр. 303 ff., 321 ff.
[Закрыть]. Но для наших целей нет надобности прослеживать все рассуждения Уотта по этому вопросу. Так как нас все же интересуют именно высшие умственные процессы, то эти рассуждения можно и опустить, а формулировать лучше выводы, делаемые исследователем о «готовностях» (Bereitschaften).
Представления имеют тенденцию возникать более или менее быстро вновь в сознании; о таких персеверационных представлениях говорят, что они находятся в состоянии «готовности». «Готовность» есть свойство и представлений и задач. «Bereitschaft» представлений зависит от количества их повторений в сознании; иногда представления, закрепившиеся в сознании благодаря нескольким дням употребления их в опытах, возникали потом с большой силой и скоростью. Однажды Уотту удалось констатировать усиление скорости репродукции в 70% всех случаев (в задаче о подчиняющих понятиях) [272]272
Ibid., стр. 341.
[Закрыть]. Интереснее для нас персеверация задачи. Для того чтобы задача вообще исполнялась, нужно или достаточное для этого действие задачи в предварительный период, или возникновение сознания этой задачи в течение главной части опыта. Хотя первая возможность и представляет собою идеальный тип реакции и чаще всего делается возможной при упражнении, все–таки обыкновенно в течение самого эксперимента нет никакого особого «сознания задачи». Типичный случай здесь такой: «Медь. Сознание значения слова. Непроизвольное высказывание: свинец. 923σ» [273]273
Ibid., стр. 343 f.
[Закрыть]. Но нельзя ограничиться указанием на действие одной задачи. Наличность задачи, конечно, вполне достаточна для соответствующего протекания представлений; но часто указуемо действие и других задач, персеверировавшихся, напр., от прежних опытов. Мы постоянно бываем свидетелями взаимодействия между действующими задачами и известными представлениями, создающими их действенность. «Мы могли бы сказать: представление становится задачей, если оно продолжительно и действует по вышеописанному способу (Уотт ссылается здесь на свое рассмотрение задачи в предварительном периоде); задача же становится представлением иди сознается таковым, когда она уже больше не действует или еще должна вновь достигнуть действенности» [274]274
Ibid., стр. 346.
[Закрыть]. Эти воззрения Уотта на психический процесс, как на арену действия разных задач и представлений, заслуживают особенно внимательного к себе отношения. – Повторение задачи может, однако, быть в сознании в других формах, когда она определяется ближе, – в зависимости, напр., от трудностей ее выполнения. Но такие переживания не составляют существенной части правильной репродукции [275]275
Ibid., стр. 347 f.
[Закрыть].
Минуя прочие, очень интересные выводы Уотта, напр. о быстроте репродукции, о зрительных представлениях, мы коснемся основных целей автора, высказанных им уже в заглавии работы: «Theorie des Denkens». [276]276
«Теория мышления» (нем.).
[Закрыть]
Первым таким пунктом является психологическая проблема суждения.
«Все наши опыты, – пишет Уотт, – есть суждения, как это можно легко видеть. Следовательно, мы можем ожидать на основании этих наших опытов заключения и о природе суждения». Первое, что Уотт считает очевидным в своих экспериментах по этому вопросу, это– невозможность свести процесс суждения на одно только последование переживаний [277]277
Ibid., стр. 410.
[Закрыть]. «Все, что случается благодаря только одной силе репродуцирования, еще не есть суждение». Очевидно и то, что «не будет никакого суждения, когда репродуцирование'или последование переживаний есть нечто строго закономерное, в том смысле, что за одним при всяких условиях должно последовать только определенное другое» [278]278
Ibid., стр. 411 f.
[Закрыть]. Уотт выдвигает следующий тезис: «Что касается участия фактора голого репродуцирования, то необходимым условием для составления суждения является то, что должно последовать нечто больше, чем репродукция за данным переживанием—раздражителем». Исследователь вполне соглашается с Марбе относительно отрицательных выводов по вопросу о суждении. По мнению Уотта, результат исследования Марбе есть «непреодолимая критика всех тех теорий, которые утверждают, что в каждом суждении психологически налично или должно быть налично то или другое в качестве сознательного переживания» [279]279
Ibid., стр. 412.
[Закрыть]. Только одно допускает Уотт в качестве психологического признака суждения, это—задание, отличающее суждение от простого следования переживаний одного за другим [280]280
Ibid., стр. 413.
[Закрыть].
Уотт в своих экспериментах наблюдал также и суждения о суждениях, которые он называет вторичными (Sekundare). Из них он делает вывод, что они содержат в себе сознание правильности данного суждения, которое, однако, может быть и тогда, когда на самом деле суждение неправильно. Отсюда ясно, что такое сознание правильности, вызывающее вторичное суждение, на деле, однако, не может быть истинным психологическим условием последнего. Значит, и здесь мы лишаемся положительного психологического признака суждения [281]281
Примеры см. на 414 стр.
[Закрыть].
Окончательное определение суждения Уотт формулирует следующим образом: «…суждением или мыслительным актом можно назвать такое последование переживаний, начало которого от первого члена, раздражения, обусловлено психологическим фактором, предшествующим в качестве сознательного переживания, но еще и продолжающимся в качестве указуемого влияния» [282]282
Ibid., стр. 416.
[Закрыть].
Собственная теория мышления обосновывается Уоттом при помощи распространения понятия задания. Он отвергает, конечно, самостоятельность воспроизводимости представлений, бывшей, по его мнению, в плохой старой психологии [283]283
Ibid., стр. 416 f.
[Закрыть]. Обращаясь к фактам, Уотт находит как основное явление для психологии—известным образом данные состояния, которые мы так или иначе можем описать. Мы выходим, следовательно, из психического, которое уже знаем, а не конструируем его в конце исследования [284]284
Ibid., стр. 418.
[Закрыть]. И этот непрерывный психический процесс развивается под постоянным влиянием задания, которое определяет собою и тенденцию к воспроизведению, и величину времени реакции, и качественное содержание процесса реакции. Это не есть просто «моторные установки» (motorische Einstelling) Эббингауза; задание слишком сильно определяет те или другие области переживаний [285]285
Ibid., стр. 420.
[Закрыть].
С этой теорией мышления, говорит Уотт, абсолютно несоединимы такие теории, которые обходятся только с голыми представлешями и их репродукциями или с их физиологическими основаниями. Уотт не отрицает этих последних, но «никакая теория клеток и волокон не будет достаточна для такой… самостоятельной схематизации», которой требует физиологическая постановка вопроса [286]286
Ibid., стр. 421.
[Закрыть]. Истинная теория мышления должна исходить не из этого, а из сознания пережитого и непрерывного, служащего условием возникновения комплексных факторов, одним из которых и является задание. Само же мышление, следовательно, есть «столкновение и взаимодействие различных групп факторов в сознании, объединяющем их, из которых тот, который мы назвали заданием, оказывает умеряющее влияние на ход других факторов и во многих отношениях определяет род и способ их появления» [287]287
Ibid., стр. 422.
[Закрыть].
Другой общий вопрос, которым задается Уотт помимо общей теории мышления и суждения, есть вопрос о возможности полноты самих показаний испытуемых. «Как может относиться содержание в качестве расширения нашего знания в других переживаниях, не включающих в себя этого содержания, – к этим другим переживаниям?» [288]288
Ibid., стр. 425.
[Закрыть]Разбирая этот вопрос, Уотт считает нужным очень осторожно относиться к протоколам и не заключать «от недостаточности протокола к неполноте самого содержания сознания» [289]289
Ibid., стр. 427.
[Закрыть]. «Во всех случаях метод должен быть непрямым» [290]290
Ср. стр. 431.
[Закрыть]. Мы должны сами узнать те тенденции к репродукции и те задания, которые связывают одно переживание с другим по содержанию и которых, быть может, нет в протоколе. Задание по преимуществу «делает возможным осмысленное отношение между представлениями» [291]291
Ibid., стр. 429.
[Закрыть]. «В каждом раздражении, – заключает Уотт свои мысли (а раздражением будет в этом смысле любое переживание, о котором мы что–нибудь высказываем), – лежит все, что может быть точно выражено под влиянием какого–нибудь задания в определенной через это реакции, и выражено в отношении полной его осмысленности» [292]292
Ibid., стр. 430.
[Закрыть].
Наконец, Уотт касается еще одного общего вопроса– об общих представлениях и понятиях. Для этой цели он разделяет слово, понятие и представление [293]293
Ibid., стр. 431.
[Закрыть]. Только недостаточное самонаблюдение может отожествлять психологически эти три явления. Представление может быть очень неопределенным, и все же оно что–нибудь значит. Равным образом нельзя следовать за традицией (представителем которой в данном случае является Тэн) в том взгляде, что общее представление есть соединение схожих представлений. Неверно и утверждение Тэна (Teine. De rintelligence. Paris, 1897. III. P. 259, 260), что бесцветное, неопределенное представление не есть общая абстрактная идея, а только ее сопутствующий момент. Представление есть не только спутник слов и мыслей [294]294
Ibid., стр. 432.
[Закрыть]. «Свойство и функция представлений зависят от задания» [295]295
Ibid., стр. 367.
[Закрыть]. В общем представлении они даны всегда в известном направлении. Уотт настаивает на том, что неясность и неполнота показаний испытуемого относительно данного представления еще не есть показатель общности этого последнего. Есть такие реальные психические образования, которые должны быть вполне определенными, но которые таковыми могут и не познаваться [296]296
Ibid., стр. 433.
[Закрыть]. Далее Уотт приводит несколько протоколов, из которых ясна разница между пониманием слова как слова и слова как присущего ему смысла. Однако для более детального анализа этого факта Уотт не считает свои эксперименты вполне соответствующими [297]297
Ibid., стр. 434 f.
[Закрыть].
Скромны выводы Уотта и относительно понятий. Ясно, говорит он, что в понятии не просто что–нибудь выполняется, но выполняется уже в известном намерении, «как репродукция, которая позже будет налицо и которая отвечает в принадлежащем ей смысле полной логической завершенности». «Но у нас еще нет оснований признавать существование единого психологического аналога для логического понятия» [298]298
Ibid., стр. 435.
[Закрыть]. Наконец, еще неизвестно, что является носителем функции общности в так называемых общих представлениях. Таковыми могут быть и зрительные образы, и слова, и «положения сознания в понятиях» (begrifiiiche Bewusstseinslage). «Желательно потому, чтобы было собрано как можно больше примеров этого рода».
Прогресс в ясности понятия «Aufgabe» по сравнению с «Absicht» Марбе. Значение различия «реалистической» и «консциенциалистической» точек зрения у Уотта. Прогресс экспериментальной методики. Смешение «реалистической» и «консциенциалистической» точек зрения на деле. Истина в теории заданий (подчеркивание телеологического характера мышления) и ошибочность в ней (в связи с общей недостоверностью экспериментального метода и неучетрм неправильных реакций). Значение лабораторного происхождения понятия «задание». Формальный его характер и недостаток в описании процессов суждения у Уотта. О возможности для Уотта более полного описания этих процессов. Итоги.
В исследовании Уотта мы имеем первое яркое выражение принципов Вюрцбургской школы. Здесь выдвинут в особенности тот ее принцип, который можно назвать принципом задания или задач. Вместо неясного Absicht Марбе, которому даже не отводилось места в сознании, а также вместо широкой force directrice Бинэ мы имеем вполне ясную концепцию Aufgabe Уотта, уже оперирующую с понятием сознания.
Основной пункт исследования Марбе, заключавшийся в отожествлении сознания и осознанности, или, что то же, психического и сознательного· если не избегнут Уоттом, то во всяком случае уже так или иначе имеется им в виду. Он знает отчетливую разницу между тем, что он называет консциенциалистической точкой зрения, и между реалистической. При последней признается возможность такого переживания, которое не наблюдается и, значит, не попадает в протокол, между тем как «консциенциалистическая» точка зрения допускает только те переживания, которые доступны непосредственному наблюдению. Все свои выводы Уотт строит, исходя из «консциенциалистической» точки зрения. «Если мы выйдем за пределы этой точки зрения», – пишет он, – то, может быть, мы откроем другие критерии суждения, рядом с которыми будет правомерно стоять и вышеприведенный» [299]299
Ibid., стр. 413.
[Закрыть]. Таким образом, здесь уже ясно сознается разница между сознанием и сознанностью, и только условно из отсутствия последней делаются выводы относительно первого. Уотт не отказывается от других психологических признаков суждения, которые можно сделать с точки зрения реалистической; он только говорит, что подобная точка зрения нуждается сама в оправдании.
К числу безусловно положительных особенностей исследования Уотта, сравнительно с исследованиями, напр., Марбе, надо отнести более сложную методику. Верна или нет вообще экспериментальная точка зрения на психологию мышления—это вопрос другой, которого мы здесь не касаемся. Но, судя чисто имманентно, под углом зрения уже принятого экспериментального подхода к вопросу, методика Уотта, безусловно, идет очень далеко вперед. Ведь всем этим экспериментаторам, которых мы здесь изучаем, надо иметь прежде всего процесс настоящей мысли у испытуемых. Недифференцированная постановка вопроса у Марбе совершенно лишает возможности отделить процессы мысли от всяких иных процессов, возможных при даваемых раздражителях. Уотт же дает такие задачи, что не затратить на них мыслительной деятельности никак не возможно. Я, автор настоящего сочинения, из многочисленных экспериментаторов по психологии мышления, в которых участвовал в качестве испытуемого, наиболее приспособленным чувствовал себя именно к задачам относительно подчиненных и подчиняющих понятий. Для испытуемого здесь удобны две особенности: 1) сравнительная легкость задачи, не поражающая так, как, напр., афоризмы последующего экспериментатора Вюрцбургской школы Бюлера, и 2) необходимость все же затратить постоянную мыслительную энергию для решения задачи. Разумеется, здесь исследуется наиболее элементарная форма мышления, – соответственно безусловной легкости задачи, – но исследуется все же мышление.
Нельзя не отметить сравнительную ясность у Уотта понятия задания. Давая определение исходной точке зрения во всякой психологии и намечая в общих чертах предмет этой последней, Уотт мало отличается в этом отношении от Джемса, давшего наиболее удачную формулировку сознания как потока. Это касается и общих процессов психики [300]300
Ibid., стр. 416 ff.
[Закрыть], и в частности—мышления [301]301
Ср. цитату, приведенную выше из [Уотта], стр. 422.
[Закрыть]. Очень удачно Уотт формулирует эту стремительность мышления и вообще психики, и термин «задание» (опять–таки верный или неверный вообще—другой вопрос) во всяком случае больше выражает истину, чем простые ссылки на «ассоциации». Эти «задания» находятся в сознании и представляют собою процесс психический. «Если оставаться, – пишет Уотт, – на последней, более ограниченной точке зрения (т. е. на «консциенциалистической»), то, как и у Марбе, не получится никакого психологического критерия для суждения, и только, как у нас, единственный критерий для него…» и т: д. [302]302
Ibid., стр. 413.
[Закрыть]Это вносит гораздо большую ясность в вопрос, чем глухая ссылка Марбе на ничего не объясняющие «физиологические диспозиции». «Задание» есть известный психический же процесс.
Все эти и другие принципы, положенные Уоттом в основание своего исследования, отличаются одной общей особенностью: они очень ценны, если их рассматривать теоретически, вне связи с фактическим проведением их, и в то же время они очень шатки и непоследовательны, если судить о них de facto.
Очень ценен принцип разделения тех двух точек зрения, которые Уотт называет «реалистической» и «консциенциалистической». Но как фактически проводится Уоттом это различение? Становясь на стр. 413 на чисто «консциенциалистическую» точку зрения, Уотт на стр. 427 с большой настойчивостью предостерегает, что нельзя судить по недостаточным протоколам о всем переживании. «В высшей степени сомнителен тот метод, по которому от недостаточности протокола заключают к недостаточности в содержании сознания. Соответственно с этим мы скажем: или пережитое остается невоспроизведенным через наличность чего–либо в сознании в момент самонаблюдения, или наличное там просто не может быть воспроизведено, или наличное задание описывать не было в достаточной мере действенно, чтобы дать преобладание этим репродукциям перед другими, или, наконец, испытуемый дал показания фактически не обо всем, что он мог бы дать».
Сделанные в этой цитате различения совершенно уничтожают принятую самим же Уоттом «консциенциалистическую» точку зрения. Во–первых, не с этой «консциенциалистической» точки зрения сделан, очевидно, вывод Уотта относительно общего значения заданий. Ведь сам же Уотт в качестве обычного случая приводит такой, где нет совершенно никакого протокольного упоминания о заданиях. [303]303
Ibid., стр. 343 f.
[Закрыть]Сознание задания исчезает по мере увеличения числа экспериментов. Во–вторых, раз отсутствие в протоколах известных переживаний не должно мешать выводам относительно их наличности или неналичности, то вполне же возможны и какие–нибудь еще другие психологические признаки, напр. суждения, кроме заданий. И от поисков их не может Уотт отказываться постольку, поскольку он строит теорию заданий, тоже ведь почти всегда неналичных в сознании. В–третьих, Уотту не удается в конце концов избегнуть и общей ошибки Марбе—отожествления сознания и осознанности (или психического и сознательного). Если в протоколах нет указаний на «задание», то, раз оно действует, оно действует, как говорится, «бессознательно». А если возможна такая ситуация сознания, то тут же для нас и оправдание «реалистической» точки зрения. Поэтому, говоря об отсутствии психологических признаков суждения, он бессознательно заменяет осознанность понятием общей действенности в сознании, или, что то же, психическим. Раз нет осознанных переживаний, думает Уотт, специфичных для суждения, значит, их нет и вовсе. Наконец, в–четвертых, и вообще Уотт мало пользуется своей «консциенциалистической» точкой зрения; иначе бы понятие задания не имело бы такого всеобъемлющего значения, какое оно получило у него фактически. Так, о понятиях и общих представлениях Уотт ничего не сказал, кроме действия в них Absicht [304]304
Ibid., стр. 345 f.
[Закрыть], установленного, как сказано, далеко не с чистой «консциенциалистической» точки зрения. Так мы могли бы интерпретировать противоречивые утверждения Уотта относительно «реалистической» и «консциенциалистической» точки зрения, т. е. относительно понятий сознания, сознательности и психического.
Немало возражений вызывает и орновная концепция Уотта—задание. Как было уже сказано, безусловно, это понятие соответствует известным образом фактическим отношениям в психике. Насколько же, спросим теперь себя, может быть установлено такое соответствие?
Прежде всего отметим общую недостоверность получаемых экспериментальным путем выводов относительно заданий. Освободившись в принципе от того дефекта в исследованиях Марбе, который приводит к фактическому смешению процессов суждения и процессов, напр., просто ассоциированных, Уотт все–таки иногда не был гарантирован от такого смешения, и в особенности это надо сказать о задаче с подчиненными понятиями. [305]305
Ср., напр., стр. 307. Сходное замечание по этому поводу у Мессера. Arch. f. d. Ges. Psych. Bd. VIII, стр. 110.
[Закрыть]Это подмечено Мюллером, который пишет, что задачи Уотта отчасти таковы, что «иной раздражитель также только при одном внимании, обращенном на него интенсивно, может легко вслед за ассоциацией возбудить словореакцию, соответствующую задаче» [306]306
G. E. Mutter. Zur Analyze der Gedachtnisfctatigkeit n. des Vorstellun gsverlaufes. Leipz., 1919. Teil III, стр. 471.
[Закрыть].
Другое замечание такого же общего характера, которое необходимо сделать против экспериментальной теории заданий, – это то, что она плохо учитывает факт неправильных реакций. Это должно сильно сокращать всеобщее значение «заданий». Если число неправильных случаев в задаче с подчиненными понятиями может достигать 29,5% [307]307
Watt. Op. cit., стр. 379.
[Закрыть], то ясно, что кроме простой наличности задания необходимы и другие условия или же само понятие задания требует некоторых изменений [308]308
Ср. Mutter. Op. cit., стр. 475 f.
[Закрыть].
Таковы эти два общих замечания, направленные не на существо заданий, а только на степень и объем их проявления. Но и по существу приходится сделать некоторые важные возражения.
До тех пор, пока Уотт говорит о заданиях, как компонентах исследуемых им реакций, можно еще согласиться с ним относительно существа и действенности этих заданий (с приводимыми ниже оговорками)· Но когда он начинает понятию задания придавать всеобъемлющее значение, становится ясным все искусственное, лабораторное, абстрактное происхождение этого понятия. Вполне естественно, что будет задание там, где оно требуется; напр., нельзя произвести выбора, если мы не имеем намерения его произвести. Но есть ли такое задание, т. е. такое вот изолированное намерение, какое есть в образовании, напр., общего понятия, – также и, положим, в суждении?
Можно выставить такой тезис: там, где задание Уотта обладает реальным значением, т. е. в образовании ответов на его шесть задач, там оно своим присутствием доказывает только то, что для всякого действия нужно намерение действовать; там же, где оно выходит за пределы этих шести задач и применяется, напр., к суждению, там оно только, по выражению Рейхвейна, ein experimentelles Treibhausgewachs [309]309
Экспериментальное тепличное растение (нем.).
[Закрыть] [310]310
Reichwein. Die neueren Untersuch. fiber Psych, des Denkens, стр. 31.
[Закрыть]. В самом деле, всматриваясь ближе в задания Уотта, мы находим в них, собственно, одну черту, характерную для мышления. Это—стремительность, текучесть мышления, его телеологический характер. После Джемса с его учением о потоке сознания и отчасти после Вундта с его учением об апперцепции уже трудно представлять себе психику как собрание нерастворимых глыб, как собрание неподвижных и законченных вещей. В задании Уотта можно считать правильно констатированным именно эту процессуальность, устремленность, целестремительность человеческой психики, в частности мышления; что же касается специальной концепции этого понятия, именно, как задания, задачи, то всеобщее приложение его является в высшей степени сомнительным и недостаточным.
Психологическая теория суждения Уотта всецело построена на этом понятии задания. Но какова действительная роль этого явления в суждении?
Судя по той легкости, с которой Уотт обращается с понятием задания, надо думать, что, по его мнению, это довольно простой, элементарный процесс. На деле же это, безусловно, сложное явление, заключающее в себе в качестве нераздельных элементов представление и волевое начало [311]311
Ibid., стр. 29 f.
[Закрыть]. Уотт ставит ударение в этом последнем элементе, абстрактно выделяя его из всей массы переживания и перенося его на такие сложные обстояния, как суждения. Вследствие этого и само–то суждение он не может определить иначе как при помощи все тех же своих, специально для экспериментов применяемых терминов, напр. при помощи понятия «раздражителя» [312]312
Watt, стр. 416.
[Закрыть]. А между тем вовсе не очевидно из опытов Уотта, что во всяком суждении есть именно что–нибудь вроде «раздражителя» или «задачи». Уотт со своей точки зрения прав, поскольку он сознательно и намеренно отожествляет с суждениями [313]313
Ibid, стр. 410.
[Закрыть]свои опыты и поскольку опыты его происходили всегда под влиянием заданий. Но, не говоря уже о произвольности такого отожествления и об уничтожении при этом ясного критерия суждений в их отличии от других процессов и даже признавая такое отожествление правомерным, все–таки нельзя не усомниться в этой теории суждений, построенной на «заданиях». «Все люди смертны», – где здесь «задание», где «раздражитель»? Уотту надо опровергнуть сенсуалистическую точку зрения, полагающую в основу суждения die blosse Reproduction, die blosse Aufeinanderfolge von Erlebnissen [314]314
Голом воспроизведении, голой последовательности переживаний (нем.).
[Закрыть]. Но для этого вовсе не обязательно говорить в психологическом определении суждения о задачах. Даже если субъект суждения считать за раздражитель, а предикат—за реакцию, то в «задании», связывающем собою эти два элемента суждения, будет самым важным и характерным общая телеологичность процессов сознания, далекая от задачи как таковой, если последнюю не понимать в несвойственном ей, широчайшем смысле.








