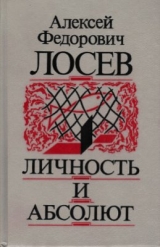
Текст книги "Личность и Абсолют"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 54 страниц)
Непосредственная данность как постулат. Возможность спора о непосредственной данности. Сравнение в этом смысле психологии с др [угими] науками. Непосредственная данность и основной, исходный пункт исследования. Непосредственная данность и наибольшая заметность. Негодность сенсуалистического понимания непосредственной данности: а) квалификационный ее характер и b) опасности овеществления сознания. Сложность и текучесть сознания как первая ступень к познанию непосредственной данности.
Без этого предварительного исследования нам нечего и думать ступить хоть шаг. У всякой ведь науки есть свои предпосылки непосредственного характера, потому что ничего нельзя построить на одних доказательствах; необходимы предварительные бездоказательные установки непосредственного опыта. Так, физик, изучая свою область явлений, конечно же предполагает, что эти факты как–нибудь да существуют. Иначе он не будет уверен, стоит ли заниматься этой наукой. Далее, он предполагает, что вещество или материя, изучаемая им, весома, протяженна, непроницаема и пр. Все это не может не иметь в виду физик, раз это–то он и изучает. А докажите же мне, что вот этот пресс–папье имеет некоторый вес, что у него ручка холодная, что он занимает известное место на столе. Что пресс весом, это вы докажете только тем, что предложите мне самому поднять его; что ручка его холодна, вы докажете, предложивши сравнить ее температуру с температурой хоть абажура вот этой горящей лампы. И т. д. Везде вы будете предлагать испытать и пережить данные предметы и свойства их мне самому, непосредственно, без доказательств. Увидел—и узнал, не увидел—ничем иным и пытаться доказывать не стоит. И так во всякой науке есть ряд положений, которые мы принимаем прямо, непосредственно; и только на основании и при помощи этих положений мы можем потом уже силлогистически или вообще логически строить свою науку.
Вот это–то непосредственно данное и хотим мы определить для психологии. Оно укажет нам и первоначальные пути исследования, так как без знания того, что предлежит нашему исследованию, невозможно заранее установить, что, собственно, надо нам делать в этой особой науке—психологии.
Нечего удивляться, что непосредственно данное может быть предметом спора. Спорить возможно и о таких вещах, которые вполне очевидны каждому из спорящих; достаточно только небольшого расхождения в способах описания этого непосредственно данного или в способах оценки его, как споры уже возможны и законны. А где такая невероятная сложность, как в психологии, там, разумеется, таких споров о словах всегда очень много, и прогресс науки здесь всегда заключается в точном фиксировании понятий и в установлении ясности употребляемых терминов. Одно и то же явление может рассматриваться с разных сторон, в нем могут констатироваться различные элементы, может быть нисколько не исключающие друг друга; но все это при общей сложности вопросов фактически часто влечет за собой разногласия, принимающие потом уже принципиальную форму. И нередко приходится убеждаться, как у спорящих сторон эта принципиальность создается только благодаря неоднородности точек зрения на материал, констатируемый ими, неоднородности, которая, казалось бы, должна быть с первых же шагов ясно осознанной и формулированной.
В отношении спорности непосред. данного не одна психология находится в таком невыгодном состоянии. Возьмем, напр., общее языковедение, и именно ту его часть, где идет речь о физиологии звуков речи. Ведь некоторые звуки, несмотря на то, что мы их постоянно произносим, постоянно их слышим и понимаем, очень трудно описать так, чтобы вполне ясна была зависимость их от расположения органов произношения, от силы выдыхаемого звука и пр. Так, звук, начертаемый русской буквой ш, очень труден для описания, и, напр., во «Введении в языков.» проф. В. К. Поржезинского прямо говорится, что «условия образования этих звуков (ш и ж) еще недостаточно выяснены». Пока можно сказать только то, что «при образовании согласных SZ (т. е. ш и ж) резонирующая часть полости рта имеет больший объем, чем при образовании согласных S и Ζ» [96]96
В. К. Поржезинский. Введ. в языков., изд. 2, стр. 85.
[Закрыть]. Другой пример: не вполне ясно участие губ в болгарском гласном «ъ»; одни признают его, другие считают сомнительным. Значит ли все это, спросим мы, что данное расположение органов речи действительно неописуемо, или, что самое главное, значит ли это, что надо и над самым предметом физиологии звуков речи поставить крест и считать задачу ее неразрешимой или по существу не допускающей никаких споров? Конечно же нет. Было время, когда и вообще не задумывались ни над каким произношением как над физическим и физиологическим явлением, а все–таки создалась особая наука для этого, и все–таки она развивается, достигая возможности описывать такие тонкости произношения гласных и согласных, что только удивляешься, читая о них в первый раз.
Психология в отношении непоср. данного стоит ровно в таком положении, что и языковедение. Как в этом последнем практическая (и, конечно, временная) невозможность описать русские звуки ш и ж еще не значит, что эти звуки и на самом деле не обладают никакими характерными описуемыми чертами, как здесь истина может родиться только из споров, т. е. из сопоставления различных описаний, данных по этому поводу разными наблюдателями, так и в психологии: абсолютно нечего удивляться, когда говорят, что могут быть и должны быть также и споры о непосред. данном и что только из этих «споров» и может явиться конечная, неоспоримая истина. Уж куда, казалось бы, явственнее быть звуку, произносимому нами как ш? И никогда мы в нормальном состоянии не смешаем его ни в разговоре, ни в книге, никогда не заменим его каким–нибудь другим звуком; а попробуйте–ка эту столь очевидную и простую вещь описать—не удастся. Нельзя по этому поводу не вспомнить тех близоруких скептиков, которые отрицают за философией всякое значение только потому, что естественные науки так молоды и так совершенны, а философия–де так стара и так скромна по добытым результатам. Здесь тоже смешивается конкретное, фактическое положение дела, зависящее от тысячи случайностей, с идеальными законами и потенциями, которые таит в себе самая суть этого дела. Не получили общепризнанных наблюдений—тем больший интерес должен создаваться для достижения этих обобщений, а вовсе не огульное их отрицание.
Поэтому будем искать этот икс, это непосредственно данное, из чего должна исходить психология. Без выяснения этой основной предпосылки, повторяем, всякая попытка разобраться в каких–нибудь современных психологических учениях неизбежно оканчивается крахом.
Но прежде чем придать этому иксу какое–нибудь цельное и положительное значение, необходимо отграничить самое понятие непосредственно данного от не подходящих сюда терминов и заданий.
Первым таким указанием должно быть memento [97]97
Букв, «помни», здесь «то, чего следует остерегаться» (лат.).
[Закрыть]относительно смешения непосредственной данности с основным, исходным пунктом исследования. Непосредственная данность есть то, что утверждается до всякого исследования, утверждается как непосредственно усматриваемая первичность, нуждающаяся не в доказательстве, а только в приведении в известность. Как в физике непосредственно данным может служить материя, весомая, протяженная, видимая, осязаемая й т. д. и т. д., так в некотором смысле такую же «материю» надо признать и в психологии, описавши ее несколькими эпитетами. Но положение «существует весомая, протяженная, упругая и пр. материя» еще не есть исходный пункт исследования или теории. Это до–научное, до–теоретическое констатирование факта, которое бессознательно содержится и действует у всех нормальных людей, даже независимо от культурного уровня. Это–то мы и условимся называть непосредственной данностью, а не то, что может лечь в основу нашего знания как суммы теорий. Таким теоретически первично–данным может служить в физике, напр., такой тезис: «Формальная сущность всякого физического явления заключается в движении». Это будет уж совершенно иная точка зрения, и нам, чтобы не сбиться при определении непосредственно данного в психологии, надо помнить об этих двух данностях. Обыкновенно эта теоретическая данность является уже результатом исследований и теорий, и ее потом иногда очень удобно бывает поставить во главу угла, чтобы из нее дедуктивно изложить все изученное. Так, понятие Бога может быть результатом исследований известного рода; потом, при изложении, это понятие Бога вы ставите в начале своих исследований, и в этом смысле оно у вас первично дано.
Но, повторяем, мы будем говорить о первичности простого констатирования, а не о логической первичности в выведенной теории.
Другое memento—это опасность смешать непосредственную данность с наибольшей заметностью. Это настолько очевидно и обще, что едва ли даже можно выдвигать это в качестве методологического memento. Понятие наибольшей заметности содержит в себе признаки сознательности, т. е. отнесенности к сознанию, как опознанию, а это обстоятельство не только совершенно лишне при определении непосредственной данности, но и легко может исказить понимание этой последней. Опознание предполагает массу сложных психологических условий, знания о которых должно добиваться уже при наличности шлифованного понятия непосредственной данности; кроме того, явление опознания, или сознания, данного психологического факта регулируется законами, которые по сравнению со строгостью понятия первоначальной данности можно считать относительными и в известном смысле даже случайными, поскольку мы не желаем изучать психологические факты in abstracto, а изучаем их во всей их полноте и фактической взаимопроницаемости. Это смешение первичной психологической данности с наибольшей заметностью известных сторон переживания лучше всего обнаруживает свои грехи в общеизвестной и в прошлом много раз возводимой на принципиальную высоту тенденции описывать все психическое как образное, как известную механическую связь чувственных представлений и ощущений. Мы не будем критиковать здесь конкретных теорий, процветавших главным образом в старом английском ассоциационизме и в наши дни с особенной силой выдвигаемых американским психологом Тиченером (Titchener). Но рассмотреть этот общий принцип, по которому первичная данность есть образ, представление, мы обязаны все–таки по возможности полнее, так как, не переступивши через этот порог, мы и вообще лишаемся возможности двигаться дальше. Слишком уж проста, понятна и всеобъемлюща (по своей видимости) эта ассоциационная или, лучше сказать, сенсуалистическая точка зрения на первичную непосредственную данность.
Почему понятия «образ» и «представление» не могут точно описать собой искомую нами первичную данность?
Прежде всего потому, что эти понятия суть известного рода квалификации. Это наиболее общая причина. Мы хотим достичь чистого описания, а не оценки предмета, ибо сначала надо опознать предмет, а потом уже оценивать его. Но коснемся сначала понятий чистого описания и квалификации вообще.
Когда говорят о «чистом опыте», «чистом описании», то тут кроются целые «глубины сатанинские» различных неточностей и терминологических опасностей. «Чистый опыт», возводимый некоторыми теориями в принцип, тем самым, разумеется, перестает быть чистым, так как исследованию всякого реального опыта, всякого эмпирического познания и испытывания все же предшествует в этих теориях это понятие чистого опыта (а это и значит, что «чистый опыт» не есть первичность простого констатирования).
Можно считать достоверным то, что «чистое описание» как метод есть contradictio in adjecto. Что бы мы ни описывали, мы описываем с известной точки зрения, возникающей у нас до опыта; а это и значит, что «чистое описание» как таковое просто фактически невыполнимо.
Однако понятие чистого описания приобретает полное право и большую методологическую силу, коль скоро мы отвлечемся от него как от метода и постараемся поставить ударение на нем как на описании чего–нибудь «чистого», Т. е. того самого, что мы до сих пор называли непосредственной данностью. В этом смысле понятие чистого описания нисколько не предвосхищает возможных в психологии методов, а только намечает общий контур той области исследования, которая объемлется в понятии некоей психологической «чистоты», т. е. того основного, независимого от случайных частностей общего, что лучше всего именовать непосредственной данностью. Таким образом, ратуя за отделение чистого описания от квалификаций, мы вовсе не утверждаем чистое описание как метод, а только хотим точнее опознать психологическую данность вне возможных здесь квалификаций.
Мы сказали, что понятие образа в применении к непосредственной данности есть квалификация. Почему квалификация?
Когда говорят, что данный предмет есть то–то и тото, то, конечно, это может и не связываться с вопросом о том, каково происхождение этого предмета. Если же говорят, что знание о происхождении предмета помогает знанию его сущности, то здесь комбинируются две совершенно различные точки зрения: одна смотрит на предмет как на становление и потому в существе своем есть преимущественно описание; другая смотрит на законченность предмета, на его бытие в данный момент и с описанием соединяет уже оценку его. Так, если мы говорим, что история помогает понять современное деление общества на политические партии и объясняет, какая из этих партий более всего близка к истине, то, конечно, мы делаем крутой уклон сознания от простого и безоценочного изучения истории, и наши исторические познания здесь мы уже на что–то применяем, а не просто довольствуемся ими как таковыми.. Поэтому, раз мы желаем остаться на почве простого констатирования, что есть в данный момент, нам незачем обращаться к вопросу о происхождении констатируемых нами предметов, и будет уже совсем недостаточно, если мы этими ссылками на происхождение и ограничимся.
А между тем, говоря, что все психическое есть образное и различные комбинации этого образного, мы как раз совершаем одну из самых худших и опасных квалификаций, подменяя вопросом о происхождении (через внешние органы чувств) отдельных психических состояний интересующий нас здесь вопрос о самих этих состояниях. Еще бы кое–что объяснялось, если бы говорили о происхождении в собственном смысле этого слова, т. е. говорили [бы] о возникновении психического в неодушевленной и одушевленной природе, об отношении его к физическому и т. д., да и то при неучете самонаблюдательных элементов этого знания о происхождении, все–таки и такая наука едва ли бы могла хоть сколько–нибудь полно осветить вопрос о непосредственно данном. В значительной мере и здесь знание этого непосредственно данного хотя бы знание и в бессознательной форме, а все–таки уже предполагалось бы заранее. Упомянутый же принцип сведения психического на конкретно–образное и подавно не затрагивает вопроса чистого описания. Сказать, что везде и всегда только образы и связи их, – это значит произвести вивисекцию живой человеческой души (или, говоря более обще и менее определенно, – человеческой психики) и насильственно распределить ее по рубрикам прихода и расхода через внешние органы чувств. Это же и есть квалификация психической первичной данности, т. е. квалификация с точки зрения того, через какой орган был воспринят данный предмет и насколько точно данный образ есть воспроизведение объективно ощутимой чувственной картины. Если бы мы вместо оценки качества данного куска шерстяной материи стали бы говорить, что этот кусок содержит столько–то аршин или что этот кусок материи имеет круглую, четырехугольную и т. п. форму, то это вызвало бы смех у наших собеседников. Но это не только не вызывало смех, а, наоборот, служило импульсом для философских обоснований и всяких построений у тех представителей старой английской ассоциационной школы, которые иначе и не хотели описывать психику как игру чувственных образов. Здесь совершалось именно это отмеривание аршинами вместо определения шерстяной материи по ее существу и качеству.
Помимо того что сенсуалистическая точка зрения (применим этот, главным образом гносеологический, термин к рассматриваемому нами сейчас призеру) не может не быть квалификацией непосредственной данности, – отодвигаясь далеко в сторону от чисто описательной позиции, она почти всегда является незаконнорожденным детищем метафизических воззрений, которые настолько же опасны в психологии, насколько и необходимы. Мы здесь не будем касаться трудного вопроса об отношении психологии к метафизике и не будем доказывать зависимость системы психологии, т. е. психологии как науки, от метафизики. Это вопрос важный и для настоящего исследования, но не он нас интересует сейчас. Нам важно почувствовать ту истину, что установление непосредственной данности в психологии может совершиться и без всякой метафизики. Может быть, трудно строить без философских скреп психологию как науку—этого мы не касаемся. Но что психология как установление непосредственной данности не нуждается ни в какой философии—это должно быть ясно уже из самого понятия непосредственности. Разумеется, философский фон углубит понятие первичной данности и локализирует его в сфере общего бытия сознания и мира, но никакая философия не даст новых психологических элементов этого понятия, поскольку эта философия будет занята своими обобщающими целями, а не все тем же анализом сознания, что и психология. Однако гораздо важнее установить то, что нахождение первичной данности не только не нуждается ни в каких метафизических предпосылках, но что эти предпосылки всегда вредят истине непосредственного усматривания, заставляя видеть то, чего вовсе нет, и не видеть того, что обладает неоспоримой очевидностью.
Помимо явных противоописательных тенденций понятия образа последнее заслуживает порицания с точки зрения непосредственной данности еще и как очень опасная предустановка мысли в дальнейших психологических исследованиях. Безусловно, когда мы говорим «образ», мы этим самым затрагиваем и часть того, что есть истинная непосредственная данность, но затрагиваем бессознательно, и потому содержащаяся здесь квалификация, как неосознанная, может быть прямо губительной для более сложных исследований. В самом деле, образ есть всегда образ чего–то, образ какого–нибудь предмета. Но предмет, напр. этот стол, есть нечто устойчивое, постоянное; вчера я видел его таким–то, сегодня вижу опять тем же и наверно завтра увижу с теми же самыми признаками и свойствами. Такая статичность и неизменность, конечно, должна быть перенесена и на самый образ, понимаемый в смысле психического явления. Отсюда очень легко и всю психику вообразить состоящей из отдельных неподвижных и пассивных образов, которые как в зеркале находят свое неизменное и точнейшее отображение. А сделавши такой вывод, мы кладем на всю психологию и на все науки, так или иначе с ней связанные, напр. педагогику, тяжелую печать пассивности и безжизненности изучаемого в них предмета, устремленного в материалистически–метафизическую пустоту, взамен конкретного отношения к жизни и фактам.
Но эта опасность становится еще больше, если мы вспомним такие явления в нашей психике, когда никакого образа не возникает в сознании и даже не может возникнуть по самому существу переживания. Всякие отвлеченные понятия, «человечество» или «прозрачность», сами по себе никакого образа не вызывают, а если вызывают, то, разумеется, это будут образы чисто случайные (по отношению к этим понятиям), т. е. зависящие от индивидуальных условий лиц, а вовсе не от самого существа этих понятий. Между тем эти слова мы отлично понимаем и оперируем с ними не хуже, чем с образами. И главное, что такое положение дела усматривается ведь непосредственно каждым, стоит только обратить внимание на свои переживания. Было бы смешно, если бы кто–нибудь утверждал, что союзы «и», «а» содержат в себе всегда определенный, только им одним свойственный образ. А раз такого образа обыкновенно нет и раз он, если есть, всегда случаен, то вполне же становится очевидным, что переживания союзов «и», «а» – это одно, а образы, могущие здесь возникнуть, – нечто совершенно и абсолютно иное, нисколько не характерное для сути переживания.
То же надо сказать и о всяких других сложных формах познания, напр. о, понятиях. Составляя уже известную квалификацию с той или другой точки зрения, эти психологические образования никак не могут считаться характеристикой того, что можно было бы назвать непосредственной и первичной данностью.
Итак, непосредственная данность в психологии не может быть формулирована ни в терминах сенсуализма, ни в терминах логики. Что же составляет именно психологическую, а не логическую и не метафизическую суть этого понятия непосредственной данности?
Так как нашей задачей может быть только констатирование фактов, то попробуем вглядеться в эти факты. Попробуем взять какое–нибудь конкретное переживание и посмотрим, что в нем может считаться непосредственно данным. Разумеется, таковым является прежде всего все переживание «целиком». Но разумеется, для того чтобы только сказать это, не стоило бы нам вести предыдущих рассуждений о непосредственно данном. Мы хотим не только сказать, что непосредственно данное есть, но и точно формулировать то основное и то общее, что лежит под всякой непосредственной данностью в психологии, в каких бы разнообразных формах мы его ни переживали.
Итак, что наиболее обще для наших переживаний?
Всматриваясь в переживание более или менее интенсивное, мы всегда поставлены в необходимость констатировать необычайную сложность этого переживания. Приведем для пояснения пример Н. О. Лосского, данный в его книге «Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма».
«Представим себе, – читаем мы здесь, – следующий случай: психолог й в то же время ботаник–любитель А. гуляет со своим товарищем Б., который не занимается этими науками; Б. срывает растение, рассматривает его две–три секунды и передает своему товарищу со словами: «ромашка». Б. рассматривает его тоже всего две–три секунды и укладывает в коробку, потому что это вовсе не ромашка, а один из видов Leucenthemum, и ему трудно себе представить, как можно смешать эти растения; рассматривая растение самое короткое время, он воспринял образ его во всех подробностях, он видел и его полушаровидное цветоложе, не похожее на конические цветоложа ромашки, и листья с редкими зубцами, но вовсе не подразделенными, как у ромашки, и т. д. и т. д. Мало того, он заметил еще, что листья этого экземпляра ненормально слабо развиты, и потому не выбросил его. Заинтересованный причиною этого явления, он начинает думать о нем, соображает, что оно должно быть обусловлено недостатком влаги, но удивляется этому, так как знает, что в прежние года это место, наоборот, изобиловало ею; это затруднение вызывает в нем какую–то смутную эмоцию, в голове являются отрывками разные догадки, в то же время он безотчетно оглядывается во все стороны и вдруг замечает вырытую в этом году канаву; этим все объясняется; он тотчас же успокаивается и удовлетворяется; в сознании его всплывают другие мысли, ему вспоминается сосед, который провел эту канаву; это помещик, желающий повысить доходность своего имения и постоянно толкующий о причинах упадка дворянского землевладения в России; отсюда мысль А. переходит к дворянству как общественному классу» [98]98
Н. Лосский. Осн. учения психологии с т. зр. волюнт. СПб., 1903. Стр. 111.
[Закрыть]и т. д.
Из этого примера легко видеть прежде всего всю необычайную сложность и поразительное разнообразие переживаний, могущих случиться в ничтожный промежуток времени. Мы здесь не говорим о высших чувствах, не говорим о психологии гения или вообще сложных умственных построениях. Мы берем самые, казалось бы, незначительные факты из нашей повседневной жизни и уже в них находим невероятную сложность [99]99
В этом месте в оригинале вычеркнут текст: «На школьной скамье, изучая психологию по гимназическому учебнику, мы часто слышим слова о какой–то большой сложности психического процесса, слышим предостережения о том, что в психологии далеко не все так просто, как в естествознании. Однако эти истины становятся совершенно новыми, когда их переживаем на деле и когда вложишь в них то конкретное и чудовищное (по сравнению с естественными науками) содержание, которое им на самом деле принадлежит».
[Закрыть]. И не только вышеупомянутый процесс последовательного различения, происходящий, однако, почти мгновенно, относится к примерам необычайной сложности психической жизни. Итак, возьмите самое обыкновенное восприятие пространства—и в нем, как это показано проф. Г. И. Челпановым, таится такая сложность, которую, вообще говоря, трудно и предчувствовать. Оказывается, что, хотя глубина и есть первоначальное содержание сознания, необходимо все–таки психологически различать два пространства: «первоначальное и развитое, глубину, так сказать, первоначальную и глубину развитого сознания, а между ними для нашего сознания большая разница…» [100]100
Г. Челпанов. Проблема восприятия пространства в связи с учением об априорности и врожденности. Киев, 1896. Стр. 259 f.
[Закрыть]Видение глубины находится в зависимости от двигательно–осязательного опыта, а главным образом [от] представления осязательной величины предмета, так что «зрительные ощущения, сопровождающие те или другие осязательные ощущения, являются для нас знаком тех или других реальных величин, зрительный же опыт сам по себе не был бы в состоянии создать того представления глубины, которым мы в настоящее время обладаем» [101]101
Ibid., стр. 373.
[Закрыть].
Эти два примера из Н. О. Лосского и Г. И. Челпанова взяты нами не только для иллюстрации различной сложности состояний сознания, но в этих примерах сокрыта еще и противоположность описательного и генетического отношения к переживанию. Если даже проводить между ними принципиальную разницу, то и тогда ясна общая их черта: глубочайшая сложность, варьирующая от элементарных актов до невероятных по своей глубине состояний.
Этот признак—сложность и текучесть, – обусловливающий собою возможность самых глубоких и многочисленных переживаний в одно только мгновение, заставляет скептически отнестись и вообще к той концепции непосредственной данности, которая оперирует с терминами «представление», «понятие», «суждение» и пр. и пр. В том, что может считаться по истине непосредственной данностью, нет еще никаких «представлений» и «понятий»; это слишком громоздкий материал, чтобы с ним можно было так легко и проворно обращаться, как это у нас на самом деле происходит—хотя бы в вышеприведенном примере Н. О. Лосского. «Представление», «понятие», «суждение» и т. д. и т. д. – все это есть уже структурность сознания, есть нечто уже образовавшееся из чего–то. Ища непосредственную данность, нельзя оперировать такими сложными терминами. Что же есть то первоначальное, из чего образуются эти структурные формы сознания?








