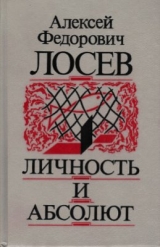
Текст книги "Личность и Абсолют"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 54 страниц)
Можно так характеризовать эти три разных значения термина: конкретное (т. е. образное), неконкретное (т. е. реальная последовательность переживаний сама по себе, конечно, неконкретная), идеальное (т. е. в смысле Iyccepля). Первые два значения противоположны между собою по признаку образности и оба вместе противоположны третьему по признаку психичности [467]467
Говоря о «трансцендентности» в мышлении, Мессер настолько «идеален», что даже предостерегает от гносеологических выводов из его теории «интенциональных переживаний» (стр. 114).
[Закрыть]. Нужно, кроме того, помнить, что та же самая путаница понятий кроется й под другими терминами, напр. «Meinen» и «Bewusstseinslage». Поэтому мы настаиваем главным образом на путанице у Мессера понятий, меньше обращая внимание на путаницу соответствующих слов. Наконец, и еще одно примечание к нашим заключениям об эквивокациях у Мессера: именно, мы ничего не утверждаем о возможности сделать выводы и понятия Мессера более ясными и отчетливыми; мы только говорим, что фактически в них немалый беспорядок.
Полученная нами сейчас точка зрения на терминологию и выдержанность понятий в исследовании Мессера помогает разобраться во многих пунктах этого большого и разностороннего исследования.
Если бы мы задали себе вопрос, в чем заключается самая суть учения Мессера о репрезентации понятий в сознании, то ответ на такой вопрос был бы довольно затруднителен. Мессер уясняет наличность невоззрительных, необразных элементов в понимании понятий, но от точной установки отношения этих элементов к образам Мессер отказывается. А между тем существенно важен именно этот вопрос, так как простая наличность невоззрительных переживаний ясна еще и до всяких экспериментов, стоит только «представить» себе какое–нибудь отвлеченное понятие. Если берется наука за этот факт невоззрительных переживаний, то первым ее вопросом должно быть установление зависимости (или независимости) между воззрительными и невоззрительными элементами, так как только тогда начинается нечто большее, чем простое до–научное установление известного факта. У Мессера же благодаря колеблющемуся у него понятию сознания (и колеблющемуся иногда вне всяких терминов) получается кардинальная неясность относительно этих «неконкретных» переживаний: именно, неизвестно, суть ли они что–нибудь реально–психическое, что–нибудь нераздельное, целокупное, связанное с общим потоком сознания, или же они стоят те реально–эмпирического сознания, т. е. неясно, могут ли понятия быть репрезентированы в сознании чисто невоззрительным путем, или же они суть смесь общих переживаний независимо от разделения на воззрения невоззрения. Иллюстрацией такой неясности может служить хотя бы следующее сопоставление. Задавая себе вопрос о возможности понимания значения без воззрительного элемента и об объеме действия этого последнего, Мессер говорит, что он не встретил ни одного такого высказывания, в котором бы ясно было, что понимание раздражителя вообще зависит от возникновения зрительного представления. Но мало того что это есть скромная Inductio per enumerationem simplicem [468]468
Индукция через простое перечисление (лат.).
[Закрыть], в примечании он прямо говорит, что не следует обобщать этого вывода, сделанного при специальной обстановке его экспериментов. [469]469
Ibid., стр. 86.
[Закрыть]
Совершенно, однако, иначе рассуждает Мессер, сравнивая между собою ощущения и представления, с одной стороны, и восприятия мышления—с другой. В то время как невоззрительное понимание слова составляет еще вопрос, хотя, по–видимому, и решенный в положительном смысле, и в то время как представление, прибавляясь к простому пониманию (ср. ссылку Мессера на различение Bedeutungsintention u. Bedeutungserfullung у Гуссерля) [470]470
Ibid., стр. 85, прим. 2. Husserl. Log. Unters. II, стр. 23 ff.
[Закрыть], действует не иначе как объясняя [и более точно определяя «смысл», Мессер ставит между «представлениями» и «мышлением» целую пропасть, утверждая, что «если исследуются ощущения по их качеству, интенсивности, пространственным и временным свойствам, по их различимости от других ощущений и т. д., то эти ощущения ничего не значат [471]471
Разрядка'Мессера.
[Закрыть], они присутствуют просто как содержания сознания в том или другом свойстве, они сами—предмет моего внимания, о них нужно делать высказывания» [472]472
Archiv… стр. 112.
[Закрыть]. Никак нельзя понять, почему же рассмотрение «представлений» не может пригодиться для «мышления» и почему вдруг они «ничего не значат», в то время как, по выражению самого Мессера, «если бы взрослый человек был принужден только к вербальному (в понятиях) пониманию (Erklarung), то слова никогда не получали бы для него смысла не имея воззрения (Anschauung), мы можем говорить о предмете так же, «как слепой о краске» («wie der Blinde von der Farbe»)» [473]473
Ibid. стр. 84.
[Закрыть]. Что при рассмотрении «чувственного» материала и «невоззрительного» могут быть или должны быть разные способы изучения и разные точки зрения—это другой вопрос; мы констатируем только то, что у Мессера неясно проведена разница между этими точками зрения и что она у него является немотивированной.
Всматриваясь ближе в сделанное сопоставление и имея в виду общее учение Мессера о невоззрительных переживаниях, можно убедиться, что во всем этом кроется, как сказано, многозначность, большею частью не осознанная, фундаментального понятия—сознания. В цитате о различии точек зрения на мышление и представление как раз употреблено в этом неопределенном смысле выражение «содержание сознания» (Messer, стр. 112); сказано, что ощущения и представления «присутствуют просто как содержания сознания». Это можно понимать во всех тех смыслах, которые устанавливает Гуссерль для «содержания сознания» (кроме, может быть, смысла «предмет»), стараясь формулировать всю многозначность и противоречивость этого выражения [474]474
Husserl. Log. Unters. II, стр. 52.
[Закрыть]. Это может быть сознанием и в эмпирически–реальном, дескриптивно–психологическом смысле, и в смысле логическом, или интенционалыюм, идеальном, причем этот последний в свою очередь допускает еще три разных понимания. Мы не знаем, что, собственно, имеет в виду Мессер, говоря, что представления суть просто содержания сознания, и как соединяет с этим то, что они «ничего не значат». В «Empfindung u. Denken», где он во многом будет точнее, он ясно говорит, что и в случаях образного представления предмета есть своя интенция, обусловливающая собою то, что здесь у нас не просто «комплекс вторичных элементов», но именно «подразумевание» такого–то предмета [475]475
Messer. Empf. u. Denk., стр. 91 f.
[Закрыть]. Если же в «представлении» есть своя интенция, то никак нельзя сказать, что изучение «представлений» ничего не значит для анализа «мышления». Иначе Мессер обязан дать другие точки зрения на этот предмет. Невоззрительная «направленность» настолько же может принадлежать «сознанию», насколько и образность.
Таким образом, мы лишены у Мессера точного и ясного ответа на вопрос о репрезентации понятий в сознании. Мы не знаем: 1) может ли понятие в полной мере рецрезентироваться без помощи воззрений; 2) реально ли психическое есть та «неконкретность», которая репрезентирует значение, или же это идеальная «направленность» Гуссерля; 3) чем будет отличаться эта «неконкретная» репрезентация от прочих переживаний, если она есть такое же реально–психическое нечто, как и все принадлежащее к потоку сознания, и где тогда критерий для отличения репрезентации понятия от репрезентации «представления», которое тоже ведь может быть «направлено» на предмет?
В учении о суждении мы находим у Мессера новость по сравнению с Марбе, Кюльпе и Уоттом—именно признается в качестве специфического психологического признака суждения интенциональное отношение к предмету. Согласно со сказанным выше, intentionale Beziehung Мессера допускает различное толкование, и прежде всего возможны те два, которые противостоят друг другу как реально–психическая направленность, протекающая в известное время, и идеальная направленность, независимая от каких–нибудь «реальных» определений и имеющая чисто логический характер. Соответственно с этим существенно различные формы принимает и все учение о суждении. Хотя здесь и попадаются ссылки на Гуссерля, но Гуссерль здесь ни при чем, так как вся суть «направленности» последнего в том, что они «нереальны», но идеальны, чтб в особенности подчеркивает сам Гуссерль, критикуя психологов, «овеществляющих» сознание [476]476
В общей форме это очень ярко выражено в «Философии как строгой науке». В применении же к частному учению, именно к Брента–но, очень отчетливо разделяются «идеальный» и «реальный» смысл «интенции» в «Log. Unters.». II, стр. 350 ff.
[Закрыть]. По Мессеру же, они суть психологические признаки, так как, по его собственному заявлению, логические и гносеологические вопросы его вовсе здесь не интересуют [477]477
Archiv… стр. 114.
[Закрыть]. Однако такая «психологизация» интенциональной «направленности», если не предложено формулы перехода от логики к психологии—а у Мессера она не предложена, – влечет за собой новые вопросы или, лучше сказать, опять все те же старые вопросы: а как психическое состояние имеет значение, как оно «отнесено к объекту», как репрезентируются в сознании понятие, суждение и т. д.?
И Гуссерль нисколько не помогает Мессеру, Мессер знает и сознательно проводит только разницу между «конкретным» и «неконкретным», в изложении которой он не хочет выходить за пределы психологии; Гуссерль же учит совершенно о другом, именно не о разнице «конкретного» и «неконкретного» (оба они ведь «реальны», т. е. психичны, и оба могут иметь смысл), но о разнице явления и смысла, в каковом различении коренится истинная антитеза реально–психологического факта и идеальнофеноменологической «сущности» этого факта. Понявши Гуссерля чисто психологически (а надо так его понимать или не надо—этого можно пока и не касаться), Мессер не учел, конечно, того логического, в чем Гуссерль полагает всю суть своих «сущностей» и «направленностей»; вследствие этого Мессеру приходилось только колебаться между разными смыслами этих понятий и тем самым удаляться от определенного решения проблемы суждения.
Относительно психологической классификации суждений у Мессера надо помнить отмечаемый и самим Мессером логический ее характер. Нас завел бы слишком далеко анализ каждого разделения, входящего в эту классификацию, если бы мы захотели точно отделить чисто логические и чисто описательные элементы в ней. Но преобладающее логическое их значение и неучет реальнопсихологической процессуальности, которая присуща суждениям наряду с прочими состояниями сознания, делают классификацию Мессера лишь пропедевтической, неполной [478]478
Неполной–помимо той неполноты, которую охотно* как было сказано раньше, признает сам Мессер, ограничивая свою классификацию условиями произведенных им экспериментов.
[Закрыть]и даже проблематической.
Не рассматривая суждений на фоне общей психической процессуальности, он иногда делает такие различения, которым не может быть отведено безусловное и постоянное место. Возьмем, например, один из протоколов, приводимый Мессером для иллюстрации своего понятия синтетического суждения.
Vp. Ill (назвать любое прилагательное к данному раздражителю). «Собор» – «готический» (Время: 2151 σ): «Оптическое представление высокого церковного фасада, в котором вход был помещен в башне (как в Ульмском соборе); но определенный собор не имелся в виду. Тотчас же появилось: «высокий». Думал: собор имеет стиль; сказал: «готический». Этот признак не был выражен в образе. Он последовал уже потом; я мог соединить его с этим образом, но первоначально его не было. Не было вначале никакой имманентности предиката субъекту. Предикат имел вообще более характер понятия и в первый раз был оправдан только позже» [479]479
Ibid., стр. 123.
[Закрыть]. Справедливо замечает по поводу этого протокола Рейхвейн, что здесь нельзя видеть специфически синтетического суждения, потому что для суждения важно не первоначальное представление «собора», но важен момент появления самого суждения [480]480
Reichwein. Die neuer. ijnters., стр. 60.
[Закрыть]. А приведенный протокол как раз и показывает, как изменялся «субъект» при воспоминании о том, что собор имеет какой–нибудь стиль. Таким образом, неясно, почему же это суждение нужно называть «синтетическим», если в потоке переживания признаки поэтического стиля уже становятся присущими понятию собора. А таковы и прочие протоколы Мессера.
Логическим называет мессеровское деление суждения и Бюлер в своей критике на исследование Мессера [481]481
Archives de psychol. Т. VI. N 4 (1907), стр. 379.
[Закрыть].
Интересно, что ответ Мессера [482]482
Messer. Bemerkungen zu meinen. – Exp. – Psych. Unters. ub. d. Denken. Arch. f. d. Ges. Psych. Bd. X (1907), стр. 420.
[Закрыть]на это возражение уже опирается на единство логических и психологических основ суждения.
Равным образом логично, т. е. не принципиально в психологическом смысле, и разделение мышления на gegenstandliches u. begriffliches [483]483
Предметное и понятийное (нем.).
[Закрыть]. Ведь сам Мессер говорит о различных степенях ясности представлений, о различном их развитии, «распускании» в сознании. Почему же эти два рода мышления не могут быть только разными степенями одного и того же явления, если одним из главных признаков «мышления о предметах» как раз является наличность зрительного представления, отсутствующего или недостаточно выраженного в «мышлений о понятиях». Кроме того, по мнению самого Мессера, мышление в том или другом роде зависит от действия различных «задач» [484]484
Archiv… стр. 159.
[Закрыть], а «задача» как чисто формальное предопределение данного ряда переживаний вовсе еще не предусматривает различия между более или менее воззрительным характером в этих переживаниях, а тем более не может класть между ними принципиальное различие. В реальном потоке сознания различные степени «воззрительности» перемешиваются между собою в самых разнообразных пропорциях, и только логически можно говорить о gegenstandliches u. begrifffiches Denken как о двух принципиально отличных типах сознания.
Что касается уже знакомого нам понятия «Bewusstseinslage», то Мессер в его употреблении остается все при тех же неясностях, которые мы раньше констатировали в общей форме. Именно, с одной стороны, Bewusstseinslage есть среднее между формой в обычной речи, когда мы произносим вполне осмысленно слова, не реализуя, однако, образы в сознании, и между теми случаями, когда «сознание значения» дано в яркой оптической или вообще в чувственной форме [485]485
Ibid., стр. 176.
[Закрыть]. Здесь, таким образом, Bewusstseinslage есть известная степень образности. С другой стороны, это «положение сознания» трактуется как unanschauliches Wissen [486]486
Не имеющее наглядности знание (нем.).
[Закрыть] [487]487
Ibid., стр. 175, прим. 2.
[Закрыть]; кроме того, по Мессеру, существуют еще, напр., Bewusstseinslage logischer Веziehungen, которые уже по самой своей сути могут допустить только случайную образность, не необходимо присущую им. – Затем едва ли стоит упоминать о том, что классификация Bsl. опять–таки насквозь логична, так как определение их как «знания» о том–то еще не характеризует положения и процессуальной структуры их в сознании, что единственно и могло бы ввести эти Bsl. в область подлинной психологии. Ссылка же на «интеллектуальный» и «аффективный» характер Bsl. не выходит за пределы традиционного и чисто относительного деления психических процессов на ум, чувства и волю (у Мессера последние две области отожествляются).
Резюмируя все сказанное о Мессере, получаем следующие пункты.
1) Исследование Мессера, продолжая Уотта, отличается широтой и разнообразием тем, отчасти введением новых вопросов; у него, между прочим, одно из первых мест занимает проблема «неконкретности», еще не поставленная у Марбе и Уотта.
2) Теория самонаблюдения у Мессера, поставленная им в первую голову, решается не совсем удовлетворительно ввиду смешения того, что по–немецю! можно было бы назвать «Bewusstheit» и «Gewusstheit», – в одном термине «Bewusstsein».
3) Не способствует ясности и та конкретная характеристика Wissen, которую можно было бы дать вообще, так как тогда придется, – в силу особенностей постановки проблемы у Мессера, – смешать самонаблюдение как метод и как переживание в одно недопустимое единство.
4) Явление «ретроспективного рассматривания» не решает проблемы самонаблюдения, так как вопрос о возможности одновременного переживания и наблюдения остается и здесь.
5) Подобно термину «Bewusstsein» страдает эквивокацией и термин «Intention». Мессер смешивает в нем: 1) «низшую степень представления», 2) реальное психическое направление процесса и 3) идеальную направленность в смысле Гуссерля.
6) Соответственно с этим затемняются и учения Мессера о репрезентации понятий, об интенциях и о двух родах мышления.
7) Ссылки на Гуссерля плохо помогают Мессеру, так как основное различение, делаемое последним, именно: образное и без–образное—ничего общего не имеет с основным противопоставлением у Гуссерля явления и смысла.
8) Можно сказать, что исследования Мессера вращаются в сферах, очень близких к истинной психологии мышления, на что косвенным указанием может служить сознательная опора его на Гуссерля. Но что касается фактического состояния проблем и выводов у него, то они полшл неточностей и неясностей, сводящих все дело почти к нулю.
XVI. УЧЕНИЕ БЮЛЕРА О МЫШЛЕНИИ.Усложнение задач и исследование мышления вообще. «Вчувствование» в протоколы. Объективный контроль. «Составные части» переживания. Предварительное определение «мыслей». «Теория сгущения» и «теория возможности». Типы «мыслей»: а) «сознание правила», b) «сознание отношения» и с) «интенция». Интенция как противоположность «качественной определенности» (Wasbestimmtheit). Прямое и непрямое «подразумевание» (Meinen). «Знание». Связи и воспоминания «мысли».
Дальнейший шаг в развитии экспериментальной психологии мышления сделали (1907) исследования Карла Бюлера (Buhler): «Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgange». [488]488
Arch. f. d. Ges. Psych. Bd. IX, Heft. 4.
[Закрыть].
Бюлер всецело продолжает вюрцбургские эксперименты, как об этом он сам говорит [489]489
Ibid., стр. 300.
[Закрыть]. В двух направлениях его опыты отличаются от предшествующих. Во–первых, несколько иной у него объект исследования. Он старается усложнить задачу, которую раньше его давали своим испытуемым Марбе, Ах и Мессер. Когда дают задачу 3x8 или доказать «знаменитую смертность человека тая», то вызываемый этим у испытуемого процесс слишком бледен и неясен, чтобы можно было его наблюдать со всех сторон. Только тонкости самонаблюдения испытуемых, бывших хорошими психологами, обязаны мы тем ценным, что дали предшествующие опыты. Поэтому Бюлер в своих экспериментах дает не задачу 3 χ 8, а какой–нибудь яркий афоризм из Ницше или какой–нибудь сложный философский вопрос. С постановкой такой более трудной задачи связывались следующие две особенности опытов: 1) внимание испытуемого никогда не рассеивалось, а концентрировалось уже самой задачей (почему не нужен был еще отдельный акт спонтанного направления внимания на переживаемые процессы); и 2) не нужен был хроноскоп вследствие продолжительности процесса; его заменял секундомер, который в смысле упрощения лабораторной обстановки был, по Бюлеру, гораздо лучше хроноскопа [490]490
Ibid., стр. 301—303.
[Закрыть]. Вторую отличительную черту своих экспериментов от предшествующих Бюлер видит в том, что он не хочет исследовать отдельных умственных процессов, как, напр., суждение, понятие, умозаключение. «Кто может поручиться за то, что суждение и понятие суть такие определения, что к ним привходит «ще и психологический способ рассмотрения мыслительных процессов?» Бюлер ставит, таким образом, общий вопрос: «Что переживаем мы, когда мыслим?» [491]491
Ibid., стр. 303.
[Закрыть]
Вот несколько задач, предложенных Бюлером в его экспериментах:
1) Когда Эйкен говорит о всемирно–исторической апперцепции, знаете, что он здесь имеет в виду?
2) Знало ли средневековье о пифагорейском учении?
3) Считаете ли отдельное изложение психологии Фихте за плодотворную работу?
4) Может ли атомистическая теория в физике быть когда–нибудь опровергнутой путем каких–нибудь открытий? [492]492
Ibid., стр. 304.
[Закрыть]
Подобные вопросы читались экспериментатором перед испытуемым, который отвечал на них «да» или «нет», после чего записывались его показания в протокол.
Бюлер знает о трудностях и недостатках метода самонаблюдения. «Психический процесс не есть пластический образ, перед которым вы стоите» [493]493
Ibid., стр. 307.
[Закрыть], и потому всегда возможны неточности описания и неполнота. Однако эта особенность опытов (которая есть и в других пунктах) в психологии мышления дополняется тем, что самый предмет исследования недоступен в конкретной форме экспериментатору. Нужно вчувствоваться в те показания, которые дает испытуемый, и оживить мертвые буквы протокола своим собственным конкретным опытом [494]494
Ibid., стр. 308 f.
[Закрыть]. Бюлер пытается установить и понятие объективного контроля над показаниями испытуемых. Объективным контролем является прежде всего имманентная непротиворечивость показаний. Но в настоящем смысле таковой достигается лучше всего в «опытах с воспоминаниями». Этим «мы достигаем наилучшего объективного контроля, который вообще только достижим» [495]495
Ibid., стр. 306 f.
[Закрыть].
Переходя к оценке своих протоколов, Бюлер покидает, однако, генетическую точку зрения на предмет и задается целью исследовать мыслительные процессы не «как части процесса», а «как чистые модификации сознания». Другими словами, «каковы составные части наших мыслительных переживаний?»
Первой такой составной группой являются чувственные представления, «являются ли они представлениями вещей или же представлениями слов, – -в оптической, акустической и сенсомоторной области». Сюда же относятся чувства и те состояния сомнения, удивления, обдумывания, ожидания и проч., которые Марбе назвал «положениями сознания». Но это еще не все. «Важнейшими частями переживания является нечто такое, что совершенно не затрагивается теми категориями, через которые могут быть определены эти образования (т. е. чувственные представления)… нечто, что прежде всего не обнаруживает никакого чувственного качества, никакой чувственной интенсивности… Нечто, по отношению к чему было бы бессмыслицей определять, большей или меньшей интенсивностью оно обладает и в какие чувственные качества оно разрешилось бы». Это то, что Ах назвал Bewusstheiten и Бинэ «мыслями». [496]496
Ibid., стр. 315.
[Закрыть]
Если бы мы, говорит Бюлер, задались вопросом о том, что же является психическим коррелятом того идеального, что мы изучаем в логике, или, другими словами, «как распределяется между представлениями и мыслями функция носительстеа мыслительного содержания и как обе эти группы относятся одна к другой», то нужно было бы выбрать именно эти «мысли» [497]497
Ibid., стр. 317.
[Закрыть]. «Достаточно взглянуть на протоколы, – пишет Бюлер, – чтобы сказать: «Все то, что появляется в сознании так фрагментарно, так спорадически и так всецело случайно, как эти представления в наших переживаниях мышления, – никогда не может считаться носителем этого прочно установленного и непрерывного мыслительного содержания»» [498]498
Ibidem.
[Закрыть]. Истинное мышление, таким образом, существенное в мышлении есть, по Бюлеру, именно эти «мысли», «не имеющие никакого указуемого следа каких–либо воззрительных оснований» (ohne jede nachweisbare Spur irgend einer Anschauungsgrundlage) [499]499
Ibid., стр. 318.
[Закрыть].
Бюлер приводит такие показания в качестве примера.
(Правильно ли?) «Будущее есть такое же условие настоящего, как и прошедшего. – Нет (10»)—Сначала я думал: это звучит как нечто правильное (без слов). Потом я попробовал представить себе это. Пришла мысль: люди определяются по своим мыслям о будущем. Но потом вдруг мысль: нельзя смешивать мысль о будущем с самим будущим… но что такие смешения часто образуют в философии неудачные скачки (при всем этом не было ни малейшего следа слов или представлений). Отсюда ответ: нет…»
Другой пример, приводимый Бюлером. (Понимаете ли?) «Оплодотворять прошлое и творить будущее—вот мое настоящее». – Да (12»)—Сначала были поняты только отдельные слова без понимания целого. Думал: как бы это мне начать? (Внутренняя речь.) Потом пришло сознание, в котором было определено, как можно было бы достигнуть понимания (это было настоящее знание: я знаю, как это сделалось). Затем я перешел к первой части с вопросом (непроизнесенным), как относится «оплодотворять» к «создавать». В качестве ответа прошла мысль: из прошлого образуется будущее. Вместе с тем мысль: это очень хорошая задача для настоящего, хорошее выражение для того, что делает историк (причем ничего не было выговорено, н без всяких представлений). [500]500
Ibid., стр. 318 f.
[Закрыть]
Во всех этих протоколах часто встречаются слова: «внутренняя речь», «внутреннее произношение» и т. д. Бюлер настойчиво утверждает, что процессы, так именуемые в протоколах, вовсе не есть какие–нибудь необходимые элементы «мысля». Мысли всегда лишены «конкретности» (Anschaunngslos). В особенности исследователи речи и языка способствовали распространению ложного мнения о «конкретности» мышления. Хорошо, по мнению Бюлера, возражает им Б. Эрдманн, различающий в понятии бессловесного мышления – «дословесное и сверхсловесное мышление (vorsprachliches und йbегsprachliches Denken), смешением чего и страдают многие психологи языка» (Erdmann В. Logik. I, стр. 2—4) [501]501
Ibid., стр. 320.
[Закрыть]. Бюлер не отрицает значение языка для мышления, но оно, по его мнению, несущественно. Принципиально говоря, всякий индивидуальный предмет, всякий нюанс его, всякая синяя краска на картине—все это может быть понято и пережито абсолютно без всяких конкретных, чувственных данных. Внутренняя речь фактически выступает главным образом только тогда, «когда ставят себе проблемы, вопросы или когда есть стремление фиксировать мысли или приготовить их для выражения себе самому или другим» [502]502
Ibid., стр. 322.
[Закрыть]. Но распространять внутреннюю речь на все мышление и считать его существенным признаком последнего, это значит отказаться от прямого наблюдения фактов и всецело оставаться в пределах «экспериментов письменного стола» (Schreibtischversuche). Психологический сенсуализм есть именно результат таких «экспериментов»; их – «от Локка до Вундта» – фактический анализ сознания должен счесть за абсолютно ложные [503]503
Ibid., стр. 323.
[Закрыть].
Прежде чем рассмотреть подробнее открытые им «мысли», Бюлер полемизирует с двумя теориями мышления и дает короткий очерк возможных путей исследования мыслительных процессов в его экспериментах. Две ложных теории мышления—это «теория сгущения» и «теория возможности» (Verdichtungstheorien und Moglichkeitstheorien). Первая из них объясняет то, что Бюлер называет «неконкретными» мыслями, укорочением и сгущением ряда представлений в одно целое, что и меняет их первоначальный вид. Вторая же теория ищет объяснения для «неконкретности» – в бессознательном; неконкретное, по этой теории, есть то, что возбудилось уже в сфере бессознательного и что готово появиться в поле сознания. Главный ответ Бюлера на эти теории заключается в том, что относительно первой «непонятно, каким образом с укорочением и ускорением процессов представления, что ведет за собой механизацию последних, связывается изменение в законах их существования (Gesetzlichkeit)»; как бы ни изменялись представления, они всегда останутся представлениями [504]504
Ibid., стр. 328.
[Закрыть]. Относительно же второй теории надо помнить, что всегда «мысль есть действительное состояние сознания» [505]505
Ibid., стр. 325.
[Закрыть], а вовсе не какоенибудь темное и неясное; с точки зрения «теории возможности» нужно было бы сказать: «сознание в возможности, будущие представления или бессознательные диспозиции есть мысль, действительно существующая в сознании (ist der bewusstseinswirkliche Gedanke)» [506]506
Ibid., стр. 326.
[Закрыть], что, однако, не утверждается, а говорится, что эти возможности бросают какой–то свет в сознание и что это и есть мысль.
Приступая к изучению «типов мысли», Бюлер устанавливает три возможных метода. Первый заключается в различениях и разложениях материала с точки зрения самих испытуемых. Это разложение испытуемый предпринимает без всякой оглядки на свои более ранние высказывания, т. е. в каждом протоколе снова [507]507
Ibid, стр. 330 f.
[Закрыть]. Второй метод есть метод непосредственного усмотрения начала мыслей в сознании. Мысли и все прочие переживания требуют для себя известного времени. Их возникновение и протекание, бросает свет и на самую структуру уже готовых мыслей. Третий метод опирается на опыты с воспоминаниями. «Память есть реальный анализатор», и иногда она сохраняет самое важное из пережитого, отбрасывая побочное и случайное [508]508
Ibid., стр. 333.
[Закрыть].
Бюлер устанавливает три основных типа «мыслей». Первый тип – «сознание правила» (Regelbewusstsein).
На вопрос: «Когда Эйкен говорит о всемирно–исторической апперцепции, можете ли вы знать, что он здесь имеет в виду?» – испытуемый Кюльпе дал следующий протокол: «Да (14»). – У меня была сначала тенденция ответить отрицательно, потому что сам я еще не нашел этого понятия у Эйкена. Но потом вдруг возникло в сознании: смысл этого понятия можно определить и не зная эйкеновского», и т. д.
«Знало ли средневековье пифагорейское учение?» – «Да (8»). – Это был случайный ответ; я должен смеяться над своим состоянием. Сначала я вспомнил, что пифагорейское учение было–в древности и что, следовательно, средневековье могло о нем знать. Затем подумал я: я не знаю никакого для последнего доказательства и имел тенденцию сказать поп liquet. Потом появился смысл: если ничего об этом не знают, то это станет известным (все это в одном акте сознания), и после этого сказал «да»» [509]509
Ibid, стр. 334.
[Закрыть].
«Сознание правила» есть осознавание (Bewusstwerden) метода разрешения задачи. «В типических случаях переживание содержит не только знание, как решается эта отдельная задача, но знание, как решаются вообще такие задачи; это высказанное правило решения, становящееся сознанием» [510]510
Ibid., стр. 335.
[Закрыть]. Но так как «я могу иметь в виду правило так же, как и «всякий другой «предмет», то нужно помнить, что «сознание правила» не есть это мышление правила, но мышление по этому правилу или в этом правиле» [511]511
Ibid., стр. 340 f.
[Закрыть]. Предметом «сознания правила» является вовсе не правило, а предмет, объективное, к которому это сознание относится.
Бюлер подчеркивает огромную роль этих «сознаний правила» в нашем мышлении. Исключительно важное значение принадлежит им в математике и вообще в длинных дедукциях. Яснее всего это видно в психологии мышления математических функций. Так, положение об убывании с квадратом расстояния, не имеющее в виду конкретных явлений, есть именно это «правило». Другую сферу «сознаний правила» составляют т. н. качества формы (Gestaltqualitaten). Когда разрозненные линии вдруг кажутся мне составляющими квадрат, то здесь я переживаю «смысл» появившейся у меня в сознании фигуры, который «во всех таких случаях есть нечто принадлежащее к «мысли» (etwas Gedankliches), во многих же—не что иное, как его закон» [512]512
Ibid., стр. 341 f.
[Закрыть]. Наконец, эти «сознания правила» постоянно действуют в нашей речи, напр. когда мы, имея в сознании грамматический строй фразы, стараемся эту фразу высказать.
Второй главный тип «мыслей» есть «сознание отношения» (Beziehungsbewusstsein). Этот второй тип гораздо менее самостоятелен, чем первый. «Сознание отношения» может быть как между отдельными мыслями, так и в пределах одной и той же мысли. Если, напр., у испытуемого после вопроса: «Как может червь в пыли высчитывать, куда направит свой полет орел?» – совершенно ничего в сознании не осталось, кроме мыслй о том, что здесь речь идет о каком–то противоположении, то ясно, что это «сознание отношения» входило как момент и в самое переживание. В протоколах довольно часты такие воспоминания: тут вопрос касался выбора: или—или или вспоминается «последовательность», «противоположность», «два координированных члена» и т. д. Часто указания на эти «сознания отношений» присутствуют в протоколе потому, что они сами собой разумеются и испытуемые не говорят о них как о неважном. Так, был вопрос: «Верно ли, что утверждение или отрицание того положения, что подобие есть частичное равенство, разделяет два мировоззрения?» Испытуемый говорит: «Сначала я думал о монизме и дуализме, но это не удалось выполнить»… и т. д. Очевидно, что он думает здесь не просто о монизме и дуализме, но. в их отношении к данной ему фразе [513]513
Ibid, стр. 343.
[Закрыть]. Как и по поводу «сознаний правила», Бюлер отмечает, что «сознание отношений» не просто имеется в виду (gemeint), но и переживается; оно адекватно присутствует в сознании [514]514
Ibid, стр. 346.
[Закрыть].








