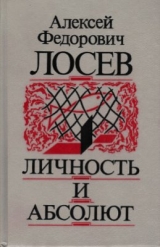
Текст книги "Личность и Абсолют"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 54 страниц)
Учение Гуссерля об абстракции. Разделение смысла и явления как основной пафос теории абстракции Гуссерля. Учение Джемса о потоке сознания. Текучесть как главный пункт этого учения. Необходимость соединения учений Гуссерля и Джемса для концепции непосредственной данности. Две поправки к теории Гуссерля: а) о «несуществовании» «смыслов» и b) о разделимости феномена интенции на «акт», «смысл» и «предмет».
Два замечательных имени да будут нашими путеводными знаками. Нам нет надобности присоединяться к Гуссерлю и Джемсу вполне, тем более что не только это были бы две едва ли как–нибудь примиримые величины, но и каждый из этих философов в отдельности едва ли не вызовет в нас недоумений, если относиться к ним во всей полноте и цельности их воззрений. Но теория абстракции Гуссерля и учение о потоке сознания Джемса должны быть поставлены во главу уже всякого психологического и гносеологического исследования. Другой вопрос, конечно, как эти два учения соединить. Но мы сейчас увидим, как невозможно без этих учений построить хоть скольконибудь основательную концепцию непосредственной данности.
Беря познавательнбе переживание во всей его общности и полноте, Гуссерль различает в нем следующие явления. – Всякое выражение может быть рассматриваемо: 1) именно как выражение, выражание и 2) с точки зрения того, что выражено. Но и эта вторая точка зрения неоднозначна. Здесь могут иметься в виду: 1) физическое явление, конструирующее данное выражение, и 2) «акты, дающие этому выражению значение, и прежде всего конкретную полноту у и в которых конституируется отношение к выраженной предметности». «Благодаря этим последним актам выражение есть нечто больше, чем звук. Звук этот нечто «имеет в виду» (meint) и в то же время, как он нечто «имеет в виду», он относится к предметному» [102]102
Log. Unters. II, стр. 37.
[Закрыть]Но Гуссерль идет дальше. Среди актов понимания значения слов надо различать: 1) те, которые существенны для выражения, поскольку оно еще вообще должно быть выражением, т. е. осмысленным словесным звуком,·—их Гуссерль называет «актами, ссужающими значение» (bedeutungsverleihende Acte) или просто «интенциями значения», «обозначительными интенциями» (Bedeutungsintention); 2) те, которые дают значение слову не как комплексу известных звуковых и пр. явлений, но слову как имеющему то или другое логическое значение, – их Гуссерль называет «актами, наполняющими значение» (bedeutungserfullende Acte) или просто «наполнениями смысла» (Bedeuteungserfullung) [103]103
Ibid., стр. 38.
[Закрыть].
До сих пор Гуссерль рассматривал «осмысленное выражение как конкретное переживание». Но если обратиться «от реального отношения актов к идеальному отношению их предметов» [104]104
Ibid., стр. 42.
[Закрыть]принять во внимание, что выражение «не только имеет свое значение, но и относится к известным предметам [105]105
Ibid., стр. 46.
[Закрыть], то мы должны будем сделать еще несколько очень важных различений. Обыкновенно эти различения путаются в многозначном и неясном термине «содержание». Именно, содержание выражения может быть 1) значением просто, идеей значения, идеальным актом понимания значения, 2) содержанием, наполняющим данный смысл, «идеальным коррелятом предмета—в конституирующем его акте наполнения значения», и 3) содержание может быть самим этим предметом, который имеется в виду в выражении [106]106
Ibid., стр. 50 ff.
[Закрыть]. Эти дистинкции идеального порядка находят свое оправдание в том, что на деле, напр. в математике, мы оперируем вовсе не с реальными вещами, не с этим нарисованным кругом, который фактически всегда будет неправильным кругом, но с идеальным, везде, всегда и всеми понимаемым одинаково, т. е. идеально [107]107
Ibid., стр. 42—48, 77—96, 99 ff.
[Закрыть].
Нельзя короче и точнее характеризовать квинтэссенцию всей феноменологии Гуссерля, [чем ] как противопоставление смысла и явления. Ведь пафос теории абстракции Гуссерля заключается в проповеди идеальных основ знания, не подверженных влиянию со стороны текучего становления эмпирически–психологических фактов. И хотя бы в такой общей форме, как мы их изложили выше, идеи Гуссерля надо принять. Здесь только дотеоретическое констатирование фактов.
Но, утвердивши идеальность знания, Гуссерль не имеет в виду утверждать что–либо относительно, так сказать, эмпирической стороны сознания. Идеальные «смыслы» и «предметы» помещены Гуссерлем в недосягаемой для эмпирии высоте. И с этих высот Гуссерль принципиально не желает сходить. Однако общего описания этой, так сказать, эмпирии мы можем от Гуссерля и не ждать, так как оно гениально было начертано за пять лет до второго тома «Logische Untersuchungen» у Джемса.
Для характеристики цельности и нераздробленности сознания на части Джемс не хочет употреблять даже такие сравнения, как «цепь» или «ряд» психических явлений. Всего естественнее, по Джемсу, применить к нему метафору «река» или «поток» [108]108
Джемс. Психология. Пер. И. И. Лапшина. СПб., 1911. Стр. 131.
[Закрыть]. Четыре основных свойства сознания служат как бы характеристикой этого «потока сознания»: «1) каждое «состояние сознания» стремится быть частью личного сознания; 2) в границах личного сознания его состояния изменчивы; 3) всякое личное сознание представляет непрерывную последовательность ощущений; 4) одни объекты оно воспринимает, другие отвергает, вообще все время делает между ними выбор» [109]109
Ibid., стр. 125.
[Закрыть]. «Тождествен воспринимаемый нами объект, а не наши ощущения» [110]110
Ibid., стр. 127.
[Закрыть]. «Чувствительность наша изменяется в зависимости от того, бодрствуем мы илй нас клонит ко сну, сыты мы или голодны, утомлены или чувствуем себя бодро; она бывает различна днем и ночью, зимою и летом, в детстве, в зрелом возрасте и в старости. И тем не менее мы нисколько не сомневаемся, что наши ощущения раскрывают перед нами все тот же мир, с теми же чувственными качествами и с теми же чувственными объектами» [111]111
Ibid., стр. 128.
[Закрыть]. То же самое надо сказать и о сложных мыслях и убеждениях [112]112
Ibid., стр. 129 и сл.
[Закрыть]. «Неизменно существующая идея, появляющаяся от времени до времени перед светом нашего сознания, есть фантастическая фикция» [113]113
Ibid., стр. 130.
[Закрыть]. Можно говорить только о более или менее «устойчивых» и «изменчивых» состояниях сознания [114]114
Ibid., стр. 132 и сл.
[Закрыть]. Джемс вводит, кроме того, интересное понятие «психические обертоны»; это есть «сознавание… отношений, сопровождающее в виде деталей данный образ» [115]115
Ibid., стр. 137.
[Закрыть]. Так, если три лица одно за другим крикнут нам: «Ждите!», «Слушайте!», «Смотрите!», то «наше сознание в данном случае подвергается трем совершенно различным состояниям ожидания, хотя ни в одном из трех случаев перед ним не находится никакого определенного объекта» [116]116
Ibid., стр. 135.
[Закрыть]. Равным образом, схватывая впервые смысл фразы, мы еще не имеем почти никаких чувственных образов; «это—совершенно своеобразное ощущение». «Я стремлюсь главным образом к тому, чтобы психологи обращали особенное внимание на смутные и неотчетливые явления сознания и оценивали по достоинству их роль в душевной жизни человека» [117]117
Ibid., стр. 136.
[Закрыть]. «Всякий определенный образ в нашем сознании погружен в массу свободной, текущей вокруг него «воды» и замирает в ней» [118]118
Ibid., стр. 137.
[Закрыть]. Эти обертоны, эту кайму и надо иметь в виду при суждениях о «потоке» сознания.
Гуссерль и Джемс описали два мира, хранящиеся в нашем сознании: мир «значимостей», идеальной «предметности» и мир эмпирического становления. И как Гуссерль не хочет заниматься эмпирическим становлением и упорно отделяет свою феноменологию от психологии, так и Джемс, утвердивши, что познаваемое нами в качестве тождественного всегда познается нами в новом состоянии сознания, отказывается от объяснения этого факта («психология самонаблюдения должна отказаться от выяснения этого факта» [119]119
Ibid., стр. 206.
[Закрыть]), т. е. тоже отделяет свою психологию от того, что можно было бы вслед за Гуссерлем назвать феноменологией или просто логикой.
А между тем только в соединении того, что Джемс называет «водой», этого текучего, так сказать, вещества сознания, с тем, что Гуссерль называет «смыслом», и состоит то, что мы могли бы назвать подлинной непосредственной данностью.
В этом соединении в особенности гуссерлевские концепции претерпевают некоторые, по виду весьма существенные, перемены; о них тотчас. Но мы могли бы напомнить то, что у Гуссерля, собственно говоря, ничего цельного еще пока нет. В сущности, Гуссерль никакой гносеологии и никакой психологии еще не создал; а феноменология его только намечена. Поэтому чрезвычайно трудно как излагать Гуссерля, так и найти в нем что-нибудь цельное, органическое. «Излагать Гуссерля, – пишет С. А. Аскольдов, – дело по существу неблагодарное, потому что у него, кроме различных отдельных соображений и мнений, иногда удачных, иногда неудачных, не имеется никакого органического деляга, никакого ясного взгляда на сущность познания» [120]120
С. А. Алексеев (Аскольдов). Мысль и действительность. М., 1914. Стр, 354.
[Закрыть]. Все это побуждает в различных наших дополнениях и изменениях гуссерлевских концепций «смысла» не отмежевываться от Гyccepля абсолютными границами. Весьма возможно, что к каким–нибудь из этих точек зрения придет и сам Гycсерль, если захочет дать настоящую систему философии или гносеологии. Но пока, в ожидании от Гуссерля второго и третьего тома его «Ideen» (обещанных им в «Ideen» I, стр. 5), попытаемся сами устранить некоторые неясности в концепции «смысла» и поставить все это в связь с нашим понятием первичной, непосредственной данности.
Во–первых, одна из особенностей феноменологических концепций Гуссерля—это энергичные ссылки на «несуществование» идеальных «смыслов» и «предметов», ссылки настолько же странные, насколько и немотивированные. Пусть, говорит Гуссерль, я представляю себе бога Юпитера; это не значит, что бог Юпитер существует у меня в сознании; «имманентный», «ментальный» предмет, значит, не принадлежит к дескриптивному составу переживания; он на самом деле, значит, вовсе не имманентен или ментален; но он, конечно, не существует также и extra mentem [121]121
Вне разума (лат.).
[Закрыть]; он вообще не существует» [122]122
Husserl Log. Unters. И, стр. 352 f.
[Закрыть]. В «Иееп» вся феноменология построена на различении существующего факта и несуществующей сущности. Когда Гуссерль говорйт о своих «смыслах» и утверждает, что они только «значат», но отнюдь не «существуют», то это можно понять только как признание абсолютной независимости «предмета» и «сущности» от 1) сознания и от 2) пространственно–временного мира. Именно, оставивши за «сущностью» предикат существования, Гуссерль должен был бы наделить ее пространственно–временными или временными определениями, так как никакое «реальное», ни материальное, ни психологическое, не может быть вне двух или по крайней мере одного из этих определений. Но такая позиция была бы для Гуссерля противоречивой, потому что наделение «смысла», напр., психической природой было бы, с его точки зрения, «психологизмом»; в результате получалось бы нечто усматриваемое «опытной» интуицией, нечто индивидуальное. А Гуссерль видит в «сущностном» созерцании достижение подлинно общего, истинного species [123]123
Понятия (лат.).
[Закрыть]данного предмета; он употребляет даже термин «восприятие» общего [124]124
Ibid., стр. 634. Ср. и вообще у Гуссерля о «категориальном созерцании»: стр. 600—636, 654—663.
[Закрыть]. Естественно, что с точки зрения «естественной установки», т. е. с точки зрения нашего обыкновенного, повседневного и общенаучного отношения к миру [125]125
О «естественной установке» и об устраняющей ее феноменологической εποχή см.: Husserl Ideen.., стр. 48 if., в особ. 52 и 56.
[Закрыть] [126]126
Воздержание от суждения (греч.).
[Закрыть], все эти «сущности», конечно, не «существуют»; существуют только реальные «факты». Но было бы бессмысленно вообще отрицать существование этих «сущностей», и прежде всего это надо помнить Гуссерлю; если феноменология занимается «не–реальными» в смысле «несуществующими» [сущностями], то к чему тогда эта наука, выдумывающая того, чего нет? «Сущность» должна существовать, и, думаем мы, в утверждении вместе с Гуссерлем «несуществования» «смысла» мы только заботимся быть как можно более осторожными и не помещать «сущности» вот этих окружающих нас предметов, а также и «сущности» наших психических процессов в пространственно–временном мире, усматриваемом «простым», «естественным» опытом, или, по терминологии Гуссерля, в этом «реальном» мире, в мире «естественной установки». Таким образом, «несуществование» идеального «предмета» у Гуссерля можно понять только чисто отрицательно: это не есть существование психическое и не есть существование материальное, или, просто говоря, это не есть «реальное» существование. Это первое, без чего Гуссерль становится непонятным. Не решая определенно вопроса о «существовании» этих «полумистических созерцаний «несуществующих» и, однако, как–то «существующих» идейных «значений»», действительно придется вместе с С. А. Аскольдовым считать все это «образцом гносеологического тумана» [127]127
С. А. Аскольдов. Мысль и действительность, стр. 351.
[Закрыть].
Во–вторых, чрезвычайно трудно усвоить то, как может в интенции находиться одновременно интендирующий акт, его интенциональный смысл и интендированный им через этот смысл предмет. А ведь это существование и лежит в основе всего учения Гуссерля о познании. Русский критик Гуссерля пишет по этому поводу: «Ведь сам же он утверждает следующее: «Когда воспринимается внешний предмет (дом), то наличные в этом восприятии ощущения не воспринимаются, а переживаются… Если же затем мы обратим свое внимание на эти содержания (т. е. ощущения)… и возьмем их просто так, как они суть, то, разумеется, мы их воспримем, но не воспримем при этом чрез их посредство внешнего предмета» (Log. Unters. ГГ, стр. 709). Это значит, что в первом случае мы знаем лишь о наличности предмета, а во втором—лишь о наличности переживания (акта восприятия); это значит, что в первом случае мы ничего не знаем о переживании, а во втором—ничего не знаем о предмете. Как же убедиться в том, что оба этих элемента связаны между собою необходимою внутренней сосуществуемостью? Говорят: путем непосредственного переживания. Но такое переживание либо есть в свою очередь некоторое знание и может быть обращено в данном случае или на внешний предмет, или на переживание восприятия, и тогда апелляция к переживанию будет означать собою progressus in infinitum [128]128
Уход в бесконечность (лат.)—логическая ошибка.
[Закрыть]. Либо переживание будет выдвинуто как некоторая конечная инстанция, о пояснении которой и нельзя, и грешно спрашивать.
В таком случае самый важный и существенный пункт останется неосвященным и в основание всего учения о познании будет положено понятие с совершенно темным содержанием или, вернее, будет положено несколько замаскированное сознание в собственном незнании и даже больше того—в полной неспособности ясного уразумения. А это—крушение всякого исследования, ибо, «где в нашем мышлении обнаруживается нерешенная загадка, так нами допущена ошибка» (Schuppe. Erkenntnistheor. Logik, стр. 670)». [129]129
Б. В. Яковенко. Филос. Эд. Гуссерля. – Нов. идеи в филос., № 3, стр. 144 и сл.
[Закрыть]В такие безвыходные противоречия запутывается Гуссерль, если его оставить так, как он есть, не делая никаких добавлений и поправок.
Однако и здесь стоит лишь кое–что добавить, как теория абстракции Гуссерля получает солидную силу и доказательность. Именно, если мы попробуем точнее и строже придерживаться различения точки зрения рефлексии и точки зрения переживания, то мы поймем, что в феноменологии Гуссерля недостаточно ясно проведено это различение именно в вопросе о вышеупомянутом сосуществовании. Раз навсегда мы должны принять, что интенциональный акт, смысл и предмет суть создания нашей рефлексии над переживанием, что в самом переживании нет никаких «направленностей» и никаких предметов. До тех пор пока у Гуссерля не будет ясно формирована имманентность «предмета» процессам «сознания», пока «предмет», «смысл» и «акт» не составят у него единого целого, лишь потом разлагаемого в абстракции на «сознание» с его «актами», «представлениями», «понятиями» и пр., с одной стороны, и на «предметы сознания» – с другой, – до тех пор нельзя будет и понять Гуссерля. Повторяем: только этот уклон в сторону, грубо говоря, имманентной школы может послужить для Гуссерля доуяснением его интенционалистического учения о познании. Иначе вышеприведенная критика сосуществования останется незатронутой.
Сделавши эти два добавления к Гуссерлю—относительно существования смыслов и относительно первоначального единства переживания, – мы теперь прямо подошли к тому явлению, которое можно было бы назвать первичной, непосредственной данностью.
VI. ОБЪЕКТИВНЫЙ СМЫСЛ КАК НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ДАННОСТb.Объясняющий пример. Отсутствие структурных форм сознания в непоср. данности. Иллюстрация на теориях сложных эстетических состояний. «Мышление» как объективное обстояние. Понятие объективного смысла. Его «определительная квалификация» и «квалификация по способам данности». Точка зрения переживания и точка зрения рефлексии. «Представление», «понятие» и вообще предмет психологии мышления как абстракция. Необходимость до–теоретического описания понятий, с которыми оперирует психология. Примерный описательный анализ понятия «представление»: а) ноэтический, b) ноэматический моменты. Проблема без–образности мышления. Ее непринципиальный характер и ее опасность.
Возьмем сначала такой пример. Предположим, что мы сидим в театре и слушаем «захватывающую» драму. Талантливые писатели умеют иногда так писать, что мы в течение целого акта драмы даже не вспоминаем о себе, о театре, о пьесе и пр. Мы сидим, не двигаясь с места, не думая ни о том, что это здесь театр, что это вот актеры двигаются по сцене, что они изображают вот такие–то явления жизни. Это часто случается, и тут нет ничего особенно выдающегося или чего–нибудь характерного только для высших эстетических и иных переживаний. А между тем если мы попробуем задать себе вопрос: что же происходит у нас в сознании во время слушания захватывающей драмы? – το ответ будет далеко не из легких. Разумеется, можно сказать, что у нас в сознании находится вот эта сцена, вот э–rti мысли, воспринимаемые нами из уст актеров. Однако такой ответ в высшей степени неудовлетворителен и неточен. Ведь обыкновенно, давая такой ответ, хотят сказать, что у нас в сознании находятся в это время мысли о сцене, представления актерских фигур, суждения вослед за действием, развивающимся в драме, и пр. в этом роде. На деле же никаких «мыслей», никаких «представлений>>, «суждений», «умозаключений» и пр. и пр. – ничего этого у нас нет и в помине, когда мы увлечены драматическим действием. Мы как бы машинально двигаем глазами вслед за движениями актеров, мы совершенно «бессознательно» направляем в ту или другую сторону сцены свой бинокль и, может быть, совершаем ряд других действий (в зависимости, напр., от удобности или неудобности места, где мы сидим)—и никаких «представлений» и «понятий» не переживаем, никакой «воли» в нас нет. Мы отлично все «понимаем», так как после театра мы умеем рассказать своим друзьям о виденной пьесе; мы отлично потом сознаем, что в душе нашей происходили какие–то движения, было какое–то энергичное, натянутое состояние, было активное «следование» за пьесой, – —и все–таки в моменты самых переживаний в театре мы ничего этого не имеем, никаких «представлений», «волевых актов» и пр., как именно представлений и как именно волевых актов, у нас нет и в помине.
Это ясно видно уже на элементарных формах «понимания» и «восприятия», но лучше попытаться уяснить себе это на сложных состояниях, где такое положение дела еще лучше и очевиднее; после этого нетрудно будет констатировать это и в низших состояниях. В особенности ярка эта «потеря» себя, это «отсутствие» сознания в сложных эстетических состояниях. И на разный манер это утверждается почти в каждой серьезной эстетической теории. Не будем приводить в пример такие теории, где прямо и буквально говорится о слиянии субъекта и объекта, о самопогружении в искусство, о мистических и космических основах искусства и пр. Хотя такие теории часто и очень ценны (а иногда, может быть, и ценнее всего), но для нас важно показать, что это «движение» души вслед за объектом эстетического созерцания, это претворение сознания в предмет и его ритмизация предполагаются даже такими теориями, которые как будто бы очень далеки от каких–нибудь «мистических» устремлений. Так, можно сослаться на Пауля Штерна, который парирует возражение Фолькельта об «ассоциативном вчувствовании» [130]130
Volkelt. Symbolbegriff in d. neuesten Aesthetik. 1876. Стр. 77, 78, 84 и др.
[Закрыть]опираясь на понимание ассоциаций как душевных деятельностей, ритмически возбужденных произведением искусства [131]131
P. Stern. Einfuhlung u. Assoziation in d. neuer Aesth. 1898. Стр. 52 ff., 58 ff., 61 ff., 65.
[Закрыть]; можно сослаться на Кюльпе, который выставдл такие три условия для эстетических ассоциаций [132]132
O. KUlpe. Ueber den assoziativen Faktor des asthetischen Eindrucks Vierteljahrschr. f. wissenschaftl—Philos. XXIII, Heft 2, стр. 170, 173, 176.
[Закрыть], которые могут быть соединены только при условии активного воспроизведения тех связей, какими обладает предмет; понятие эстетического ритма, т. е. активного следования внимания за произведением искусства, предполагает и теория «внутреннего подражания» Карла Гpocca [133]133
К. Гpocc. Введение в эстетику. Киев—Харьков, 1899. Стр. 90, 94, 102 и сл., 110.
[Закрыть]наконец, в некотором смысле сюда относятся и хорошие рассуждения Христиансена об эстетическом синтезе [134]134
Христиансен. Философия искусства. Пер. под ред. Ε. В. Аничкова. СПб., 1911. Стр. 54 и сл.
[Закрыть]. Все эти теории становятся совершенно непонятными, коль скоро мы отбросили напрашивающуюся здесь мысль о каком–то интимном взаимодействии и сосуществовании сознания и предмета; получается впечатление как будто о каких–то материальных вещах; как будто сознание есть какой–то сосуд с жидкостью* а искусство—какая–то мешалка, которая приводит эту жидкость в ритмическое движение. Отбросивши эти наивные представления и не оперируя с пространственными понятиями, мы должны отказаться от всяких «я» и «не–я» в моменты высших эстетических состояний, от всяких «в», реализующих собой только нашу постоянную привычку судить обо всем по аналогии с материальными вещами. И только тогда эти теории могут получить свое научное оправдание.
Вдумываясь в эти состояния, как то наше слушание драмы в театре, приходится и вообще отбросить вопрос о том, что происходит у нас в это время в сознании. На этот вопрос мы не имеем права, так как сознание здесь гораздо больше, чем просто сознание. И вместо того чтобы искать «содержание» сознания, вместо вопроса: что есть в это время «в» сознании? – мы должны просто спросить: что есть это, совершающееся во время слушания драмы? Тут нет еще субъекта, нет «сознания», а потому нет и никаких «образов», «понятий» и пр. Равным образом тут нет и объекта, а потому нет и никаких свойств его. Это есть единое нечто, есть то объективное обстояние, которое мы уже потом, в рефлексии, разложим на «субъект» и «объект». Принципиально это было выдвинуто прежде всего в имманентной школе. Но если для чего–нибудь и надо сослаться здесь на Шуппе, так только для отмежевания себя от его гносеологии в целом и для точного проведения разницы между имманентностью субъекту сознания и имманентностью процессам его [135]135
Ср., напр.: Η. Лосский. Преобразование понятия сознания. – Вопр. филос. и психол. Кн. 116, стр. 35.
[Закрыть].
Насколько последнее очевидно и есть факт простого усматривания, настолько неочевидна первая имманентность, и утверждение ее возможно только при всех тех натяжках, которые хорошо указаны и в нашей литературе. [136]136
Напр., С. А. Аскольдов. Мысль и действительность, стр. 26—47. Собственно, нельзя говорить и об имманентности процессам сознания, поскольку «сознание» мыслится нами как известное единство и центр. Я утверждаю лишь онтологическую, бытийственную адеквацию «предметности» и «сознательности» (точнее, – еознаваемости, понимая под тем и другим не центр и единство и тем более не субстанцию, но тот темный грунт, ту, так сказать, глину, из которой они сделаны).
[Закрыть]
Это объективное обстояние, в котором предмет не представляется и не мыслится, но переживается и в котором он присутствует в той или другой полноте, но где– той областью, которой он присутствует—присутствует адекватно, словом, этот объективный смысл и есть та первичная непосредственная данность, которую мы должны утвердить для психологии. Что–нибудь еще более первичное и непосредственное даже и вообразить себе трудно. Укоренившиеся в нас историко–философские привычки мешают такой концепции «чистого сознания» или «опыта», которая могла бы быть проверена на конкретных переживаниях. Обыкновенно под «чистым сознанием», или под «первично данными», понимают настолько абстрактные вещи, что не только проверить их на конкретном опыте, но и понять–то подчас совершенно невозможно. Мы даем такую концепцию непосредственно данного, которая, если не считать пустых абстракций, больше всего констатирует первичность и о которой всякий может иметь приблизительное представление, если он когда–нибудь «внимательно» слушал музыку, «внимательно» читал книгу и пр. И в этих обыкновенных наших переживаниях, в этом повседневном мышлении настолько же мало присутствует голый объект, насколько и одна голая мысль. Если бы здесь шла речь об одном голом предмете, мы сказали бы «объективный предмет», если бы шла речь об одном голом сознании, мы сказали бы «субъективный смысл». – Но так как в этих переживаниях речь идет не о предмете просто и не о сознании просто, но об их изначальном единстве, то мы говорим «объективный смысл».
Гуссерль и Джемс, но никак не Авенариус с его «чистым опытом» были нашими руководителями при установлении этой первичной данности. От Гуссерля мы берем его учение о «сущностях», [и], дополняя его в том смысле, что «акт», «смысл» и «предмет» есть изначальное единство, только потом разлагаемое в абстракции, мы получаем понятие объективного смысла, в котором (в смысле) нераздельно наличествует «сущность» и «сознание». Но так как при подобной интерпретации гуссерлевского «первичного данного» становится уже излишним помещение «сущности» на недосягаемых высотах, вдали от эмпирической конкретности опыта, то недостающее описание эмпиричности мы должны сюда прибавить, и прибавляем его так, как дал его Джемс, уже, однако, не останавливаясь беспомощно перед проблемой восприятия тождественных предметов при посредстве текучих состояний сознания. Мышление, т. е. переживание, есть объективное обстояние; оно настолько же характеризуется «состояниями сознания», насколько и «состояниями предметов». Вот почему на высших ступенях эволюции объективного смысла возможно говорить, напр., о познании как о космическом процессе и пр. Что же касается низших ступеней объективного смысла, то здесь «участвует» меньшая «часть» т. н. существующего, но и тут налицо необходимые элементы «познания»: текучее объективное обстояние, или объективный смысл, дифференцируемый впоследствии на субъект и объект «познания».
Мы говорили, что в наличности и конкретности объективного смысла легче убедиться на так называемых сложных состояниях. Убедившись здесь, мы необходимым образом приходим к тому выводу, что и каждый процесс переживания хранит в себе начала этого объективного смысла, как бы он ни был прост и незначителен. Каждое понимание, каждый процесс чтения, писания, игры на фортепиано, произнесения речи и пр. и пр., если эти процессы проходят гладко, без труда, без специальной рефлексии над ними, – все это есть функции объективного смысла, функции <<чистого», а не структурного, не усложненного сознания. И вся разница между объективным смыслом, наличествующим в момент понимания того, что эта буква а есть именно буква я, и между объективным смыслом, наличествующим в момент понимания Того, что мир управляется Божеством, – разница эта заключается не в так называемых состояниях сознания, а в известных объективных обстояниях, характерных и для этого «сознания», и для этих «предметов» его. Употребляя терминологию Гуссерля (а наше отношение к Гуссерлю характеризовано выше), можно здесь говорить о разнице смыслов в определительной квалификации (in Wie seiner Bestimmtheiten) [137]137
Husserl Ideen.., стр. 272.
[Закрыть]. Наряду с этим стоит разница смыслов «in Wie seiner Gegebenheitsweisen», в «квалификации их способов данности», высшей формой каковой данности является «смысл в модусе его полноты» [138]138
Ibid., стр. 273.
[Закрыть]. Эти мысли Гуссерля, изложенные им в его последнем труде «Ideen», вполне соединимы с рассуждениями об «очевидности» и «совершеннейшем синтезе осуществления» (Akt dieser vollkommensten Erfullungssynthesis) в «Logische Untersuchungen» [139]139
Husserl Log. Unters. II, стр. 583 f., 593 f.
[Закрыть], только в «Log. Unters.» яснее видна шаткость позиции Гуссерля, не формулирующего ясно «имманентный» характер своего интенционалистического учения о познании, так как довольно трудно усваивается его учение о носителе полного осуществления категориальной интенции, о «представителе» полного adaequatio rei et intellectus [140]140
Уподобления предмета и мышления (лат.).
[Закрыть] [141]141
bid., стр. 639—652.
[Закрыть]. В общем же надо принять у Гуссерля эту «лестницу» познания от сигнитивных актов до полного идеала адеквации—понимая это в значении различных модификаций объективного смысла, мы получаем хорошие формулировки для различных степеней «ясности» «познания» и «понимания» [142]142
Разумеется, в нашем изложении мы ограничиваемся принципами и не квалифицируем своих выводов во всей их полноте как в смысле метода, так и в смысле содержания. Однако хоть и догматически стоит указать, что наша концепция «данного» предполагает те три подхода к себе, о которых идет речь в хорошей брошюре К. Ipooca (К. Groos. Beitrage zur Problem des Gegebenen): логический (т. ё. не–алогический), волюнтаристический и «идеальный» (т. е. не–феноменальный).
[Закрыть].
Ни на минуту мы не должны забывать различия точки зрения рефлексии и точки зрения переживания. Пережйвая драму в театре, мы, как сказано, не нуждаемся в том, чтобы говорить о таких «смыслах» и «сущностях», которые находятся в запредельной дали и которым нет места в эмпирической действительности. В том, что мы называем объективным смыслом, эта «сущность» пребывает во всей конкретности; и «мышление» с этой точки зрения есть только существование объективного смысла во времени. Но когда мы покидаем точку зрения переживания, то вопрос существенно меняется, и нам приходится уже говорить об «идеальном бытии», недоступном для «эмпирической конкретности». Вместе с этой рефлексией возникает и вообще все то, чем занимается традиционная психология, – все «представления», «понятия», «суждения» и пр. и пр. —словом, все те структурные формы сознания, которые можно назвать так в отличие от тех его «форм», какие констатируются в моменты нераздельности объективного смысла. С нашей точки зрения, таким образом, «представление», «образ», «идея», «понятие» не есть что–либо изначально данное; это есть результат нашей рефлексии над объективным смыслом, это есть абстракция и известная квалификация.
Отсюда начинается то, что мы обыкновенно называем психологией. Как видно, в логическом отношении психология никоим образом не может считаться наукой беспредпосыльной. Фактически, конечно, каждая наука, сколько бы она ни зависела от другой науки, всегда развивается некоторое время отдельно и самостоятельно. Равным образом и сознавая всю зависимость психологии от установления каких–нибудь фактов заранее, мы можем собирать материал, представляющийся, очевидно, нужным для психологии, без учета этой зависимости психологии. Однако, если мы желаем потрудиться для построения психологии как системы, как науки, мы обязаны точно знать ее зависимость и независимость от чего бы то ни было, и если знаем о какой–нибудь зависимости, то должны ее использовать, а прежде всего—точно формулировать. Намечая исходные точки зрения, служащие, по нашему убеждению, тем непосредственно данным, без чего невозможна научная психология, мы утверждаем, что всякая психология, понимаемая в смысле науки, исходя из понятия объективного смысла, должна мыслить свой предмет, т. е. «представления», «образы», «понятия» и пр. как абстракцию. Опираясь на понятие объективного смысла, который считается нами первично и непосредственно данным, мы утверждаем, что образ есть только тогда образ, когда мы мыслим его как образ; что понятие есть только тогда понятие, когда мы формулируем его в качестве такового; что мышление есть только тогда мышление, когда оно осознается. Поэтому психология мышления содержит в себе две основные части: 1) описание объективных смыслов и 2) рефлексию над этими объективными смыслами. Впрочем, мы не настаиваем на терминах; если то, что мы сейчас назвали первой основной частью психологии, сочтут за гносеологию, или онтологию, или вообще за метафизику, то терминологические соображения не помешают сути дела и с ними мы, может быть, и согласимся. Важно то, что описание объективных смыслов Скак оно совершается—это другой вопрос; мы говорим о проблемах) должно предшествовать тому, что претендует на название «психология мышления». К таким выводам заставляет прийти то понятие объективного смысла, от которого надо считать зависимой психологию как науку.








