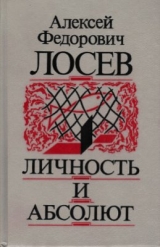
Текст книги "Личность и Абсолют"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 54 страниц)
Кроме Псалтири из богослужебной практики необходимо привести Акафист сладчайшему Тbсподу нашему Иисусу Христу в качестве удивительного примера разбираемой нами категории значений. Важно отметить, что этот Акафист называется также Акафистом пресладкому Имени Иисуса, что и подтверждается в первом же икосе: «Ангелов Творче и Господи сил, отверзи ми недоуменны ум и язык на похвалу пречистого Твоего Имени». Кроме того, Акафист этот состоит в главной своей массе из перечисления Имен Божиих, выявляющих удивительные и непостижимые свойства и действия Божии и пронизанных глубочайшей мистикой света: «Иисусе, красото пресветлая»; «Иисусе, освети мя, темного»; «просвети убо милостию Твоею очи мысленные сердца»; «Иисусе, ума моего просветителю»; «Иисусе, Свете мой, просвети мя»; «возсия вселенней просвещение истины Твоея»; «Иисусе, Свете, превышний всех светлостей»; «Иисусе, светлосте душевная»; «светоподательна светильника, сущим во тьме неразумия, прежде гоняй Тя Павел, благоразумного гласа силу внуши и душевную быстроту уясни»; «Иисусе, просвети моя чувствия, потемненная страстьми»; «Иисусе, одеждо светлая, украси мя»; «Иисусе, бисере честный* осияй мя; Иисусе, камене драгий, просвети мя; Иисусе, солнце правды, освети мя; Иисусе, Свете святый, облистай мя». В Акафисте, наконец, подчеркнуто, что и «аллилуиа» воспевается Имени. «Все естество ангельское беспрестанно славит пресвятое Имя Твое, Иисусе, на небеси, «свят, свят, свят» вопиюще; мы же, грешнии, на земли бренными устами вопием: Аллилуиа». «Тем же превознесеся Имя Твое паче всякого имене, и от всех колен небесных и земных слышиши: Аллилуиа».
В церковных богослужениях нет произведений более глубоких и величественных, более нежных и интимных, более благодатных и осиянных, более напоенных и пронизанных неизъяснимой и захватывающей музыкой и мистикой, чем Псалтирь и Акафист Иисусу Сладчайшему. И вот оба эти произведения написаны для прославления Имени Божия.
4. Цельное значение. Различие всех разобранных выше трех моментов значения Имен Божиих есть различие в значительной мере абстрактное. Одно значение невозможно без другого, так что имеет смысл говорить в каждом случае лишь о преобладающем значении среди других значений. Но есть много и таких случаев, где очень трудно один элемент считать выдающимся над другими и где все три значения даны с одинаковой яркостью. Таковы, напр., следующие тексты. I Коринф. VI, 11: «И такими [т. е. грешниками] были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались Именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». II Фессал. I, 11—12: «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, да прославится Имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего Господа Иисуса Христа». В этом тексте понятие славы, судя по стиху 11, конечно, шире какогонибудь одного основного значения. Евр. I, 3—4: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершил Собою очищение грехов наших, воссел одесную (престола) величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал Имя». I Петр. IV, 14: «Если злословят вас за Имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми он хулится, а вами прославляется». Филипп. II, 9—11:. «Посему и Бог превознес Его и дал Ему Имя выше всякого имени, дабы пред Именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца».
При анализе христианского учения об Имени необходимо обязательно исходить из его молитвенного опыта. Это основание всего вероучения и догматики. И теперь мы видим, что цель всякого призывания Имени Божия заключается не в чем другом, как в некоем отождествлении себя с этим ИменемЦель молитвы, да и всего религиозного опыта (если только последней чем–нибудь отличается от молитвы), состоит в таком отражении на себя Божества, когда уже ничего в человеке не остается человечески–неустойчивого и человечески–неустроенного и когда человек всецело есть только образ Божий. Можно сказать, что в этом цетр тяжести всей православной мистики. В то время как бл. Августин и западное богословие исходят из поня тия личности и, опираясь на данные самонаблюдения, конструируют понятие Божества, возводя эти данные на бесконечную высоту и там их гипостазируя, восточное богословие, православие и имяславие исходят из мистической антиномии непознаваемого, немыслимого, неохватного Божества и познаваемой мыслимой, расчленимой твари, так что Божество не личность по аналогии с человеческой личностью, хотя и с бесконечным совершенством, но некое абсолютно недомыслимое сверхбытие и сверхсущее все же наши категории личности имеют тут значение лишь символическое, хотя и реальнейшее. Православный опыт и молитва, или призывание Имени Божия, как раз и опираются на реальное восприятие Бога человеческой личностью, так, что и Бог, несмотря на конечное Его действие, остается непознаваемым, неизмеримым и нерасчленимым, и тварь, несмотря на то что в ней уже ничего не остается, кроме Божественного, продолжает быть все–таки тварью и не сливается с Богом по сущности. Яркими примерами этих особенностей христианского опыта могут явиться следующие тексты из Нового Завета, любопытные, между прочим, и в том отношении, что Писание здесь совершенно не боится никаких упреков в пантеизме, хотя для поверхностного взора строжайший теизм Нового Завета и может показаться пантеизмом.
I Иоан. IV, 12: «Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас». 15: «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге». 16: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». 17: «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он» (!). V, 1: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». 11: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его». 19: «Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир во зле лежит». 20: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Иуд. 20: «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым (έν Πνεύματι Άγίω προσευχόμενοι), сохраняйте себя в любви Божией…» II Петр. I, 3—4: «Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благодатью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы чрез них соделались причастниками Божественного естества (θείας κοινωνοί φύσεως), удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы… покажете в вере вашей добродетель…» Иоан. XIV, 23: «Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим (μονήν παρ' αύτώ ποιησόμεθα)». 15–я глава начинается сравнением Христа с виноградной лозой, а учеников его с ветвями, и таковое сравнение дается исключительно для теистических целей. 4: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне». 5: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не может делать ничего». 6: «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, й они сгорают». 7: «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут…» Что от Бога все зависит, что Он—единственный виновник всего и ответственный за все, – это основная мысль Нового Завета. Коринф. III, 6—7: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий» [839]839
Точнее, 1 Кор. 3, 6—7.
[Закрыть]. Еще ярче I Коринф. VI, 15: «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы!» 17: «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом (εν πνεΰμά έστι)». 19: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои». 20: «…ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». VIII, 6: «у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им (δι* ού τα πάντα και ημείς δι' αύτοΰ)». XII, 27: «И вы—тело Христово, а порознь—члены». XV, 28: «Когда же все покорит Ему [т. е. Сын Отцу!, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем (πάντα έν πασιν)». II Коринф. VI, 16: «Ибо вы храм Бога сивого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них…» XIII, 5: «Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?» Пшат. II, 20: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Ефес. IV, 6: «Один Бог Отец всех, Который над всеми, и чрез всех, и во всех нас». Филипп. II, 13: «Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению». Колос. III, 3: «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». III, 11: «Все и во всем Христос».
Все эти тексты, по–моему, вскрывают наиболее четко опытную сущность христианской молитвы и христианской религиозной жизни вообще. Имена Божии до того близки к Самому Богу, что им воздается равное с Ним почитание и поклонение. Но с другой стороны, Имена Божии до того близки человеку, что прямо произносятся им, как бы отождествляясь с его тварной и субъективной природой. Христос—и Бог, и такое явление в человечестве, которое конкретно и живо в пределе, так, что Христос в своем Теле просто объемлет весь мир. Тут же утверждается, что Творец и тварь никогда отождествиться не смогут.
Явно, что уже из первоначального всматривания в существо обрисованного молитвенного опыта и вместе всего вообще религиозного опыта в христианстве вырастает несколько основных понятий, закрепляющих несомненные данности этого опыта. Тут мы подходим уже к философскому осознанию того почитания Имен Божиих, о ко^ тором сейчас мы говорили чисто опытно, приводя текст bt из религиозного опыта, из Библии. Каковы эти первые и необходимые установки логической мысли, желающей в понятиях конструировать то, что жизненно и реально дано в потоке конкретного опыта имяславия?
Что значит почитать Имя Божие и поклоняться ему? – Для христианства единобожие является аксиомой. «Да не будут тебе бози инии, разве Мене». Это значит, что если Имя Божие в церкви славится и воспевается, то оно ни в коем случае не может быть отделяемо от Существа Божия, так что, другими словами, Имя Божие есть Сам Бог, или же оно должно быть всецело отделено—так, чтобы не иметь уже никакого отношения к Самому Богу. Первый вывод, однако, делается далеко не всеми и потому требует подробного разъяснения, тогда как нелепость второго ответа больше чем очевидна. Имя всякого предмета есть то, что мы знаем об этом предмете. Имя предмета есть та сторона предмета, которой он является нам. Другими словами, Имя Божие, если употребить всегдашний патристический термин, есть энергия сущности божественной, или явленный и познанный лик Божества.
Только при помощи этого понятия можно осмыслить то удивительное почитание Имени, которое мы находим в христианстве. Одно из двух: или признавать Писание выражающим сущность христианства, или не признавать. Если необходимо признавать его таковым, то, как бы ни противоречило нам обыденное словоупотребление и распространенные научные теории, мы должны сказать: Имя Божие есть то в Боге, что мы знаем, различаем, называем и формулируем о Нем, и так как Бог един, то эта явленная сторона в Нем есть не что иное, как Он Сам или, точнее, этот явленный момент в Нем, в котором Он присутствует весь целиком, т. е. Имя Божие есть энергия Его сущности. Или сотни текстов в Писании не имеют никакого смысла и содержат в себе обожествление тварных звуков (вот где был бы настоящий пантеизм), и тогда вся вековая история христианства и его богослужения есть сплошное недоразумение; или Имена Божии не просто звуки и даже не тварь, раз мы этому Имени молимся, и тогда оно– Сам Бог, хотя и только в некотором своем моменте.
Уже тут мы, начиная анализировать православнохристианский опыт, наталкиваемся на два фундаментальных понятия—сущности божественной и энергий божественных. Между ними некое таинственное соответствие. Чтобы молиться, надо признавать, что сущность хотя и присутствует в Имени, но есть сама по себе нечто бесконечное и бездонное, в то время как .Имя и энергия—нечто определенное и расчленимое. Имя, несомненно, есть и сущность, сущность же как будто не есть Имя, хотя если она никакого отношения не имеет к Имени и энергии, то как же она вообще есть сущность и чего, собственно, сущность? Все эти вопросы необходимо разрешить, если мы желаем осознать религиозный опыт православия. Ясно, что последний предполагает также еще понятие твари как второго члена религиозного отношения. Тварь осиявается и спасается Именем. В каком же отношении Имя к твари? Тварь произносит имена, а сами по себе Имена суть божественные энергии, т. е. Сам Бог. Как же это совмещается?
Итак, опыт молитвы, т. е. призывания Имени Божия, равно как и вообще опыт общения с Богом, ведет к трем фундаментальным понятиям христианской философии и богословия—сущности Божественной, энергий Божественных и твари.
Найдя эти установки мысли в качестве первичных моментов осознания опыта, попробуем вскрыть форму и смысл их логического взаимосоответствия [840]840
Тот, кто желает ознакомиться более подробно с учением об Имени Иисусовом и о его значении в молитве, должен читать сочинения еп. Игнатия (Брянчанинова), который, являясь самым замечательным и чуть ли не единственным духовным писателем в России в XIX веке, подробно развил учение об умно–сердечной молитве и о непрестанном призывании Имени Божия (Соч. Игнатия Брянчанинова. 5 томов. СПб., 1905. Важны в особенности первые два тома).
[Закрыть].
Так как я дал выше философию имени в более пространном изложении, то в дальнейшем я ограничусь только более или менее точными тезисами применительно уже специально к опыту, который только что был демонстрирован текстами.
V. ФИЛОСОФСКИЕ ТЕЗИСЫ ОНОМАТОДОКСИИ [841]841
Здесь машинопись обрывается.
[Закрыть]
ФРАГМЕНТЫ ДОПОЛНЕНИЙ К «ДИАЛЕКТИКЕ МИФА» (1929)
<…> указывает на предвзятость и, след., относительность их диалектики. Если задаться целью начинать диалектику действительно с наипростейшего и максимально лишенного качественного содержания, то это будет, конечно, отнюдь не «Я» и не «Бытие», но «Одно». Как показывает диалектика, это Одно требует для себя Иного, превращаясь тем в Сущее (Бытие), и синтезируется с ним в Становление. Такова эта изначальная, самая общая, самая простая, самая непререкаемая диалектическая триада:
1. Одно,
2. Сущее (Бытие),
3. Становление.
Как я уже много раз выводил, эта триада превращается в тетрактиду, если мы зададим себе вопрос о сущности ее третьего момента. Что такое Становление и каковы условия его существования? Подобно Одному и Бытию, оно тоже, чтобы реально быть, нуждается в отличии от всего прочего, от своего Иного, которое было бы ему противоположно и—в дальнейшем—синтезировалось бы с ним. Так возникает четвертый диалектический момент– Ставшее (Сущность, Субстанция) или Наличность, Факт, который первым трем противостоит как стихия, осуществляющая, реализующая, субстанциализирующая их, а они ему противостоят как общая триединая стихия Смысла. Но, по общему правилу, эти две стихии не только различны и противостоят, но должны быть синтезированы и отождествлены. Должна появиться категория, которая будет и Фактом, Ставшим, и это Ставшее, и этот Факт должны понести на себе стихию триединого Смысла; они должны как бы разносить, излучать этот Смысл, выводить его из его замкнутого состояния, выражать его вовне, изводить в окружающее (еще пока не наличное, но диалектически уже возможное) инобытие.
На ней, конечно, отразится каждая из предыдущих категорий, и потому она будет очень сложной, но пока нет нужды входить в эти детали; и мы можем назвать ее общим именем Энергии (или энергии Сущности, понимая под сущностью выведенную уже тетрактиду целиком).
Эту категорию Энергии (она же Выражение, Образ, Символ, Имя) важно, однако, детализировать в одном направлении. Именно, нами, как мы помним, руководит цель диалектического получения магического имени, а это последнее необходимым образом требует внесения одной детали, которая, впрочем, важна и для всей тетрактиды. Дело в том, что все, полученное нами до сих пор, есть чистейшая логика. Хотя мы сейчас и занимаемся чистой логикой, мы, чтобы не впасть в гегельянский рационализм и логицизм, должны, однако, постулировать необходимость и сверх–логических обстояний бытия. Энергия Сущности не только должна выражать эту логическую сущность, только что выведенную нами, но и все те сверх–логические возможности, которые только в ней содержатся. Поэтому иные диалектики, опять–таки ради сохранения всех принципов, ради абсолютности диалектики, постулировали выше первого Одного еще некое Одно, некое абсолютное Сверх, которое уже не есть начало диалектического ряда, но которое извнутри, неизвестными и диалектически уже не ухватываемыми средствами осмысляет всю смысловую триаду. Этот момент не может быть не внесен в диалектику. Диалектика должна требовать и внедиалектических структур бытия; иначе она обращается в рационализм и панлогизм, т. е. перестает быть абсолютной диалектикой. Но это абсолютное Сверх, абсолютно недоведомое [842]842
В машинописном оригинале: не ведомой никому никакому.
[Закрыть]никакому восприятию и мысли, никакому диалектическому рассуждению и являющееся подлинной сокровенной сущностью Бытия, полной апофатической Бездной и Мраком для разума, заново перестраивает и нашу Энергию. В ней должен быть подчеркнут этот момент апофатизма. Именно в ней—потому что она ведь есть Выражение, Образ Сущности, Имя Ее. Стало быть, тут–то и надо вспомнить, что это есть Выражение Невыразимого, Образ Неведомого, Имя Неименуемого и Преименитого. Термин можно, конечно, оставить тот же самый. Можно, впрочем, назвать Энергию—в этом аспекте—Символом, чтобы подчеркнуть антитезу являемого и неявляемого, выражаемого и невыразимого на этой диалектической ступени;
Итак, нами получена следующая чисто диалектическая схема:
I. Сверх (чистое и абсолютное).
II. Смысл:
1. Одно,
2. Сущее (Бытие),
3. Становление.
III. Субстанция (Факт).
IV. Символ.
Эту схему можно и преобразовать, чтобы выразить короче. Обратим внимание на то, что абсолютно апофатический момент уже как–то содержится в Символе, который мы ведь и условились понимать как синтез непознаваемого и познаваемого. Обратим внимание также и на то, что Факт, или Субстанция, находится в существенно иных отношениях к смысловой триаде, чем члены этой триады между собою. В то время как между ними отношение чисто смысловое, отношение четвертого начала к каждому из этих трех и ко всем вместе есть не осмысляющее, но гипостазирующее, осуществляющее и, след., как бы овеществляющее. Мы видим, что реально перед нами только и есть эта Субстанция, хотя сама по себе, без триединого Смыслит она есть вещь без всякого смысла и идеи, т. е. она—ничто. Так как, стало быть, реально есть только эта Субстанция как носительница и осуществительница триединого Смысла, то можно просто говорить о триединой Субстанции, триединой по своему Смыслу, что соответственно отражается и в Энергии этой Субстанции—в Символе. Одно, данное как Одно Субстанции, т. е. как Одна Субстанция, как не зависимая ни от чего другого и как та, от которой все зависит, в этом субстанциальном аспекте уже не может именоваться просто Одним. Это есть, очевидно, Основа, или Основание. Бытие, Сущее, в своем субстанциальном аспекте также нё может быть уже просто чисто смысловой категорией. Оно тут мыслится уже зависящим от первого начала* которое из простого бытия превратило его в особенным образом устроенное бытие. Назовем это второе начало в субстанциальной модификации Формой. Наконец, в третьем случае вместо простого Становления мы получим субстанциальное Становление, Становление, которое одновременно есть и субстанциальная сила. Назовем ее Действием. Итак, упомянутая диалектическая схема может быть упрощена в триаду:
1. Основа.
2. Форма.
3. .Действие.
При этом внутри этой триады, в недосягаемой глубине, бьется ее апофатически–смысловой пульс, а извне она предстает как символически–смысловая действительность.
3. Переход к интеллигенции («для–себя–бытие»). Выведенная нами триада—основа и схема определения субстанции. Полученный результат обладает завершенное стью и цельностью. Все остальное может развиваться только на его основе. Но зададим себе такой вопрос. Диалектику мы определили как логическую конструкцию, абсолютной стихии мифа, т. е. имени, или как диалектику магического имени. Где же тут имя в полученных нами острых и чеканно оформленных извивах триады? Пригодилось ли чем имя, категория и эйдос имени для выяснения диалектических контуров триады и тетрактиды? Мы должны сознаться: нет, имени нам не пришлось использовать. Одно, Сущее и Становление на фоне реального Факта и Символа—нигде здесь нет никакой дедукции имени. Если же так, то мы должны сознаться, что диалектика имени нами еще не дана и что ее пока только еще предстоит получить на основе только что выведенной диалектической. триады (тетрактиды). Равным образом необходимо признать, что и вообще диалектика абсолютного мифа не может считаться нами принципиально законченной, поскольку конечная цель—диалектика магического имени—еще не осознана со всей строгостью диалектической мысли. Попробуем теперь продвинуться дальше в поисках этой конечной цели.
Символическая тетрактида в себе закончена. Чтобы идти дальше, мы должны найти какие–нибудь недоговоренности и недомысленности в тетрактиде. Раньше мы ведь так и шли: следующий диалектический этап мысли диктовался диалектической незавершенностью предыдущего этапа. Но тетрактида, повторяем, завершена. Если так, то дальнейшего развития тетрактиды мы можем искать уже не на почве умножения принципов в том же направлении, атак, чтобы вся символическая тетрактида, оставаясь завершенной в себе и неизменной, претерпевала дальнейшие изменения и дополнения уже на основе разработанных нами ее принципов. Если обследовать тетрактиду не с точки зрения тетрактидности, а с иной, мы должны будем получить принцип и для дальнейшего диалектического продвижения тетрактиды, взятой целиком, в завершенной неизменности.
Зададим себе такой вопрос: откуда вся эта выведенная нами символически–тетрактщщая система? Чье это произведение—сложная диалектика одного, трех и потом четырех? Наше ли это только субъективное измышление, или это есть диалектика самих вещей, самого бытия? Разумеется, тут на нас обрушатся сейчас же сотни теорий о «субъективности» и «объективности» нашего знания, обрушатся бесчисленные «гносеологические» теории о «критике» и «реальности» сознания. Однако мы не можем входить в полемику со всеми этими по существу своему метафизическими теориями, которые суть плод частичной, т. е. относительной, мифологии, и тем становиться на их собственную почву. Диалектика не есть метафизика и даже не нуждается в ней, и потому связывать себя какими–нибудь условно–метафизическими теориями и хотя бы даже критикой их нам в настоящем труде совершенно не к лицу. Откладывая все это на другое время, попробуем ответить на поставленный только что вопрос, оставаясь на почве исключительно абсолютной диалектики.
Мы нашли возможным говорить об одном, многом, целом, ином, становлении и т. д. и т. д., не прибегая ни к каким ни психологическим, ни метафизическим теориям и точкам зрения. Попробуем теперь, не привлекая никакой психологии и метафизики, также решить вопрос: откуда вся эта выведенная нами система символической тетрактиды? Сказать, что она—наше субъективное достояние, мы не можем уже по той простой причине, что мы еще не знаем, что такое субъект и что такое субъективное достояние. Диалектика должна дать строжайше логическую систему категорий, а в той системе, на пользование которой дала нам право диалектика, мы не находим категории субъекта и его достояний. Пока не будет выяснено и выведено феноменолого–диалектически понятие субъекта, до тех пор не смогу назвать тетрактиду достоянием субъекта. Равным образом я не могу раньше соответствующего феноменолого–диалектического анализа также говорить и об «объективности» тетрактиды, так как и категории объекта мы еще не выводим и неизвестно, в каком смысле можно было бы употребить эту категорию. Могут возразить: неужели вы в самом деле не знаете, что такое субъект и объект? Неужели можно оставаться нормальным человеком, не зная, что такое субъект и объект? На это я должен сказать, что как раз то самое, что ясно и понятно непосредственному чувству, что для него понятно и конкретно, то самое является для мысли непонятным и абстрактным, как, правда, и наоборот. Из того, что я умею есть и пить и понимать, что хлеб и вода—не я, а я—не хлеб и не вода, – из этого еще не вытекает, что я—философ и имею философское представление о «я» и о хлебе и воде. Непосредственно ощущаемое для меня мое «я» и такие вещи, как хлеб и вода, суть для мысли отвлеченнейшая данность, такая степень абстракции, что мысль отказывается постигать эти вещи мысленно же, если не принять каких–нибудь специальных приемов, чтобы обнаружить форму пребывания их в мысли. Итак, сослаться на субъект и объект в настоящем пункте исследования без всякого специального анализа мы не можем считать себя вправе.
Остается базироваться уже на выведенных категориях. Что мы вывели? Мы вывели понятие Одного с разными специфическими дополнениями. Везде мы говорили только об Одном и Одном. Первое начало—Одно. Второе начало—Смысл и Сущее Одного. Третье начало—Становление Смысла Одного. Четвертое начало—Факт и реальность Смысла Одного. Мы обязаны и теперь говорить об Одном же, а именно: триада–тетрактида со всеми своими диалектическими деталями есть порождение Одного, создание Одного, вытекает из Одного, происходит из Одного. Откуда тетрактида? Тетрактида порождается Одним. Вот единственный ответ, который может быть дан нами на наш новый вопрос. Но этот ответ чреват глубокими последствиями.
Одно полагает всю тетрактиду. Это прежде всего значит, что одно полагает свое противоположение, не–одно, или иное. Однако если Одно само полагает иное и больше ничто не принимает участия в этом полаганий, то необходимо признать, что иное есть продукт Одного, иное есть результат деятельности Одного. В самом деле, я уже много говорил о том, что иное не имеет собственного бытия, оно—не бытие, оно существует лишь в силу Одного, оно и есть это Одно—в аспекте самоопределения и самооформления. Итак, Одно полагает иное и иное есть продукт, результат Одного.
Но что значит, что Одно полагает иное и иное есть результат Одного? Это ведь значит не больше, как то, что Одно само себя ограничивает, как это мы только что вспомнили. Одно, желая положить себя самого, создать и утвердить себя самого, необходимо должно полагать себе определенную границу, чтобы не расплыться в бесконечность и не утерять оформления и определения. Одно должно оформиться и ограничиться, определиться, а это и значит отличить себя от иного, т. е: положить иное. Итак, если мы говорим, что одно полагает иное, это значит, что Одно полагает себя самого определенным, оформленным, ограниченным, а когда мы говорим, что иное есть продукт и результат деятельности Одного, то это значит, что Одно есть продукт и результат деятельности себя самого, Одно—продукт самооформления и самоосмысления одного же.
Таким образом, если мы устанавливаем необходимую связь между Одним и иным, то мы обязаны признать, что само Одно устанавливает необходимую связь между собою и иным, само Одно полагает необходимую взаимозависимость себя самого с иным. Но взаимозависимость Одного с иным есть, как мы доказали, взаимозависимость Одного с собственным же осмыслением и оформлением. Следовательно, Одно само от себя полагает свое оформление и осмысление, само от себя, и притом в отношении к себе же (ибо иного реально ничего нет), полагает свое осмысление и смысл, само с собою смысловым образом самосоотносится.
Это значит, что Одно само себя адекватно созерцает. Другими словами, Одно есть интеллигенция.
Понятие созерцания ввиду частого употребления это-, го термина в философском языке давно уже потеряло четкость своего значения и почти ничего не говорит большинству занимающихся философией. Поэтому я бы предложил, во–первых, вернуться к старинному термину «интеллигенция», хотя бы уже по одному тому, что с ним не связывается никаких зловредных ассоциаций, а во–вторых, точнейшим образом зафиксировать его смысловое содержание, чтобы не сбиться с чисто диалектических конструкций. Содержание этого понятия—в интересующем нас диалектическом аспекте–следующее: 1) интеллигенция есть прежде всего активность, т. е. полагание Одним себя самого и всего, что связано с таким полаганием. Пока Одно мыслится как продукт нашего субъективного построения или объективного природного процесса, оно не есть активность и не содержит ее в себе. Оно здесь нечто выведенное и вторичное, а не источник и не сила. Диалектика же требует, чтобы Одно было активностью как себя самого, так и всего иного и чтобы эта активность одинаково охватывала все, все элементы и части, на которые распадается Одно. Итак, интеллигенция есть прежде всего активность. 2) Далее, интеллигенция есть смысловая активность, активность смысла, эйдоса, осмысления. Здесь мы должны раз навсегда расстаться со всяким натурализмом—вечным врагом, поджидающим нас со своим арканом, как только мы выйдем из ворот нашего диалектического монастыря. Очень легко и соблазнительно понять активность как тяжелую силу технического или физического мира, действующую в пространстве или хотя бы только во времени. Здесь—погибель диалектики с феноменологией и с ними вместе всей теоретической философии. Кто не различает смысла и факта и кто не понимает, что это совершенно разные виды бытия, что между ними не может быть натуралистического взаимоотношения, тот пусть не занимается ни феноменологической диалектикой, ни вообще философией, ибо тот не пользуется мыслью и не подозревает даже, какова стихия мысли самой по себе. Подавляющее большинство распространенных и нераспространенных руководств и специальных исследований по логике привлекает различные психологические законы и наблюдения, наивно думая, что чистую природу и активность смысла можно будет глубже и жизненней понять, если наделить ее конкретно–психологической характеристикой при помощи таких признаков, как воля, творчество, усилие и т. д. и т. д. Разумеется, таковые термины могут быть введены в потребном количестве с одним, однако, условием—чтобы они имели не психологически–фактическое, но чисто логически–смысловое содержание. Ведь и мы употребляем термин «активность», однако вкладываем в него чисто феноменолого–логическое содержание. Так, например, ножка стола, отломанная от, самого стола, не есть просто так или иначе выструганная и покрашенная палка или кусок дерева; посмотревши на нее, мы тотчас же видим, что это именно определенная часть стола, и, точнее, ножка стола. Чем она отличается от деревянной палки просто? Только тем, что в ней есть особая смысловая активность, отличающая ее от всего прочего, а имен· но активность быть определенной частью стола. Значит ли это, что данная деревянная палка проявляет ту активность, которую можно было бы, напр., сравнить с мощно· стью, развиваемой в паровой машине? Это, конечно, совершенно особая мощность, а именно смысловая, и, когда мы говорим, что Одно обладает смысловой актив· ностью и есть эта активность, это значит, что все части Одного суть не отдельные предметы, ничем между собою не связанные, но что все они и каждый в отдельности есть нечто одно, единое, совершенно одинаковое во всех своих частях и эта отнесенность к Одному связывает все в одно, Одно держит все и содержит разные части, в него входя· щие, как нечто нераздельно единое. Итак, интеллигенция есть смысловая активность Одного, т. е. тетрактиды. 3) Эта смысловая активность, отвлеченно взятая, не имеет пределов; она уходит в бесконечность, ибо она может бесконечно осмыслять и охватывать все до какрго угодно предела. Но что такое это все? Мы ведь знаем уже, чта для абсолютной диалектики нет ничего реального, кроме Одного; все это и есть наше Одно. Следовательно, смысловая активность, или активное оформление смысла, есть активность, направляющаяся на само же Одно. Одно активно осмысляет самого себя, ибо, кроме Одного, вообще нечего осмыслять. Начиная осмыслять и намереваясь уйти в этом своем процессе в бесконечность, Одно наталкивается на самого себя, на свою собственную границу.








