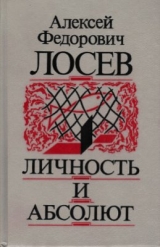
Текст книги "Личность и Абсолют"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 54 страниц)
ВСТУПЛЕНИЕ
«XIX век был веком естествознания, XX век будет веком психологии». Этими восторженными словами формулировал однажды на заседании Московского психологического общества проф. Г. И. Челпанов современное состояние психологической науки. И прежде чем мы захотели бы яснее представить себе суть этого необычайного прогресса в психологии и точно определить смысл и степени его в области отдельных психологических дисциплин, мы не можем не констатировать того, что в современной психологии происходит что–то совершенно нежданное, совершенно необычное и замечательное. Психология вторгается решительно во все науки, проходя все степени научного значения—от чистого умозрения до технического применения найденных законов. Надо вчувствоваться в этот прогресс, как бы он ни казался с известной точки зрения несостоятельным, и надо отрешиться от взгляда на психологию как на ряд абстрактных формул; делая это, мы становимся свидетелями того, как сильно в современной психологии стремление стать жизнью, стать жизненной наукой, внести освежающий и объясняющий луч живых, дотоле не исследованных фактов в самые различные науки. Прогресс жизненности в психологии, жизненности в самом широком смысле этого слова—вот что делает нашу психологию увлекательной и вот что принципиально отличает ее от прежней психологии.
Но насколько трудно отрицать бьющие в глаза факты прогресса в психологии, уже заявившие о себе самым заметным образом в различных естественных, гуманитарных и прикладных науках, настолько легко видеть то необычайно пестрое и хаотическое состояние методологической и вообще основной, принципиальной части психологии. Эта противоположность блестящего прогресса фактической стороны дела и чрезвычайно скромного состояния теоретического самообоснования настолько часто повторяется в руководствах по психологии что нам нечего долго останавливаться на этих общих местах. Нам важен только самый факт такого раздвоения в психологии, и, поскольку настоящая работа имеет в виду именно эту, теоретическую сторону современного состояния психологии, мы и должны считаться с ее отсталостью и сравнительной «ненаучностью». Несмотря на многовековый исторический опыт, мы должны начинать здесь с самых элементарных и простых фактов; мы должны признать, что еще не опознано самое первоначальное, первичное, не приведено в известность еще самое простое и общее. Иначе бы мы гораздо успешней подвигались в этой области и не отставали бы так от других наук, в частности хотя бы от прикладной психологии. С другой стороны, еще, кажется, не наступило время постоянных обобщений из частных психологических и до–психологических (но для психологии насущно необходимых) фактов и явлений. Еще, по–видимому, недостаточно изощрены средства личных наблюдений в психологии, недостаточно однозначны методы отдельных исследователей, чтобы можно было из этой необозримой массы фактов, наблюдений, методов, личного опыта психологов построить что–нибудь цельное и хотя бы в фундаменте своем непоколебимое. Как же мы могли бы приступить к критике какой–нибудь системы психологии или какой–нибудь школы ее или направления?
Пойти за каким–нибудь психологом и повторить его аргументации, направленные к самообоснованию, – такой метод при современном состоянии психологии, пожалуй, не так уж дурен. Иногда бывает важно оценить данную теорию с какойнибудь определенной, хотя и ложной, но именно точно определенной точки зрения; при этом могут вскрыться многие недостатки и достоинства исследуемой теории. Но мы не пойдем этим методом. Все–таки и здесь нужен же какой–нибудь так называемый «критерий» для оценки бесчисленных психологических учений, все–таки и здесь ведь нельзя обойтись без «своих» предпосылок или хотя бы просто симпатий.
Volens–nolens приходится каждому изучающему психологию, а в особенности осмеливающемуся критиковать существующие теории в ней, начинать свою работу, свое психологическое «деяние», самому строить исходные точки зрения, пользуясь уже данными системами и теориями как только материалом для сравнения с собою. Различие взглядов при таком методе может быть только полезным, давая возможность обсуждать найденное положение с разных сторон. Один из великих психологов современности, Джемс, допустивший много странностей [15]15
Что странным кажется непонятное или непонятое—охотно допускаю. Ср., впрочем, хорошую характеристику внутренней половинчатости Джемса у Л. Μ. Лопатина. Монизм и плюрализм. – Вопр. филос. и психол. Кн. 116, стр. 77 и сл.
[Закрыть]в своих исследованиях, наиболее, может быть, странным кажется в своем утверждении, что относительно небытия сознания у него есть «свои интуиции» и что им он «должен покоряться» [16]16
У. Джемс. Существует ли сознание? – Нов. идеи в философии. СПб., 1913. № 4, стр. 126.
[Закрыть]. Строя свои критерии и точки зрения, мы именно должны утвердить прежде всего то, на что у нас есть «свои интуиции». Без этого не может быть никакого прогресса. Если бы каждый психолог адекватно изображал свои переживания, то едва ли нам пришлось быть свидетелями такой разноголосицы в современной психологии. Мы должны иметь мужество смело взглянуть в глаза своим «интуициям» и смело утвердить в них то, что представляется нам неслучайным и существенным. И только тогда, когда у каждого психолога будет что–нибудь прочно установлено, хотя бы только в области непосредственно данного, – вот тогда–то и можно будет приступить к сводке этих мнений и обобщениям уже научного характера.
Нам предстоит критически пересмотреть учения одной из выдающихся психологических школ наших дней. К этому делу мы не смеем приступить с голыми руками, не имея никаких критериев, кроме общих логических законов, и никаких обобщений. Считая, что важное психологическое учение надо сначала перевести на язык своих собственных переживаний, чтобы его понять и оценить, мы и должны попытаться выяснить себе в самых общих и только хотя бы ad hoc необходимых чертах основное начало всякой психологии, то, что можно утверждать еще до цельных и законченных теорий. Это и будет таким первоначальным критерием для оценки интересующей нас Вюрцбургской школы.
Та же мысль о проникновении в чужое исследование и о переводе его на язык своих переживаний заставляет нас как можно внимательней относиться еще до критики—к самому усвоению и пониманию критикуемого предмета. Мы сочли поэтому целесообразным прежде всего давать и общее изложение исследуемых нами учений, сохраняя по возможности язык и манеры исследования данного автора. Вполне также целесообразным представляется и параллельная изложению имманентная критика, безусловно необходимая, если мы хотим оценивать Вюрцбургскую школу в целом. Без установления смысла и значения отдельных исследований данной школы невозможна и общая оценка школы. Для такой чисто имманентной критики, конечно, еще не требуется противопоставление особого критерия и особой, считаемой за истину точки зрения на предмет. Наоборот, такой критерий необходим при трансцендентной критике, которая имеет в виду уже не внутреннюю согласованность данного исследования с самим собой, а объективную его истинность. Такой критикой удобнее заняться по отношению уже к целой школе как к системе. Соответственно со всем этим наше исследование и будет заключать в себе следующие главные части:
I. Точки зрения критики.
II. История Вюрцбургской школы и имманентная критика ее.
III. Система и трансцендентная критика.
I ЧАСТb ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КРИТИКИ
I. НЕОБХОДИМОСТb ПРЕОДОЛЕНИЯ КАНТА И ДЛЯ ПСИХОЛОГИИ:а) близкая связь психологии и логики (иллюстрация этой связи), б) тесное переплетение психологической и логической точек зрения у Канта, с) непознаваемость внутренней жизни духа как методологический тормоз в психологии.
При обосновании теоретически–исходных пунктов научной психологии Кант требует к себе такого же внимания, как требует его и любое гносеологическое построение. Скажем больше: Кант и в психологии требует такого же преодоления, какое по необходимости приходится совершать в сфере теоретической философии. Не расквитавшись с Кантом, мы и в психологии стоим перед суровыми и грубыми формулами критицизма, навеки пытающимися сковать живой поток внутренней жизни сознания. Мы разумеем именно критицизм Канта как первый и наиболее откровенный критицизм. И в нем, т. е. в преодолении его, поищем основы психологической науки.
Почему те или иные расчеты с Кантом должны влиять существенным образом на обоснование психологии? – Мы укажем здесь следующие четыре причины, сводящиеся в конечном счете к одной и служащие как бы различными ее пояснениями.
Первая причина та, что и вообще психология и гносеология—науки в сущности очень близкие одна к другой, как бы резко ни отделялись они антипсихологизмом. Лучшим доказательством этого является тот замечательный факт, что сами антипсихологисты в той или другой мере пользуются психологией, иногда даже сознательно. Так, по Н. О. Лосскому, «свойства истины вовсе не зависят от происхождения знания, так что наука о происхождении знания в такой же мере не может служить основой для теории истины, в какой языкознание не может служить основой для механики». «Отсюда следует, – продолжает он, – -не только то, что в теории знания не надо включать исследования происхождения знания, но и то, что всякая попытка построить генетическую теорию знания неизбежно должна приводить к заблуждению и нелепостям» [17]17
Н. Лосский. Введение в философию. Ч. I. Введение в теорию знания. СПб., 1911. Стр. 29 и сл.Н. Лосский. Введение в философию. Ч. I. Введение в теорию знания. СПб., 1911. Стр. 29 и сл.
[Закрыть]. Обращаясь же к тому, как сам Н. О. Лосский строит свою гносеологию, мы встречаемся на первом же шагу с требованием, что «мы должны начинать прямо с анализа фактов, мы не имеем права давать никакого определения знания и не можем указать никаких свойств его, кроме тех, которые прямо усматриваются в фактическом переживании [18]18
Разрядка моя.
[Закрыть]и будут приняты нами за основание, определяющее, какие именно факты подлежат нашему исследованию» [19]19
Н Лосский. Обоснование интуитивизма. СПб., 1906. Стр. 63.
[Закрыть]. Такое сознательное намерение начинать гносеологию с анализа фактов сознания, конечно, должно немного смягчить вышеприведенный приговор над психологизмом. Ведь и сам Лосский в конце концов говорит: «…поскольку изучение состава знания есть уже в широком смыслё слова указание на происхождение его, гносеология не отказывается от исследования происхождения знания» [20]20
Н. Лосский. Введение в филос. Ч. I, стр. 31.
[Закрыть]. Но такая откровенность встречается далеко не часто. Проф. А. И. Введенский, которому не удается и в первоначальных определениях логики в ее отношении к психологии избежать неясностей [21]21
Так, он пишет: «…если каждое слово психологии в свою очередь должно быть проверяемо правилами логики, то, значит, последние и вовсе не основываются на психологии, а существуют независимо от нее» (Логика как часть теории познания. СПб., 1912. Стр. 5). Здесь– смешение непосредственного усмотрения ошибки, существующего до всякой науки (между прочим, до логики и психологии), и логики как научной системы в одном термине – «логика». То же quaternio ter–minorum15# повторено на стр. 11).
[Закрыть] [22]22
Учетверение терминов (лат.)—логическая ошибка.
[Закрыть], строит «новое и легкое доказательство философского критицизма» [23]23
Проф. А. И. Введенский. Op. cit., стр. 262 и сл.
[Закрыть]на толковании закона противоречия как естественного для представления и как нормативного для мышления [24]24
Ibid., стр. 251 и сл.
[Закрыть], совершенно не учитывая того, что разница между представлением и мышлением есть разница чисто психологическая [25]25
Ср. с этим: Н. Лосский. Логика проф. А. И. Введенского. М., 1912. Стр. 24—31.
[Закрыть].
Еще разительнее, пример выдающегося философа наших дней Гуссерля, давшего в I томе своих «Логических исследований» несокрушимую критику всякого психологизма. Воздвигнутое им во II томе «Logische Untersuchungen» грандиозное здание феноменологии предваряется далеко не случайным [26]26
К сожалению, мы принуждены пользоваться только первым изданием «Log. Unt,» Гуссерля. Во втором издании все сближения феноменологии с психологией и гносеологией отклоняются.
[Закрыть]по вытекающим из сути дела замечанием: «Phanomenologie ist descriptive Psychologie [27]27
Феноменология—это описательная психология (нем.).
[Закрыть]» [28]28
Husserl Logische Untersuchungen II. 1901. Стр. 18.
[Закрыть]. Гуссерль отклоняет возможный упрек в психологизме [29]29
На той же странице.
[Закрыть]тем, что феноменология есть не полная научная психология, но – «только известные классы дескрипций, которые образуют предварительные ступени к теоретическим исследованиям в психологии». Однако вопрос здесь идет не о методе феноменологии, а о предмете ее. Она может быть и чисто дескриптивной, будучи в то же время исследованием психологического. Это живо почувствовал сам Гуссерль и в своем новом сочинении уже прежде всего старается отделить феноменологию от психологии путем отличения сущности (Wesen) от факта (Tatbestand), с одной стороны, и реального от «не–реального» – с другой [30]30
Husserl Ideen zu einer reiner Phanomenologie und phanomenologischen Philosophie. I Buch. Halle, 1913. Стр. 3 f.
[Закрыть]. Если даже признать эти различения правильными [31]31
Подробнее о них ниже.
[Закрыть], то и тогда возникают многочисленные недоумения [32]32
Многие из этих недоумений, и довольно основательные, высказаны, напр., Б. В; Яковенко в статья «Философия Эд. Гуссерля» (Нов. идеи в филос. СПб., 1913, № 3, стр. 140—145) и «Что такое философия» (Логос. М., 1911—1912. Кн. 2—3, стр. 97 JT. и в особ. 86—94).
[Закрыть], и среди них кардинальный вопрос: а чистое сознание, которое намеренно и сознательно описывается Гуссерлем, оно же ведь все–таки есть сознание? Ведь преодоление индивидуального, или антропологического, субъекта в гносеологии не есть же еще преодоление субъекта трансцендентального. Интересно, что защитники Гуссерля упорно повторяют то, что уже сказано, уже утверждено в феноменологии Гуссерля в качестве непосредственно данного, совершенно не отвечая на те возражения [33]33
В оригинале: выражения.
[Закрыть], которые ставятся. Таковы, например, краткие и неясные ответы Г. Шпета на возражения Б. В. Яковенко: «1) феноменология изучает не только «акты познания», а интенциональность во всех ее как актуальных, так и инактуальных модификациях», или «3) Intentio может быть актуальна, но она не активна», или «10) феноменология не «стоит под» категорией «психического бытия», так как последнее есть эмпирическое бытие, а феноменология говорит о чистом сознании» [34]34
Г. Шпет. Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы. М., 1914. Стр. 114 и сл.
[Закрыть]. Во всем этом как раз и существует–то сомнение. Как бы ни отвечали на эти воззрения до сих пор Гуссерль и его защитники, ясно одно: в феноменологии Гуссерля описывается «чистое сознание» и для объективного «предмета» «интенциональной направленности» нужен, по–видимому, еще особый критерий. Таким образом, и у Гуссерля находим некоторое близкое соотношение, говоря грубо, психологии и гносеологии, или, говоря утонченно, эмпирической и трансцендентальной феноменологии [35]35
Ср.: HusserL Ideen.., стр. 57 if.
[Закрыть]. После внимательного анализа феноменологических достижений Гуссерля уже иначе относишься к его замечанию: «…психология находится к философии в близком, даже в ближайшем отношении» [36]36
Гуссерль. Философия как строгая наука. – Логос, 1911. Кн. I. стр. 35.
[Закрыть]. Это едва ли не признание в неосуществимости абсолютного антипсихологизма.
Такова эта первая причина, заставившая при установлении основ психологии как науки иметь дело и с гносеологией. Та и другая находятся именно в ближайшем отношении одна к другой, и, начиная строить одну, мы обязательно задеваем и другую. Обращаясь же, в частности, к Канту, мы таким образом в своем оправдании его или в своей критике его получаем известную точку зрения и для психологии. Намеренно мы не говорим о взаимоотношениях гносеологии и психологии подробнее и конкретнее. Нам пока важен самый факт их близкого родства.
Вторая причина того, что изучение Канта необходимо и для психологии, заключается в том, что у самого Канта, как это будет показано, очень тесно переплетены логическая и психологическая точка зрения на переживание. Это обстоятельство важно для психологии не менее, чем для гносеологии. Положительного для психологии в этом мало, поскольку такое переплетение совершается бессознательно, из отрицательных же черт наиболее важны те две, которые указывает проф. А. И. Введенский. «В психологии это приводит, во–первых, к тому, что психология мышления остается в крайне неразработанном виде, особенно же психология умозаключений», так как «нам покажется совершенно ненужным в психологии особое учение о том самом, о чем уже говорится в логике». «Во–вторых, этим смешением внушаются ложные взгляды на причисляемые к мышлению душевные переживания: они невольно логизируются в наших глазах…» [37]37
Проф. А. И. Введенский. Op. cit., стр. 11.
[Закрыть]Это требует особенно внимательного отношения к гносеологии Канта. И мы увидим, как причудливо переплелись тут у Канта «логика» и психология.
Третья причина, заставляющая нас оглянуться на Канта, – это то, что, по его учению, нет не только полного постижения «вещей в себе», относимых нами к внешнему миру, но и наш дух в его сокровенной глубине, в своей «вещи в себе», недоступен для нашего умственного взора, а даны нам только душевные «явления» [38]38
Кант. Критика чистого разума. Пер. Н. Лосского. СПб., 1901. Стр. 108.
[Закрыть]. Этот вопрос никак не может быть обойден, если мы действительно хотим утвердиться на незыблемых основаниях теоретической философии и если для нас психология не будет только собранием отдельных фактов, соединенных в недоказуемые и потому необязательные гипотезы. Никакая система психологии не может обойти этой гносеологической проблемы, и, поскольку мы наши систематические замечания предпосылаем той психологической школе, которая стремится уничтожить всю старую ассоциационную психологию и воздвигнуть на ее место новую, функциональную, мы и должны установить хотя бы приблизительные точки зрения и на этот предмет. И конечно, Кант, родоначальник критицизма, должен быть здесь рассмотрен в первую же голову.
Наконец, четвертая причина (и последняя), обнимая все указанные три вместе, является в виде необходимости какого–то особого до–теоретического исследования каких–то явлений, без чего невозможна ни гносеология, ни психология. Гносеологию не начнешь без твердой фактической почвы под ногами; ей надо за что–нибудь ухватиться в сознании, чтобы в ней вообще шла хоть какая–нибудь речь об отношении сознания к бытию. Ясно и то, что это не те обычные переживания, которые в нас существуют, ибо, имея их просто и оценивая по–обыкновенному, мы еще не становимся гносеологами. С другой стороны, психология, которая есть сознание сознания, тоже требует для себя каких–то особых, уже не текучих и не так изменчивых фактов, которые бы, однако, обнимали собою всю текучую изменчивость эмпирической душевной жизни. Все это толкает к иным фактам, чем те, к которым мы привыкли, и тут опять невольно возникает у нас мысль о Канте, об его априоризме, о трансцендентальной апперцепции и пр. В такой потребности дотеоретического констатирования некоторых фактов, из которых возникает жизнь духа, души, сознания, познания, и коренится наша главная причина обращения к «расчету» с Кантом [39]39
Удовлетворяет ли этому «до–теоретическому» знанию феноменология Гуссерля, мы пока этого не касаемся. Но можно сказать, что его прямолинейное самоотграничение от экспериментальной психологии, предпринятое в вышецитированной статье из «Логоса» «Философия как строгая наука», едва ли может иметь абсолютное значение. Многие сочинения уже использовали, и довольно удачно, феноменологический метод для психологии, напр.: Я. Hofmann. Untersuchungen uber den Empfindungsbegriff (Arch. f. d. Ges. Psych. Bd. XXVI, Heft 1—2) или D. Katz. Die Erscheinungsweisen der Farben (Zeitschrift fur Psych., Erg. – Bd. 7, Leipz., 1911). И по–видимому, прав А. Мессер, который говорит, что феноменология, поскольку она старается выяснить психологические понятия с помощью имманентного созерцания, «есть сама психология, даже ее основная часть» (A. Messer. Husserls Phanomenologie in ihrem Verhaltniss zur Psychologie. – Arch. f. d. Ges. Psych. Bd. XXII, стр. 124; ср. того же А. Мессера вторую Статью в Arch. f. d. Ges. Psych. Βα. XXXII. стр. 61 f.).
[Закрыть].
Значение критики Файхингера. Бездоказательность дуализма чувственности и рассудка. Ошибочность квалификации способностей духа, или души, с точки зрения их гносеологической ценности. Неясности в концепции основного дуализма: а) принципиальное различение и фактическое смешение «трансцендентальной» и «эмпирической» дедукции; b) предшествие форм содержаниям; с) рационалистические пережитки у Канта; d) эмпирические элементы понятия априорности. Примерная иллюстрация противоречий Канта очевидным психологическим фактам.
Итак, что же такое Кант, что мы должны из него принять и что отвергнуть для психологии?
Файхингер [40]40
Н. Whinger. Commentar. zu Kant's Kritik der reinen Vernunft. Stuttgart. Bd. I. 1881. Bd. IL 1892.
[Закрыть]своим двухтомным комментарием оказал неоценимую услугу науке в двух направлениях: 1) он показал, что и у авторитетов встречаются самые примитивные ошибки, мешающие придавать им не только историческую, но и абсолютную ценность, и 2) Файхингер показал целесообразность того метода исследования Канта, кот[орый] может быть назван прямо грамматическим, поскольку комментатор не боится всеразрушающего ножа своей неумолимой критики—и критики иногда прямо отдельных выражений. Надо у Канта исследовать именно каждую строчку, каждое выражение, прежде чем говорить по существу. Когда начинаешь детально анализировать каждый отдельный этап и ступеньку в исследованиях Канта, то становится ясным, отчего это получилась такая причудливая «критическая гносеология» и отчего с ней нельзя сладить, если обращаться к ней как к чему–то целому и не стараться начать с проверки грамматической ясности отдельных фраз, отдельных кирпичиков этого здания.
Остановимся на самом основном, без чего немыслима критическая философия. Это основное—дуализм– чувственности и рассудка, содержания познания и формы его, эмпирии и априорности явления и вещи в себе.
Дуализм чувственности и рассудка покоится на основной предпосылке кантовской гносеологии, что «предмет известным образом действует на душу» (das Gemiith afficire) [41]41
Кант. Kp. чист, раз., стр. 41.
[Закрыть]. Кант нигде не анализирует этого отношения бытия к сознанию, и все, что говорит он по этому поводу, есть утверждение аффицирования. Представляя так себе картину познания, он, разумеется, должен с самого же начала утвердить этот дуализм чувственности и рассудка—вне и до всякого психологического, логического или какого бы то ни было еще анализа данного в сознании. Файхингер считает это мнение Канта об отношении чувственности и рассудка, или противоположение материи и формы, равно как и тесно связанное с последним допущение, что всякая материя дается нам только через чувственность, «более или менее недоказанным» и создающим из критицизма только «схоластический аппарат» [42]42
Whinger. Commentar. I, стр. 430.
[Закрыть]. Не говоря уже о том, что у самого Канта определения в этой области не везде однозначны, – а у него существует противоречие в сфере самого основного признака, отличающего эти понятия, именно во Введении в «Критику чистого разума» [43]43
Кр. чист, раз., стр. 25 и сл.
[Закрыть]и в «Эстетике» [44]44
Напр., стр. 41.
[Закрыть]предмет дается только чувственностью, а в «Тр [ансцендентальной] логике» он высказывает нечто совершенно противоположное: «…понятия без представлений пусты, представления без понятий слепы» [45]45
Ibid., стр <…>. Ср.: Л. Лопатин. Положит, зад. филос. Ч. II. 1891. Стр. 87.
[Закрыть] [46]46
Страницу определить не удалось.
[Закрыть], – не говоря уже о всем этом [47]47
Пунктуация (—) исправлена при подготовке текста.
[Закрыть]и вообще нельзя способности и свойства духа, или души, как–нибудь квалифицировать с точки зрения их гносеологической ценности.·
Излагая вопрос вообще конспективно, мы не предполагаем вдаваться в подробности. Но только что высказанное положение нуждается в основаниях. Главнейшие из них следующие.
Гносеология, главными вопросами которой являются проблема реальности и критика познания, необходимо должна сама оперировать, как и всякая сознательная человеческая деятельность, все–таки с мышлением и с познавательными состояниями. Раз решившись строить гносеологию, человек уже одним этим своим решением счел за несомненное: 1) существование вообще истины (так как ведь отрицание истины тоже есть истина, поскольку это отрицание претендует на правильность), 2) истинность, с которой совершаются его умственные акты (т. е. истинность логич. законов). Таким образом, гносеология, которая для своего анализа мышления пользуется мышлением же, в корне противоречива, ища истину и в то же время уже пользуясь ею в своих поисках. Отсюда следует такая дилемма: или в гносеологии наделять какие–нибудь психологические состояния особой ценностью их для познания, пользуясь в таком наделении такими же психологическими состояниями, и тогда всякую теодэйю познания признавать за contradictio in adjecto [48]48
Противоречие в определении (лат.)—логическая ошибка.
[Закрыть]; или же отказать реальным психическим состояниям в наделений их признаками, означающими ту или другую степень гносеологической истинности, а отнести таковые к сверх–эмпирической реальности, усмотрение которой есть дело психологии, и тогда возможна будет непротиворечивость в теории познания [49]49
Ср. интереснейшее сочинение L. Nelson. Liber das sogenannte Ег–kenntnisproblem (Sonderab. aus den «Abhandl. der Friesschen Schule», Bd. II. Heft 4. 1908), а также доклад того же автора на 4–м Интернац. филос. конгрессе в Болонье (1911 года), имеющийся и по–русски («Невозможность теории познания» в «Нов. идеях в филос.», № 5).
[Закрыть]. Отделяя непроходимой пропастью чувственность и рассудок и думая, что первая дает «содержание», а второй—оформливает эти содержания, Кант никогда не может решить никакой гносеологической проблемы, так как, противореча сам с собой, он приходит к разделению этих двух сфер при помощи пользования все теми же формами рассудка и чувственности. Другими словами, помещая эти две способности познания в реальной человеческой душе («категория» чистого рассудка иначе и не объясняется Кантом, как акт, процесс связывания, данный притом в «душе» [50]50
«…Рассудок сам по себе ничего не познает,, но только связывает и упорядочивает материал для познания». Ibid., стр. 104. «То условие, под которым предметы могут быть наглядно представляемы, в действительности лежит в душе a priori в основе объектов, что касается их формы». Ibid., стр. 84 и мн. др. места.
[Закрыть]), он обезоруживает себя в гносеологии, и, не имея в виду никаких истинно–идеальных основ [51]51
Для примера (поясняющего, а не доказующего) укажем на «предмет» Гуссерля, узреваемый в созерцании сущности и за пределами эмпирических данностей. Husserl. Log. Unters. Π, стр. 42—48, 50 if., 77—96, 99 ff.
[Закрыть]знания, независимых от реального мышления, но сознаваемых в нем, он и уничтожает возможность непротиворечивой теории познания, и насильственно логизирует конкретно данные переживания, влияя пагубно, значит, и на психологию [52]52
Недаром некоторые психологи, даже неокантианцы, стараются избегать в психологии терминов «рассудок» и «разум». Так, проф. А. И. Введенский пишет, что их надо прямо вышвырнуть из психологии. Введенский. Психология без всякой метафизики. СПб., 1914. Стр. 136 и сл.
[Закрыть].
Таково главнейшее основание, заставляющее не признавать за кантовским разделением чувственности и рассудка гносеологического значения. Резюмируя, можно сказать, что это разделение, предпринятое без особого, так сказать, гносеологического критерия, исключительно путем обыкновенной туманно–психологической абстракции, есть логический круг, idem per idem, почему в корне не ясен и самый принцип такого разделения, поскольку Кант сознательно не занимается также и психологией. Не гносеология и не психология, а только неясное и не до конца осознанное нащупыванье истины.
Вдумываясь глубже в этот дуализм формы и содержания, рассудка и чувственности, мы открываем новые трудности и неслаженности у Канта.
Прежде всего, имманентно говоря, достиг ли Кант надлежащей ясности в этом различении и сохранил ли эту ясность до конца?
Мы утверждаем, что этой ясности у Канта, во–первых, нет, а во–вторых, и не может быть.
Основная неясность в кантовском различении рассудка и чувственности, или, что то же, формы и содержания, категорий и материала знания, заключается [53]53
В оригинале: исключается.
[Закрыть]в смешении психологической и логической точек зрения. При этом под логической точкой зрения мы понимаем в данном случае совершенно условно то, что не зависит от эмпирических перемен, происходящих в душе, совершенно. не предрешая вопроса о настоящем значении логического и отвлекаясь, напр., от теории абстракции Гуссерля, признающей за логическое уже нечто не–психическое. Удивительнее всего то, что Кант в принципе проводит это различение. Оно не удается ему только фактически.
«Среди различных понятий, образующих пеструю ткань человеческого знания, некоторые предназначены также для чистого априорного употребления (вполне независимо от всякого опыта), и это право их во всяком случае нуждается в дедукции, так как опытные доказательства правомерности такого употребления недостаточны, а между тем мы должны знать, каким образом эти понятия могут относиться к объектам, которых они не получают, однако, ни из какого опыта. Поэтому объяснение того способа, каким понятия относятся a priori к предметам, я называю трансцендентальною дедукциею и отличаю ее от эмпирической дедукции, указывающей способ, каким понятие возникает благодаря опыту и рефлексии над ним, а потому касается не правомерности, но лишь факта, благодаря которому возникло обладание понятием» [54]54
Кант. Кр. чист, раз., стр. 80.
[Закрыть].
«В самом деле, главный вопрос во всем исследовании состоит в том, что и насколько может быть познано рассудком и разумом независимо от всякого опыта, а не в том, как возможна сама способность мышления» [55]55
Кант. Кр. чист, раз., стр. 6.
[Закрыть].
В «Пролегоменах» Кант после приведения таблиц суждений, понятий и всеобщих принципов естествознания говорит: «Чтобы соединить все предыдущее в одно понятие, прежде всего необходимо напомнить читателю, что здесь речь идет не о происхождении опыта, а о его составе. Первое принадлежйт эмпирической психологии» [56]56
И. Кант. Пролегомены ко всякой будущей метафизике. Пер. Вл. С. Соловьева. М., 1905. Стр. 75.
[Закрыть].
Нужно, таким образом, принять за факт, что К^ант различает психологическую и логическую точки зрения. И мы можем вместе с проф. Г. И. Неплановым сказать: «…сам Кант отличал свой метод исследования, который можно было бы назвать трансцендентальным методом исследования, от психологического генезиса понятий» [57]57
Проф. Г. Челпанов. Проблема восприятия пространства. II. Киев, 1904. Стр. 119.
[Закрыть]. Но разделены ли у Канта эти две точки зрения фактически—в этом позволительно усомниться.
Проф. Г. И. Челпанов пишет: «В первоначальном восприятии мы не отделяем пространственного порядка от ощущений; если же мы процессы восприятия сделаем предметом нашей рефлексии, то увидим, что в восприятии мы можем отличить форму от материи, т. е. пространство от ощущения; мы увидим, что то, что мы называем порядком, может «мыслиться» нами без какого бы то ни было содержания. Мысля какое–либо тело, мы можем мыслить исключительно его пространственные свойства, совершенно не обращая никакого внимания на цветовые свойства. Такая возможность отдельного, независимого от ощущений рассматривания пространственного порядка и производит то, что мы считаем этот порядок ощущений чем–то независимым и отдельным и называем его «формой»» [58]58
Ibid., стр. 132.
[Закрыть].
Эти глубоко верные мысли, однако, едва ли применимы в полной мере к Канту. Во–первых, у самого Канта такого психологического и такого тонкого различения нет; во–вторых, здесь уничтожается главный признак кантовского понятия формы как чего–то формирующего; в–третьих, у Канта так часто и откровенно говорится о предшествии форм содержанием, что сомневаться в этом решительно невозможно.
Сходно с проф. Г. И. Челпановым рассуждают Виндельбанд, Коген, I. В. Моуег, Фр. Альб. Ланге и др. Так, Виндельбанд пишет: «Его понятие априорности не имеет ничего общего с психологическим первенством, хотя иногда и кажется, что между ними есть что–то общее, благодаря привычке Канта употреблять многозначащие неопределенные выражения [59]59
Виндельбанд. Ист. нов. филос. Пер. под ред. проф. А. И. Введенского. СПб., 1908. II. Стр. 50 f.
[Закрыть]Коген, Мейер, Ланге и др. тоже склонны считать неудачные и неверные выражения Канта только за метафоры [60]60
Ср.: Whinger. Commentar. II, стр. 81 ff.
[Закрыть]. Но поразительно откровенные заявления Канта решительно препятствуют такому взгляду на «формы» Канта.
«Так как то, в чем ощущения могут быть приведены в порядок и в известную форму, само не может быть опять ощущением, то, хотя материя всякого явления дана нам только a posteriori, форма для них целиком должна находиться готовою в душе a priori и потому может быть рассматриваема отдельно от всякого ощущения» [61]61
Кант. Кр. чист, раз., стр. 42.
[Закрыть].
«Но это наглядное представление (Кант говорит о пространстве) должно находиться в нас a priori, т. е. до всякого восприятия предмета, следовательно, оно должно быть чистым, не эмпирическим наглядным представлением» [62]62
Ibid., стр. 45.
[Закрыть].
«Так как восприимчивость субъекта, способность его подвергаться воздействию предметов, необходимо предшествует всем наглядным представлениям этих объектов, то отсюда понятно, каким образом форма всех явлений может быть дана в душе раньше всех действительных восприятий, следовательно, a priori, а также понятно, каким образом она как чистое наглядное представление, в котором должны быть определены все предметы, может до всякого опыта содержать принципы их отношений друг к другу» [63]63
Ibid., стр. 46.
[Закрыть].
Это слишком откровенный язык, чтобы его понимать как–нибудь метафорически. А таких мест можно привести из Канта сколько угодно [64]64
Ср.: Vaihinger. Commentar. И, стр. 86 if.
[Закрыть]. И единственным выводом из всего этого может быть только то, что, различая логику и психологию в принципе, в намерении, Кант фактически путал их, почему в корне неясно и его различение формы и содержания.
Но Кант едва ли и мог провести такое различение сколько–нибудь ясно. Что здесь не было и тенденции производить исследование психологическим методом, это ясно из только что сказанного. Если и de facto у него часто психология, то намеревался он писать, конечно, гносеологию. Однако у Канта не было и гносеологической тенденции, если под последней понимать чисто «смысловое» отношение к переживанию, чисто интенционалистическое отношение, разумея под интенцией простой факт значимости переживания и отнесенности его к объекту, не опираясь ни на схоластиков, ни на Брентано и Гуссерля. Эти две основных точки зрения на переживание, логическая и психологическая, не ставились, значит, Кантом сознательно. А это и было причиной того, что у Канта оставалось место для иных принципов различений и для иных точек зрения на предметы, независимых от их рационального обоснования; таким принципом, правда отчасти скрытым, но отчасти и очень откровенным, и было у него рационалистическое представление о субъекте познания как о, замкнутой субстанции и о процессе познания как об аффицировании, т. е. причинном воздействии вещей в себе на эту субстанцию. Разумеется, при таком воззрении раз навсегда закрывается доступ к иному пониманию нашего знания, как то, что складывает его из одних психических состояний и тем лишает его возможности проникновения в трансцендентное.








