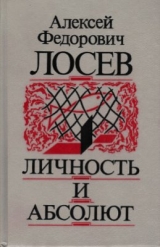
Текст книги "Личность и Абсолют"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 52 (всего у книги 54 страниц)
Процитируем место, где всего отчетливее высказана безусловная база искания, опора на факт, единственно обеспечивающая абсолютность постройки: «…чтобы вообще утверждать реальность чего бы то ни было, нужно иметь соответствующее ощущение этого предмета… Человек ощущает и имеет объект для ощущения—в зависимости от того, как он живет… Чтобы воспринять и ощутить Божество, нужна соответствующая жизнь, не только внутренняя, но и внешняя… Итак, логика триединства имеет под собой некоторый вне–логический опыт, который нельзя насадить и воспитать никакой логикой…» (с. 437—438). Здесь подразумевается еще одно, что Лосев уже говорил и еще скажет: «соответствующая жизнь», о которой идет речь, есть и единственно достойная. Она же и забытая. Из–за ее утраты—гнев Лосева на «возрожденство» и измельчание человека, на «мелкий салонный блуд Вольтера и Дидро» [969]969
Ср. то же отношение к Ренессансу в школе мысли, к которой Лосев всего ближе: «Колебания волн, вызванные эксцентрическим принципом, создавшим более четырехсот лет назад некое новое время, мне кажется, до крайности расплылись и измельчали, познание прогрессировало до снятия его же самого, человек настолько оторвался от самого себя, что себя уже не замечает. «Человек модерна», т. е. человек после Ренессанса, готов для захоронения» (и тут же об «окулярности» и «спектакулярности» новоевропейского зрения, неспособного видеть подлинные силы истории; из переписки Вильгельма Дильтея и графа Йорка фон Вартенбурга, цит. по: Хайдеггер М. Бытие и время… С. 401). Ср. почти те же выражения у Лосева: «Вырожденческая мысль (она же и «возрожденская»), неспособная мыслить в отчетливой форме бесплотные силы, тем более уже не умеет мыслить их внутреннюю структуру. На этом примере мы можем наглядно убедиться, насколько измельчала и опошлилась европейская мысль по сравнению со средневеково–античной. Эта мысль почти уже не может фиксировать внутрен–но–выразительные и духовно–рельефные образы. Она хочет благодатное узрение духовно–выразительного лика мерить аршинами и пудами…» (с. 491—492).
[Закрыть]. Широкой мысли мало что помогает, все на нее готовы прикрикнуть и «топнуть ногой», люди сознательно хотят удушить сознание Лосев одинок, он хочет опереться, строго говоря, на то, чего нет. Но полнота бытия, на которую он делает ставку и которая в реальности отсутствует, одна только стоит усилия, если человек не хочет закоснеть в своей ущербности. Отсюда определение души, она есть стремление (ср. у Гегеля: личность как воля), «неугомонное и вечно напряженное алогическое становление» (с. 442). Оно алогическое в указанном выше смысле, т. е. не частное, мыслительное, а захватывающее всю мыслимую широту существа, выходящего в мир. Вместо «ум и душа» Лосев говорит поэтому «ум и стремление». Их общее названо «точкой» в смысле сосредоточенной собранности целого [970]970
В этом смысле небо как всесобирающий охват оказывается у Лосева одной точкой: см. с. 501.
[Закрыть]Эта «точка абсолютной интеллигентности есть Сердце, тот неисповедимый и неисчерпаемый источник всякой интеллигенции, из которого проистекает и чистый ум, и чистое Стремление» (с. 443).
Для тех, кого Сердце в ряду категорий абсолютной диалектики, или абсолютной мифологии, еще может удивить, подчеркнем еще раз главное: Лосев перечисляет, собирает условия, без которых нет полновесного человеческого существа, которое одно только может иметь опыт вещей самих по себе. Сила, мощь, умный экстаз должны восстать против «тепловатого, сыроватого, недалекого существования» (там же). Иначе даже то, что хотят увидеть, казалось бы, в чисто интеллектуальном искании, просто вообще не появится на горизонте.
Скажут, Лосев слишком многого ждет от человека. Но он потребует и еще большего: «Необходима такая модификация Любви, чтобы она оказалась объективной характеристикой личности… Это есть Святость… Святость есть осуществленная, овеществленная Любовь… Истинно любит только святой» (с. 499). Только в предельном горизонте, не в статистическом болоте, у вещей появляются отчетливые очертания. Если обыденные вещи лишены четких контуров, то ясно прочерчено по крайней мере то, к чему вещи тяготеют. «Злобное вырожденство, не способное ни на любовь, ни на святость, смеется и издевается над этими категориями. Но, несмотря ни на что, жизнь вся состоит из стремления к Любви и Святости» (там же). Или просто: Лосеву скучно говорить о меньшем, чем Сила, Свет, Благодать. «Софийной сферы» не существует, даже и догматически, но в этом, для всякого критического взгляда, небытии «образец… норма… модель… цель… маяк для всякого бытия, которое, исходя из тьмы небытия, хотело бы приобщиться к божественной жизни и зажить этой божественной жизнью» (с. 452). Чтобы войти в двери жизни, требуется и многое, и в каком–то смысле не требуется ничего, лишь бы не подавлять, не топтать самодвижную мощь мысли. Выбор приходится делать не трудный между тем и этим, а легкий между бытием и небытием. «…Инобытие должно или принять эту Субстанцию–Личность на себя, т. е. подчиниться ей, или—смерть и гибель самого инобытия… эти энергии таковы, что в своем излиянии они не могут не утверждать…» (с. 455).
Личность, таким образом, одновременно и всего дальше от любого человека, и она же всего ближе к нему. Собственно мы сами—это она, хотя, конечно, мы большей частью ходим сами не свои. Нам поэтому приходится предполагать «абсолютную личность», чтобы не терять контакт с самим собой, насколько мы сами собой бываем. Отсюда трудная, без проведенной подготовительной работы, фраза Лосева: «В религии должно сохраняться простое и естественное самочувствие человеческой личности» (с. 464).
Мы склонны это место или понимать в смысле обыденной доходчивости религии для среднего человека, или уж тогда вообще не понимать. Речь идет о том же феноменологическом правиле: понять что бы то ни было в каком угодно бытии можно только в меру нашего возвращения к полноте нашего существа. Ближайшее нам – «личность», душа как стремление, т. е. мы сами, оно же и «самое свое», мое «самое само»; только через него является нам Бог, который поэтому должен иметь «форму» человека, если открытость миру можно называть формой. Все остальное будет обломками человека, осколками познания.
Именно поэтому «абсолютная диалектика» справедливо требует, даже если богословие до этого еще не додумалось, «чтобы в Боге была и личность, и общество, чтобы Божество было и личным, и социальным… Удивительное и странное бытие, но—ничего не поделаешь; этого требует жизнь» (с. 465—466). Напрасно эстеты от элитарного богословия будут воротить нос от «социологизма Лосева» или еще, может быть, от его «марксизма». Ничто из человеческого содержания не должно быть упущено, чтобы идти к Богу от нашей полноты, а не от нашейзастной изоляции. Сейчас Лосев, вслед за Розановым и Флоренским, только продуманнее и на более основательной феноменологической базе, включит в свою онтологию и пол и деторождение. «Далее, жизненное ощущение каждого из нас, несомненно, выдвигает на первый план стихию родства и стихию жизненного процесса. Родное, родство – глубочайшая основа жизни. Что реальнее всего и конкретнее всего для меня? То, что я могу назвать родным… Когда я сквозь марево становления, сквозь неразбериху и сутолоку обыденщины, в туманах и мгле бытия увидел родной лик, увидел личность, родную мне именно как личность, – это и значит, что я встретился с реальнейшим бытием… Родство… есть имманентная стихия самого Божества. Поэтому–то Оно и Отец, потому–то Оно и Сын…» (с. 466—467).
«Абсолютизация мифологии», русская феноменология Лосева, идет путем возвращения к самому моему, и это та же работа и тот же взлет мысли, что у Хайдеггера и Бахтина тех лет. Человечество, взятое в целом, включив полноту богатства, и сыновство и отцовство [971]971
Когда Лосеву не хватает слов, чтобы высказать полноту своего духовиде–ния, он впадает в гнев и проклинает не понимающих, от каких минимальных обязательных постулатов идет его «абсолютизм», напр.: «Только человек без роду и племени, ненавидящий все родное и интимное, убийца близких и родных, может уничтожить догмат о троичности», или, что то же, о полноте начала, в котором «все Святое, Вечное и Родное, любимый и сладчайший Лик родной Вечности» (с. 467).
[Закрыть], включит тогда и материнство [972]972
«…Можно ли пройти мимо материнства, раз мы заговорили о родстве, о родине, об отцовстве и сыновстве? Возможно ли жизненное самочувствие без интуиции той сферы, где жизнь матери и роль материнства?» (с. 468).
[Закрыть]; и, мы догадываемся, не порядок и детальность перечисления бытийных величин тут важны, а разбор человеческого бытия: Лосеву надо разобрать, в чем его необходимые составляющие, анализ здесь ведет к синтезу. Важно знать, что именно собирает человека. Здесь укоренена важнейшая тема имени, которую мы оставляем на потом, решительно настаивая только на том, что от именности как собственно существенности [973]973
См. с. 468 и др.
[Закрыть]Лосев идет к имени, а не от эмпирических именований—к обобщенной концепции имени.
Один из ранних русских критиков хайдеггеровского «Бытия и времени» увидел там бытовую прозу, мир домохозяйки. Той же близости к житейскому не боится и Лосев. «Возможна ли нормальная (!) человеческая жизнь без сознательного общения человека с другим человеком или с вещью?» (с. 499)—спрашивает он, и, едва спросив, отвечает: общение есть и в Абсолюте и с Абсолютом. Думать иначе «было бы странным, нарочито–несерьезным искривлением реального жизненного самоощущения. Тут весь секрет в том, что людям не хочется переносить эти житейские отношения и чувства на Абсолют, т. е. не хочется попросту и реально, я бы сказал даже житейски, воспринимать Абсолют» (там же). Опора на повседневность как ближайшее подтверждает, что гуссерлевская ориентация на сознание Лосевым была преодолена и выход к миру через «ближайшее житейское» определенно наметился.
К сожалению, здесь рукописное продолжение «Диалектики мифа» обрывается так же, как на обещании дальнейшей работы была оборвана и опубликованная часть этой книги. Но теперь мы уже знаем достаточно, чтобы не делать больше ошибки, принимая лосевские системы категорий за дедукции и конструкции [974]974
Вот типичная ошибка: «Мысль Лосева… была одержима императивом жесткого, неумолимого единства, по закону которого самомалейшие черты «целостного лика» и «мировоззренческого стиля» должны были диалектически выводиться из некоего исходного принципа… На языке классического немецкого идеализма процедура последовательного и непрерывного диалектического выведения именовалась «Konstruktion»… [это] грозит отнять у истории столь присущий ей элемент подвижного и непрерывно находящегося в движении равновесия, элемент живого противоречия с самой собой» (Аверинцев С. С. «Мировоззренческий стиль»: подступы к явлению Лосева. – Начала. 2—4. 1994. С. 83—84).
[Закрыть]. Недостаточно и видеть за конструкцией критическое разыгрывание метафизических схем, их преодоление и прорыв к свободе [975]975
«Лосев весь в открытом вопросе. Всякий Л осев–догматик окажется мифом. Любая иконография бесконечности будет мыслителем снята, как бы добросовестно ни был он увлечен ее символикой и мифологией. Его мысль идет вместе с нашей страной в споре с ней и с самой свободой к очищению. От мифологии, даже абсолютной, – к правде» (БибихинВ. В. Абсолютный миф А. Ф. Лосева. – Начала. 2—4. С. 111).
[Закрыть]. «Абсолютная мифология» и «абсолютная диалектика» были названиями, пусть не вполне адекватными, опыта оригинальной феноменологии в России, библейской стране. По размаху и мощи этот прерванный опыт мало уступал философским открытиям, которые в те же годы были сделаны в двух других европейских империях, распавшихся в первой мировой войне.
Вопрос, почему А. Ф. Лосев называет «мифологией» почву «реального и непосредственного чувственного восприятия», остается нерешенным. Обязательное включение «абсолютн[ого] же опыт [а ]», так чтобы не пропадал «ни один момент—ни чувственный, ни сверхчувственный» (с. 499—500), и подавно далеко от наших представлений о мифологии. Следует ли отсюда, что мифологию надо научиться понимать как–то иначе? Безусловно, и первой неожиданностью здесь будет ее переход в диалектику цвета, в отношении которой Лосев предупреждает: «Тут мы касаемся очень важной области, которой, кажется, не касалась еще ни одна диалектическая мысль» (с. 505). Лосев тут принципиально прав в том, что касается известной ему гегельянской и кантианской традиции вплоть до Гуссерля. Но к этому времени тема цвета была уже намечена в «Логико–философдком трактате» Витгенштейна, который, в отличие от Лосева, успел развернуть ее по–разному во всех своих рукописях (при жизни, кроме «Трактата», он ничего не публиковал), и особенно в «Заметках о цвете» [976]976
Wittgenstein L. Bemerkungen iiber die Farben. – Wittgenstein L. terkausgabe in 8 Banden. Bd. 8. Frankfurt a.M., 1984. S. 7—112.
[Закрыть]. Не знать о своем тайном и намеренно таящемся попутчике Лосеву было тем более простительно, что усилия Витгенштейна и уж подавно его, Лосева, собственные усилия понять свет и цвет остались в основном незамеченными [977]977
Характерное хлесткое обобщение, говорящее, конечно, прежде всего о нелюбопытстве и невнимательности наблюдателя, но именно этим типичное: «В России никогда не было никакой оптики. Сегодня ее нет и на Западе, нет нигде» (Маяцкий М. Некоторые подходы к проблеме визуальности в русской философии. – Логос. 6. 1995. С. 49).
[Закрыть]. Разбор учения Лосева о цвете, прежде всего в новых найденных Азой Алибековной рукописях, и в частности анализ перекличек этого учения с «Farbenlehre» Гёте, приходится, прежде всего из–за важности дела, оставить на потом. Возможно, в свете лосевских прозрений удастся по–новому прочесть и книги Гёте о цвете. Лосев сходно с Гёте объясняет видимую нами цветность «объективной природой Неба и объективным отпадением Земли от Неба». Близко к Гёте он говорит об «энергиях» цвета. Трактат Лосева о цвете, сам по себе много чего стоящий, написан с космическим и духовидческим размахом, когда видимое Небо оказывается в промежутке между раем и адом.
Для будущего понимания лосевской «абсолютной мифологии», на что мы сейчас претендовать не можем, будет важно и внимание к тому, что мифологией вообще оказывается для него всякое знание о мире, не только фольклорное и религиозное, но в том числе и научное. Тогда к «естественной» мифологии будет относиться вообще всякая система сведений, и в этом отношении физико–математическая теория поля не будет принципиально отличаться от любой сказки о сотворении мира. Принципиальная и единственно важная граница будет проходить между частным и полным вниманием к бытию, между явным (или тайным) ограничением поля зрения—и выходом к открытой полноте мира. За этой границей начинается та «абсолютность», к которой направлено все стремление Лосева. «Большинство различений и установок понятны нам сейчас только в их греховном состоянии, т. е. в том их виде, который в науке считается вполне нормальным и естественным и который поэтому и наилучше известен. Мы же, изучивши этот «нормальный» мир и этого «нормального» человека в их естественной мифологичности, сможем легче изучить и то «нормальное» и «естественное» состояние мира и человека, которое уже не современная наука, т. е. один из видов относительной мифологии, считает таковым, но которое является нормальным и естественным уже с точки зрения абсолютной мифологии» (с. 514). Так, постановкой задачи возвращения к норме и естеству заканчивается рукопись, которую 70 лет хранило в тайне наше прежнее государство.
Другой слой новых лосевских документов составляют записи под названием «Вещь и имя. (Опыт применения диалектики к изучению этнографических материалов)». Они выходят далеко за рамки истории имени в разных культурах и имеют важный философский смысл потому, что Лосев строит здесь чисто формальное учение об имени, безотносительное к содержанию, какое может вкладывать в свои имена религия, поэзия или мифология. Из–за того, что тема имени интенсивно исследуется в философии и науках 20 века, источники, из которых делает выписки Лосев, и отдельные наблюдения могут требовать уточнения. Может быть, не обязательно относить практику перемены имени к архаическому прошлому в свете того, что, например, наш современник Мишель Фуко требовал для всякого пишущего права называть себя как автора с каждой своей книгой иначе [978]978
См.: Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996. С. 396 слл.
[Закрыть]. Важно внимание Лосева к существенности имени, которая обеспечена интенцией именности. В свете этой ориентации на именно именуемое в имени «мы должны утвердить полное тождество имени и именуемого» [979]979
Лосев А. Ф. Вещь и имя (рукопись). С. 46.
[Закрыть]. Имя, конечно, перестает здесь быть знаком. Сильная поддержка, которую Лосев дает здесь имяславию, заслуживает внимания в связи с общей историей имяславия в России. «Имя Божие… ни в коем случае не может быть отделяемо от Существа Божия… Имя Божие есть Сам Бог… энергия сущности божественной, или явленный и познанный лик Божества» [980]980
Там же. С. 90.
[Закрыть]. Здесь невольно вспоминается такое же заключение книги о. Сергия Булгакова об имени: ««Имя Божие» есть не только слово… но и Божественная сила и сущность. «Имя Божие есть Бог» в смысле богоприсутствия, энергии Божией…» [981]981
Булгаков С., прот. Философия имени. М., 1997. С. 269.
[Закрыть]
Разница, однако, в том, что для о. Сергия Булгакова это последний тезис его работы, а для Лосева—лишь обобщение рассмотренного материала и станция на пути, который должен был иметь продолжение.
В. В. Бибихин
ЛОСЕВСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДИКАТИВНОСТИ
Лосевская философия языка строилась, как известно, сверху вниз: от трансцендентной апофатической точки—к сфере «чистого» смысла (эйдетика и логос), а от него–к конкретно–чувственным и ситуативно насыщенным языковым формам. В качестве глубинных инвариантных форм, определяющих («фундирующих») собственно лингвистические характеристики всех явлений «естественной речи», включая и предикацию, Лосевым рассматривались семантические процессы в эйдетической и логосной сфере «чистого смысла», понимаемые как свободные от непосредственной (звуковой, а иногда и грамматической) плоти языка. Собственно же языковые процессы «естественной речи», направленные как на чувственно воспринимаемые явления, так и на их образную или рациональную обработку, интерпретировались Лосевым как этажи, надстраивающиеся над этими инвариантно–глубинными смысловыми формами. Лосевская концепция предикативности, являющаяся частной теорией внутри его общей философии языка, тоже может быть аналогично охарактеризована в ее общем смысле как двухуровневая, но вместе с тем не дуалистическая: к первому уровню по–лосевски понимаемой предикации относятся эйдетика и логос, ко второму—насыщенная языковой плотью и чувственной конкретикой «естественная речь». [982]982
От собственно трансцендентной сферы в проблеме Имени мы здесь отвлекаемся, поскольку «для описания непосредственно лингвистических аспектов предикативной лосевской концепции достаточен в качестве исходного эйдетиче–ски–логосный уровень рассмотрения; вместе с тем очевидно, что в полном объеме лосевская философия языка включает по меньшей мере три, а возможно—и более, уровня.
[Закрыть]Как и в общей философии языка, определяющим для предикации является ее первый уровень; с него и начнем.
Имена как предикаты, предикаты как имена. Специфика двойственного лосевского подхода к предикативности не поддается простому внешнелогическому описанию, поскольку этот подход предполагает некие «точки взаимотрансформации понятий». Так, если первый—эйдетически–логосный—уровень лосевской предикативной концепции описывать в рамках привычной терминологии, то все происходящие на нем базовые смысловые процессы, и прежде всего само именование, оказываются по своей генетической природе не чем иным, как предикацией (принцип «взаимотрансформации понятий» в действии).
Очевидно, что такой «синтетический» подход должен был быть основан на некоем особом решении традиционно сложного вопроса о соотношении имени и предиката. И действительно, данная выше краткая формула этого решения «имя есть предикат» является тезисным выражением специфически имяславской обработки идеи символа как, с одной стороны, не прямой, но, с другой стороны, и не условной связи между денотатом и обозначающим его словом. «Непосредственные» символисты не склонны были называть символы именами [983]983
Ср., напр., у Вяч. Иванова: ,«Символы наши—не имена…» Ц Иванов Вяч. По звездам. СПб., 1909. С. 193.
[Закрыть], имяславцы же, напротив, сближали эти понятия. Сближали, чтобы подчеркнуть тем самым неусловность связи символа с референтом; однако, с другой стороны, синтезируя категорию имени с понятием предикативности, имяславцы одновременно настаивали и на непрямом характере этой связи. Естественно, что столь нестандартный (ориентированный на синтез с именем) разворот темы предикативности требовал особых теоретических обоснований. Эта сама по себе трудная задача дополнительно усложнялась для имяславцев тогдашним терминологическим фоном, поскольку понятие предикативности было в то время одновременно и нарастающе «модным» (причем в прямой ущерб понятию именования), и максимально аморфным. На таком фоне целенаправленное обсуждение теории предикативности могло заслонить «главную» имяславскую идею. И если, например, С. Н. Булгаков все же решался ставить предикативность в центр имяславской доктрины [984]984
См.,: Булгаков С. Н. Философия имени. Париж, 1953. С. 74.
[Закрыть], то в текстах раннего Лосева даже само это понятие встречается крайне редко. Однако это никак дела не меняет: развитие имяславской темы вне всяких сомнений велось ранним Лосевым именно в предикативном направлении, а многие поздние лосевские тексты прямо построены вокруг понятия предикативности.
Что же конкретно стоит за синтетической формулой «имя есть предикат»! За, ней стоит идея о том, что вся сфера языка в целом является по своему генезису результатом предикации, а следовательно, эта формула в каком–то смысле отрицает наличие в сфере языка субъектов. В философском контексте эта идея восходит к соответствующему толкованию дихотомии сущности и ее энергии–толкованию, при котором только энергия считается реально проявляющейся во всех типах меона, включая эйдос и язык; сущность же как таковая всегда, с этой точки зрения, остается в апофатической недосягаемости. Все, что познается в сущности, говорил Лосев, познается только в свете ее энергии [985]985
Лосев А. Ф. Философия имени. Цит. по: Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Космос. М., 1993. С. 695 и др.
[Закрыть], а это и значит—в виде предикатов. Можно, следовательно, говорить, что понятие предиката фундирует лосевскую имяславскую философию языка точно так же, как понятие энергии фундирует все другие лосевские концепции о многообразных формах меонального выражения сущности. Уясняется на таком фоне и смысл отрицания в языке субъективной сферы: в языке, по Лосеву, нет непосредственного (субстанциального) проявления самой сущности; даже само ее имя есть только ее энергия.
С этой точки зрения, все—и эйдетические, и логосные, и собственно языковые–формы расчленения, сочленения и развития смысла суть формы расчленения, сочленения или синтеза предикатов. Развитие чисто смысловых, а вслед за ними и языковых сюжетов происходит только внутри или среди предикатов, между которыми распределяются различные синтаксические роли, в том числе и роли логических или грамматических субъектов. Но эти развивающие смысл «межпредикативные» сюжеты не хаотично текучи и не беспредметны; сочетания и расчленения предикатов имеют свои внутренние закономерные формы, поэтому только организованная соответственно этим формам саморазвития смысла совокупность предикатов может, по Лосеву, осуществить адекватную референцию к «предмету».
Но все это только одна сторона медали. Специфика лосевских «единиц» на том же первом эйдетическом уровне одновременно состоит и в том, что они мыслятся, при всем своем предикативном генезисе, функционирующими как имена (отсюда и самоназвание этой концепции—Гшлславие). Не только, следовательно, «имя есть предикат», но и предикаты являются в каком–то смысле именами. Эта сложная идея взаимообратимости разрабатывалась Лосевым с многих сторон и во многих аспектах, мы дадим здесь лишь две ее интерпретации—общефилософскую и собственно лингвистическую.
В общефилософском плане сущность этой лосевской идеи становится понятней, если принять во внимание, что наряду с некими «точками взаимотрансформации понятий» для интеллектуального рисунка лосевских текстов характерно также «внутреннее саморасподобление» изначально единых понятий. Согласно лосевской мысли, как есть разные степени меональности выражения первосущнос!и, так есть предикация и предикация: одно дело—чистый эйдос в качестве энергийной именной «предикации» первосущности, другое дело—предикация в собственном смысле, осуществляющаяся на втором уровне лосевской концепции, т. е. в последующих «нисходящих» состояниях языка, все более приближающихся к абсолютному меону, в данном случае—к непосредственночувственной сфере и к ее образным и рационально обработанным представлениям.
В по–лосевски понятой эйдетике мы имеем дело не с предицированием некоего смысла некоему референту как бы «со стороны» (когда «о чем?» является субъектом, а «что об этом?» – предикатом высказывания), а с особым смысловым процессом—с самопредикацией. Именно последнее понятие может послужить ключом к лингвистической интерпретации лосевской концепции. Помимо всех других раскрывающихся здесь смысловых возможностей [986]986
Эта же идея исходящей из трансцендентной области «самопредикации» при другом ракурсе рассмотрения ведет к коммуникативной интерпретации лосевской философии языка.
[Закрыть]многозначное понятие «самопредикации» значит и то, что между «о чем?» и «что об этом?» на первом эйдетическом уровне—в идеале—не существует границы, аналогичной лингвистической границе между субъектом и предикатом. Здесь утверждается более тесная связь апофатического субъекта с исходящими из него сялкшредикатами—связь, долженствующая, по замыслу, отразить диалектическую идею «различия в тождестве» сущности и ее энергии. Если брать более широкий философский контекст, то такой тип связи ассоциируется обычно с неагностически понимаемой связью сущности и явления [987]987
От себя для наглядности добавим, что эта отражающая «различия в тождестве» связь аналогична неконвенциональной зависимости светового пятна на какой–либо поверхности с породившим его источником света, зависимости, при которой световое пятно, не будучи самим источником света, но его «самопредикацией», все же несет в себе некую адекватную информацию о самом источнике света, а следовательно, в каком–то смысле и именует его.
[Закрыть]. Из этих предпосылок и делается интересующий нас лосевский вьюод: поскольку традиционно считается, что имя более тесно связано со своим носителем, нежели предикат, постольку и самопрединация, тесно увязываемая в ее лосевском понимании с сущностью, трансформируется по функции в имя. Можно, следовательно, говорить, что на первом уровне лосевской концепции практически дезавуируется резкая «онтологическая» граница между понятиями имени и предиката: генетически эйдос есть самопредикат, функционально—имя.
Непосредственно же лингвистическая интерпретация идеи трансформации предикативного по генезису эйдоса в функциональное имя состоит в том, что в случае самопредикации ее «результат» действительно больше соответствует не тем конкретным языковым характеристикам, которые обычно отмечаются у лингвистических предикатов, а языковым характеристикам имен. В самом деле: в случаях лосевской самопредикации между самопредицирующимся субъектом и результирующим предикатом отсутствует промежуточная семантическая зона, чаще всего называемая «значением» и мыслимая необходимой для самого существования предикатов, поскольку считается, что последние «выбираются» говорящим именно из этой промежуточной между «вещью» и «именем» самостоятельной области значений. Между же сущностью и эйдосом как, ее самопредикатом такого рода посредствующего звена, семантически независимого от самой сущности, нет и не может быть по определению.
Если же, говоря лингвистическим языком, области значений нет, а есть только «вещь» и называющее ее «слово», то такая «укороченная» – напрямую—связь между референтом и словом и есть в лингвистике одна из главных характеристик именовательной связи (связь же слова с понятием о вещи, т. е. с областью значения, есть связь «выражения» [988]988
См.: Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка. М., 1985. С. 14. Не случайно Лосев проводил прямую параллель между своей философией языка и философией выражения: именование как самопредикация вбирает в себя в том числе и всю традиционную проблематику, связанную с категорией выражения.
[Закрыть]). Поэтому эйдос как самопредикат не только в философском контексте, но и с формально–лингвистической точки зрения должен функционально уподобляться собственному имени. Лосев был, таким образом, последователен, когда толковал энергетический, т. е. предикативный, по природе эйдос как проявление предметной сущности имени.
Самопорождение и саморазвитие смысла. Исходя из сказанного, можно утверждать, что регулирующей идеей лосевской концепции предикативности применительно к ее первому эйдетически–логосному уровню является идея самопорождения и саморазвития смысла, предполагающая как смысловое обоснование самого факта самообразования смыслов, так и смысловое же объяснение форм дальнейшего саморазвития смысла. В лосевских текстах такого рода кружение вокруг понятия «смысл» в пределах одной фразы не пустая тавтология, а частая и намеренная «синтаксическая фигура», самой своей формой как бы отражающая свое содержание. Эта идея многократно и по самым разным поводам высказывалась Лосевым, и почти всегда—именно в такой «кружащей» форме [989]989
См., например, в недавно опубликованной ранней математической работе «Математика и диалектика» о необходимости фиксирования в «самопорождающейся стихии смысла завершенных, умно–оптических и визуально–смысловых оформлений, нерушимо пребывающих в непрерывно подвижной стихии смысла» (Лосев А. Ф. Хаос и структура. М., 1997. С. 800).
[Закрыть].
Самопорождение и саморазвитие смысла происходят, по Лосеву, только на первом уровне предикации. Эти категориально различаемые, но взаимосвязанные процессы, предполагающие порождение и последующее движение некоего определенного смысла, по самой своей природе не могут быть обеспечены только «статичными» именами или только «движущимися» предикатами. Здесь должно мыслиться некое «коалиционное» действие стандартно понимаемых субъектов и предикатов. Но какое именно? Если эйдос, будучи умно–воззрительным статичным целым, функционирует как имя, то каким образом он может «участвовать» в процессах саморазвития, а значит, и движения, смысла, которые выше определялись, согласно самой же лосевской позиции, как формы внутреннего расчленения и внешнего сочленения предикатов? Известно, что имена обладают способностью занимать предикативные синтаксические позиции, но это не ответ на поставленный вопрос, поскольку в таком случае, с синтаксической точки зрения, это уже не имена, а именно предикаты. Ситуацию и здесь помогает разрешить идея предикативного генезиса эйдосов, обеспечивающего, с лосевской точки зрения, не только их порождение как определенных умно–воззрительных целых, но и их внутреннюю смысловую многосоставность которая и оказывается ключом к решению поставленного вопроса.
По известной лосевской формуле эйдос, с одной стороны, интеллектуально «картинное», образное единство, с другой—множество, организованное в едино–раздельное целое. Оба этих момента взаимозависимы. Как нечто образно очертанное, эйдос имеет границу, а с ней он приобретает и объем и количество, т. е. множественность и делимость [990]990
Философия имени // Указ. соч. С. 687.
[Закрыть]. В нашем контексте все это и значит, что с точки зрения своей онтологической функции по отношению к первосущности лосевский эйдос в качестве единичной целостности есть имя, но с точки зрейия заложенной в этом имени многосоставной «информации» он несет в себе и «предикативно–подвижную» синтаксическую сферу саморазвивающегося смысла, т. е. является и предикатом, а точнее—совокупностью предикатов. Лосевский эйдос как «едино–раздельная целостность» лингвистически может в таком случае интерпретироваться и как единораздельная целостность имени и предиката (предикатов). Поскольку же целостный умно–оптический эйдос–имя многосоставен и не статичен именно в смысловом отношении, постольку он изнутри и изначала естественно предрасположен, согласно лосевской концепции, к смысловому «саморазвертыванию», причем не хаотическому, а строго семантически упорядоченному. Согласно Лосеву, такое упорядоченное и имеющее онтологическое обоснование смысловое «саморазвертывание» эйдетической сферы может происходить в трех главных и принципиально значимых для нашей темы направлениях: в сторону логоса, в сторону диалектики и в сторону мифа [991]991
Направленность на чувственный опыт, согласно лосевской концепции, есть второй уровень предикации, надстраивающийся над первым, и потому не расценивается как онтологически самостоятельное направление саморазвития смысла.
[Закрыть].
Оказывается, впрочем, что «троица» является в данном случае символом «двоицы». К числу самых оригинальных, интеллектуально насыщенных и потому многовекторных для интерпретации лосевских идей относится сущностное сближение двух последних направлений смыслового саморазвертывания эйдоса–имени—в сторону диалектики и в сторону мифа. Известно, что диалектика понималась Лосевым, согласно одному из его фундаментальных постулатов, как результат интеллектуальной рефлексии над мифологией. Так интерпретировалась им не только конкретная история взаимоотношений мифа и диалектики (например, функция платонизма и особенно неоплатонизма Плотина и Прокла по отношению к античной мифологии), но и общая теория их «естественных» взаимоотношений, о чем свидетельствует, в частности, специально обосновывавшаяся Лосевым идея тождества Абсолютной Диалектики и Абсолютной Мифологии [992]992
См.: «Абсолютная Диалектика—Абсолютная Мифология»// Лосев А. Ф. Миф. Число. Сущность. М., 1994. С. 263—298.
[Закрыть]. Отсюда, по всей видимости, следует, что те синтагматические процессы объединения значений, которые детерминированы, по Лосеву, диалектическим саморазвитием эйдетического смысла, в определенном отношении переносились им и на типы синтаксического разворачивания имени в миф. С другой стороны, однако, непосредственно словесная, согласно самому же Лосеву (а не «чисто» эйдетически–смысловая), природа мифа неизбежно должна неким особым образом наполнять «еще» не отягощенные конкретной языковой плотью эйдетические структуры диалектики. Выявление таких особых конкретно–лингвистических способов «перевода» не отягченных конкретной языковой плотью диалектических эйдетических структур в непосредственно языковые мифологические формы, часто прямо глагольно–предикативные по своей структуре, составляет самую, вероятно, сложную проблему лосевской философии языка в целом. Но во весь свой рост эта проблема встает не сразу; оценить ее ключевой «финальный» характер и адекватно к ней подойти можно, только лингвистически проинтерпретировав все предваряющие этапы лосевской предикативной концепции, что и предполагается сделать в данной статье. На предварительных же этапах этот «финальный» лосевский тезис о сущностном сближении мифа и диалектики имеет пока только тот смысл, что миф в своей сущностной словесной структуре аналогичен именно диалектике (а не логосу или «естественной речи»).
Если учитывать, что мифология и диалектика в конечном счете сближаются Лосевым, то применительно к первому уровню его предикативной концепции можно, следовательно, говорить не о трех, а о двух основных и уже, по–видимому, принципиально различаемых направлениях развертывания имени (или, что то же, самопорождения и саморазвития смысла)—в сторону диалектики и в сторону логоса.
Саморазвитие смысла в логосе. Хотя логос вторичен по отношению к эйдосу, являющемуся его основанием, в том числе—и с точки зрения развития смысла, однако мы начнем рассмотрение именно с него, поскольку он «теснее», чем диалектика, соприкасается с непосредственно языковыми формами «естественной речи» и тем самым предоставляет возможность установить более конкретные и устойчивые критерии для сопоставления первого и второго уровней лосевской концепции предикации в их целом.








