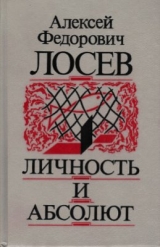
Текст книги "Личность и Абсолют"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 54 страниц)
Α. Φ. ЛОСЕВ О ЛИЧНОСТИ И АБСОЛЮТЕ
Проблема взаимоотношения личности и Абсолюта занимала А. Ф. Лосева в течение всей его жизни. Первые, но уже существенные мысли на эту тему были высказаны им еще в гимназической работе «Атеизм. Его происхождение и влияние на науку и жизнь» (1909) [927]927
Студенческий меридиан. М., 1991. № 5 (комментарии А. А. Тахо–Годи).
[Закрыть]. Интерес к проблеме нашел свое выражение в примечательных записях «Рождение мифа», «Общая методология истории религии и мифа», «О реформе закона Божия в гимназии» (все приблизительно 1916 г.). К ней он возвращался молодым профессором Нижегородского университета («О методах религиозного воспитания», 1921) [928]928
Вестник РХД. Париж—Нью–Йорк—Москва, 1993. № 167 (комментарии А. А. Тахо–Годи).
[Закрыть], когда велась интенсивная работа над будущим «восьмикнижием» (1927—1930 гг.). Но все это были отдельные наблюдения, связанные то ли с прочитанными книгами, требующими живого отклика молодого автора, то ли с опытом педагогической работы в гимназиях и школах, которую Лосев любил как прирожденный педагог и воспитатель юных душ.
При этом молодой Лосев пристально изучает достижения современной ему психологии, чему способствовало близкое общение с проф. Г. И. Челпановым и работа в Психологическом институте под руководством этого выдающегося ученого [929]929
Тахо–Годи Α. Α. А. Ф. Лосев и Г. И. Челпанов//Начала. 1994. № 1.
[Закрыть].
Г. И. Челпанов (1862—1936), философ и психолог, – первый учитель Лосева в Московском университете, рекомендовал его, первокурсника 1911 года, в Религиозно–философское общество памяти Вл. Соловьева. Он же принял студента Лосева в члены Психологического института, торжественное открытие которого в присутствии выдающихся зарубежных и русских психологов произошло в марте 1914 г. [930]930
См. записи Лосева в Дневнике 1914 г. ЦЛосев А. Ф. Мне было 19 лет… Дневники. Письма. Проза/Сост., пред., комм. А. А. Тахо–Годи. М., 1997.
[Закрыть]К этому времени относятся работы студента «Проект экспериментального исследования эстетической образности», «Проект экспериментального исследования эстетического ритма» (9 октября 1914), «Экспериментальное исследование эстетической образности» (17 ноября 1914). Лосев руководит в институте темой «Об эстетической образности». Он участвует в качестве испытуемого при разработке ряда тем: «О типах представлений» (ср. его гимназические загагёки «Типы моей памяти» от 12 ноября 1909) [931]931
Начала. 1994. № 1.
[Закрыть], «Исследование процесса суждения», «Психическая природа представлений и понятий», «О взаимодействии одновременных ощущений», «Анализ процесса выбора», «Влияние усовершенствования в одной умственной способности на деятельность другой способности», «Анализ процесса воспоминания в области формы и цвета».
Студента Лосева интересует как настоящего профессионала психология личности. Он записывает в дневнике: «…жизнь души и жизнь сознания—это удивительная вещь». Он обращает внимание и на внешность человека: «Какая интересная вещь физиогномика», стоит всмотреться в человеческие лица, «что таят они» (26/VII—1914), и открывается целый мир. Эксперименты проводятся Алексеем Лосевым не только в лабораториях института. Он анализирует два портрета великой княжны Ольги Николаевны, старшей дочери императора Николая II, погибшей со всей семьей в ипатьевском доме Екатеринбурга (1918). Этому анализу посвящены двенадцать страниц дневника 1915 г. [932]932
Лосев А. Ф. Мне было 19 лет… С. 152—157.
[Закрыть]Физиогномическое исследование создает психологический образ великой княжны, и вывод, сделанный Лосевым, поражает нас, тех, кто знает об участи, казалось бы, счастливой, молодой, красивой царственной особы. Оказывается, Ольге Николаевне свойственна «твердая решительность к повиновению своему року», «трагическая предназначенность», «покорное и серьезное выполнение этого рока» (14 января 1915 г.).
В 1914 г. он записывает в дневнике тридцать «Тезисов практической гинекософии» [933]933
Там же. С. 116—122. Термин «гинекософия» Елена Тахо–Годи предложила трактовать как «женопознание» или «женомудрие».
[Закрыть], своеобразные рассуждения о психологии любви, в которых очевидно влияние диалога Платона «Пир» с его Эросом– вечным стремлением к высшей красоте и высшему Абсолюту—Благу [934]934
См. статью А. Ф. Лосева «Эрос у Платона» (Юбилейный сб. проф. Г. И. Челпанову от участников его семинариев в Киеве и Москве. М., 1916). Перепечатано в кн.: Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Космос. Μ., 1993.
[Закрыть]. Платоническая идея соседствует здесь и с теорией всеединства Вл. Соловьева, перекликаясь с его статьей «Смысл любви». Но еще более основательна в этом сочинении христианская, православная идея—мечта верующего о небесной родине, об абсолютном счастье, понимаемом как вечная жизнь и радость о Духе Святе. Дальнейшая судьба А. Ф. Лосева и в плане мировоззренческом, и в плане чисто жизненном подтвердила его юношеские тезисы и мысль о том, что «любовь на земле есть подвиг». Практическое, жизненное значение теоретических установок метафизики и психологии этики мы находим в статье А. Ф. «Этика как наука» (1912) [935]935
См.: Человек. 1995. № 2.
[Закрыть]. И это тоже не случайно.
Влияние Г. И. Челпанова заметно и в следующей работе студента Лосева «О мироощущении Эсхила» [936]936
Впервые в кн.: Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995.
[Закрыть], написанной под руководством проф. Н. И. Новосадского (1859—1941), учителя А. Ф. в классической филологии. Это сочинение, одобренное знаменитым символистом Вячеславом Ивановым, трактует о психологии страха и ужаса в трагедии Эсхила, что чрезвычайно характерно для интересов молодого автора в канун периода катастроф, надвигавшихся на Россию с первой мировой войной 1914 г.
Командировка 1914 г. в Берлин для усовершенствования в науках тоже завершилась для Лосева драматически. Было уже ни до средневековой латинской схоластики, ни до вагнеровского «Кольца нибелунга», ни до королевской библиотеки. Пришлось спешно покинуть Берлин и с невероятными трудами добраться до родных мест. Однако эта поездка все–таки способствовала появлению большого исследования по психологии мышления. История этого труда достаточно примечательна.
В Центральном историческом архиве Москвы находится личное дело А. Ф. Лосева [937]937
Центральный исторический архив Москвы, ф. 418, оп. 325, ед. хр. 949.
[Закрыть], а также его работа «Критический обзор основных учений и методов Вюрцбургской школы» [938]938
Там же, ф. 418, оп. 513, ед. хр. 4052.
[Закрыть]с подробным ее оглавлением и предисловием (стр. 1—6). В домашнем архиве А. Ф. Лосева сохранились отдельные машинописные фрагменты этой работы, рукопись предисловия, помеченного 1 апреля 1919 г. и подписанного автором. Есть надписанный от руки титульный лист: «А. Ф. Лосев. Профессор Нижегородского государственного университета. Исследования по философии и психологии мышления», а также отдельный лист с примечательным посвящением: «Георгию Ивановичу Челпанову, борцу за истинную психологию в России, посвящает эту книгу автор–ученик».
В 1995 г. из Центрального архива ФСБ РФ мне были переданы рукописи А. Ф. Лосева, изъятые при его аресте 18 апреля 1930 г. (2350 страниц). Среди них оказался также экземпляр исследования «Критический обзор основных учений и методов Вюрцбургской школы» (старая машинопись и орфография) с перечеркнутой подписью «А. Лосев. Москва 9 февраля 1915 г.».
Возвращенный мне из ФСБ экземпляр имеет явные следы переделки большой машинописи в 252 страницы. Во–первых, он включает маленькое вступление с перечислением параграфов работы, из чего видно, что здесь опущена вся первая часть исследования «Точки зрения критики», включающая семь параграфов (т. е. 75 страниц). Во–вторых, вследствие сокращения автор изменил всю пагинацию, разметку частей и параграфов, причем новая нумерация карандашом нисколько не скрывает старую, прочитывающуюся вполне ясно. В–третьих, А. Ф. Лосев перечеркнул ряд абзацев (они указаны в наших примечаниях), чтобы сокращенный текст не противоречил новым намерениям автора. В–четвертых, автор сам зачеркнул свою подпись и дату, так как собирался печатать только две части своей давней работы в других, советских, условиях (видимо, начало 20–х годов), не связывая ее с 1915 г. В это время открылись некоторые возможности в Государственной Академии художественных наук, где А. Ф. Лосев, будучи членом ГАХН'а, участвовал в разработке тем по психологии художествейного творчества, экспериментальной эстетике ритма, художественному воспитанию.
Что же касается совершенно нового предисловия 1919 г. к полному объему книги, нового титульного листа и посвящения Г. И. Челпанову, то здесь автор, хорошо знавший, что для его учителя началась трудная полоса жизни с приходом в Психологический институт марксистов из бывших же его учеников, решительно поддерживает своего старого профессора, демонстративно посвящая ему задуманную книгу (еще есть иллюзии о возможности напечатать ее целиком). Более того, новое наименование будущей книги–«Исследования по философии и психологии мышления» – более теоретично и больше соответствует ученому образу самого Г. И. Челпанова—философа и психолога.
Мы печатаем в нашем томе исследование А. Ф. Лосева в задуманной им композиции книги 1919 г. Но для ознакомления читателя с историей ее издания помещаем здесь, в данной статье, первое предисловие 5 г. и последний вариант предисловия усеченного по обстоятельствам времени труда. Небольшие сокращения в тексте оговорены в комментариях. Исследование А. Ф. Лосева печатается впервые.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая работа создавалась в настолько неблагоприятных психологических условиях, что автору представляется необходимым сказать об этом несколько слов. Задуманная два года тому назад на тему «Критика современной функциональной психологии», эта работа с первых же шагов завела автора на очень трудный и в сущности, как потом выяснилось, недоступный путь исторического анализа. Именно, автор предполагал сравнить современные интенционалистические учения со средневековыми учениями о познании, где, как ему казалось на основании знакомства с учением об интенциях, данным в «Summa theologiae» Фомы Аквинского, этот интенционализм получил, может быть чаще бессознательно, почти ту самую форму; под которой он в наши дни выступает хотя бы, напр., в теории абстракции Гуссерля.
Этот историко–философский анализ представляется автору одним из целесообразных путей и для систематической критики, поскольку современному интенционализму недостает тех солидных общефилософских обоснований, которыми вправе гордиться схоластическое умозрение. Автору вскоре же пришлось разочароваться в исполнимости его надежд. Москва оказалась настолько ничтожной в смысле обладания какими–нибудь источниками для изучения средневековья, что, кроме общих руководств Stokl'a, De–Wulf и Picavet, кроме двух–трех статей Siebeck'a в Arch.f. d. Geschichte d. Philos, автор ничего не мог найти ни в одной библиотеке. Каким–то образом в Университетской Библиотеке оказалась «Summa theologiae» Фомы Аквинского, да и из той дали сначала только два тома, третий же отыскался впоследствии; остальных же еще двух так–таки и не дали, несмотря на выносливость и настойчивость автора. Время шло, а автора все преследовала эта роковая мысль: сравнить Гуссерля со схоластикой. В конце концов, как ни больно было расстаться с лелеемой мечтой, пришлось–таки расстаться. Автор обратился к изучению общей литературы по функциональной психологии, хотя, разумеется, работа здесь уже не могла идти с прежней энергией и готовностью. К весне 1914 года у автора был уже довольно большой материал, отчасти базировавшийся на исследованиях Вюрцбургской школы. Он надеялся во время своей летней заграничной поездки пополнить материал в Берлинской Королевской Библиотеке, что отчасти и удалось сделать, несмотря на чрезвычайно неблагоприятные условия летней работы в большом жарком городе. Но неумолимый рок, тяготевший над нашей работой, не оставил нас в покое и здесь.
Вспыхнувшая европейская война заставила бежать из Германии как раз в самый разгар работы, и так как пришлось пережить несколько таких моментов, когда приходилось выбирать между ящиками с книгами и рукописями и жизнью, и выбирать немедленно, то автор в расчет продолжительной и изнурительной работы остался совершенно без всяких своих рукописей и без всяких книг. Приехав в Россию после пережитых волнений и не имея ни единой строчки из многочисленных выписок, ссылок, цитат, переводов, списков литературы, конспектов и черновиков, автор по внутренним условиям настроения и вследствие нервной встряски не мог приступить к делу вплоть до середины октября. Только в конце октября автор получил возможность вновь взяться за свою несчастную тему. Так как времени оставалось совсем мало и так как нужно было пользоваться тем, что было под руками, то автор решил ограничиться исключительно Вюрцбургской школой, исследования которой почти все целиком помещены в Arch.f. d. Ges. Psych, и Zeitsch.f. Psych., сравнительно легко находимых в Москве, тем более что тут приходилось излагать почти только то, что было изложено уже раньше в потерянных рукописях. Три месяца, ушедшие на работу, оторвали автора, можно сказать, совершенно от всякого участия в жизни. Горький опыт еще и теперь внушает автору опасения, поэтому он постарался как можно скорее сдать рукопись в официальные руки (куда она и предназначалась).Результаты спешности, по мнению автора, сказались все же только в несущественном—благодаря чрезвычайному сужению первоначальных замыслов. Именно, у автора не было времени сделать свою несколько растянутую первую часть более краткой. Известно ведь, что гораздо труднее изложить мысли в краткой форме, чем в пространной, – даже при полной одинаковости мыслей. Кроме того, в изложениях отдельных исследований пришлось ограничиться исключительно психологией мышления и не все исследования разобрать. Собственно, доведена работа только до 1907 года, кончая первым исследованием Бюлера; остальное все только упомянуто. Впрочем, и здесь есть извинение: до 1907 года Вюрцбургская школа высказала уже все существенное. Наконец, поспешность работы сказалась в некоторой конспект[ив]ности третьей части; пришлось давать почти одни принципы, развивая их лишь в самом необходимом. Так как изучение психологии мышления автор думает положить в основу психологической эстетики, к которой он чувствует давнишнюю склонность, то он надеется, что в будущем после университета и после стольких перенесенных неудач у него будет более благоприятная обстановка для построения эстетических теорий, к которым уже теперь имеется у автора многочисленный материал.
КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ УЧЕНИЙ И МЕТОДОВ ВЮРЦБУРГСКОЙ ШКОЛЫ
Предлагаемая работа представляет собою ряд извлечений из более общих исследований автора по психологии и феноменологии мышления и может быть вполне усвоена лишь на фоне теоретических его конструкций. Однако все эти извлечения складываются в цельную и вполне самостоятельную картину первых исследований, вышедших из Вюрцбургской школы и обусловивших ее своеобразное и реформаторское значение. Эти исследования, вышедшие в 1900—1910 годах, и суть основание Вюрцбургской школы. Анализировать исследования последующих годов, равно как и рассматривать Вюрцбургскую школу на фоне психологических теорий о мышлении, вообще не входит в задачи предлагаемого труда и является предметом других работ автора. В нижепомещающейся части преследуются две цели: 1) дать ясный и сводный обзор основоположных учений Вюрцбургской школы и 2) дать трезвую оценку их как с теоретико–психологической точки зрения, так и с точки зрения экспериментального метода. Но и в этой сфере анализируются исключительно проблемы мышления по центральности их для Вюрцбургской школы. Для ориентирования предлагаю перечень основных параграфов работы.
I часть. История Вюрцбургской школы и имманентная критика ее.
1. Орт и Майер. Μ арбе.
2. Критика учения Марбе о суждении.
3. Кюлъпе. Орт. Бинэ.
4. Исследования Уотта о мышлении.
5. Критика исследований Уотта.
6. Исследования Аха.
7. Исследования Мессера.
8. Критика исследований Мессера.
9. Учение Бюлера о мышлении.
10. Критика учения Бюлера.
11. Дополнительный обзор литературы и переход ко II части.
II часть. Система и трансцендентная критика.
12. Систематический обзор основоположных учений Вюрцбургской школы.
13. Критика основных выводов Вюрцбургской школы.
14. Критика метода Вюрцбургских исследований.
15. Критика метода (продолжение).
16. Общие итоги трансцендентной критики.
В наше издание входит раздел «Проблемы философии имени» (1919—1929). В нем помещены статья А. Ф. Лосева «Имяславие», находящаяся в его архиве на немецком языке и начинающаяся, как это бывает в энциклопедиях и словарях, с выделенных шрифтом первых слов «Die Onomatodoxie (russisch «Imiaslavie»)…». Мне уже пришлось публиковать эту статью в «Вопросах философии» (1993. № 9) и в книге: Лосев А. Ф. Имя (СПб., 1997). И было высказано предположение, что Лосев, занятый в это время русской философией, православием [939]939
См. его статью Russische Philosophic // Russland, Herausgeg. v. V. Eris–mann–Stepanowa u.s.w. Zurich, 1919 (по–русски в пер. И. И. Маханькова напечатана полностью в изд.: Лосев А. Ф. Страсть к диалектике. М., 1990; Он же. Философия. Мифология. Культура. М., 1991), а также объявление в этом сборнике о статье Лосева «Die ideologie der Orthodox–Russischen Religion», готовящейся к печати.
[Закрыть]и подготовкой вместе с С. Н. Булгаковым и Вяч. Ивановым серии статей «Духовная Русь» [940]940
Об этом впервые в кн.: Аза Тахо–Годи. Лосев (серия ЖЗЛ). М., 1997. См. также статью: Елена Тахо–Годи, Виктор Троицкий. «Духовная Русь» – неосуществленная религиозно–философская серия//РХД. 1997. № 176. С. 127—145.
[Закрыть](с участием С.Н.Булгакова, Вяч. Иванова, Ε. Н. Трубецкого, С. Н. Дурылина, Н. А. Бердяева, А. Ф. Лосева—две статьи, Г. Чулкова, С. А. Сидорова), вполне мог готовить статью для немецкого издания, нам пока неизвестного. В настоящем томе «Личность и Абсолют» эта статья выверена по подлиннику и исправлена от опечаток машинописного оригинала.
Здесь же мы печатаем тезисы имяславских докладов А. Ф. Лосева, которые были опубликованы в журнале «Начала» (1995—1996. № 1—4) и в упомянутой выше книге «Имя». Эти доклады читались в первой половине 20–х годов в основном в доме А. Ф. и В. М. Лосевых и у проф. Д. Ф. Егорова. В этом имяславском кружке, но в квартире П. С. Попова в 1922 г. с докладом об имяславии выступил о. П. Флоренский, который вместе с М. А. Новоселовым глубочайшим образом вошел в суть этого знаменитого по смыслу своему религиозного спора афонских монахов об Имени Божием (наряду с о. С. Булгаковым, В. Φ. Эрном, владыкой Федором (Поздеевским), о. Ф. Андреевым, проф. М. Д. Муретовым и др.) [941]941
См. Хронику Афонского дела (сост. С. М. Половинкиным) и материалы по имяславию, опубликованные в журнале «Начала» (1995—1996. № 1—4), а также кн. «Священник Павел Флоренский. Переписка с М. А. Новоселовым». Томск, 1998. О книге схимонаха Илариона «На горах Кавказа» (1–е изд. – 1907 г., 2–е– 1910 г.), послужившей поводом к расколу на Афоне, прекрасно писал в разгар догматических споров об Имени Божием Ε. Н. Трубецкой в письме к М. К. Морозовой (13 сент. 1913 г.): «И эта книга—прожгла мне душу. Ничего более чистого, прекрасного и святого из человеческих произведений я никогда не читал. Это—человек, который видит Бога…» (Взыскующие града. Хроника частной жизни русских религиозных философов в письмах и дневниках/Сост., подготовка текста, вступ. статья и комментарии В. М. Кейдана. М., 1997. С. 551).
[Закрыть].
Сам А. Ф. Лосев уже начинал работать над «Философией имени», которая была завершена летом 1923 г. (вышла в 1927 г.). В предисловии к книге автор намекал на «влияние тех старых систем, которые давно забыты и, можно сказать, совершенно не приходят никому на ум» (1–е изд. 1927 г., с. 7 Ц Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Космос. М., 1993. С. 615). Под старыми системами подразумевались, насколько можно судить, не только философия имени Платона и неоплатоников, но и споры об Имени Божием в IV в., проблема именования Божества в сочинениях Дионисия Ареопагита, учение о сущности и энергии Григория Паламы и, конечно, имяславские идеи, всколыхнувшие религиозно–философскую мысль России.
Таким образом, доклады Лосева естественно смыкались с логикой и диалектикой его «Философии имени».
В следственном деле А. Ф. Лосева (№ 100256) сохранился документ, составленный и подписанный главными участниками имяславского кружка, начинавшийся словами «Во имя Отца и Сына и Св. Духа» и написанный (судя по почерку) самим А. Ф. Лосевым. В этом документе говорится о бедственном положении Церкви, о ее «духовном оскудении» и утверждается исповедание веры имяславцев об Имени Божием, подкрепляемое ссылками на великих святителей. Под этим документом, написанным в несколько стилизованной старинной манере и даже в старой орфографии (ее отменили в 1918 г.), хотя был, судя по ряду фактов, 1922 год, стояли подписи, и первой—президента Московского Математического общества проф. Московского университета Д. Ф. Егорова. Далее шли: Алексей Лосев, Николай Соловьев, Александр Сузин, Павел Попов, Валериан Муравьев, Валентина Лосева, Μ. Н. Хитрово–Крамской, Николай Бухгольц, Григорий Рачинский.
Кружок посещали кроме подписавших этот своеобразный «Символ веры» М. А. Новоселов, о. Павел Флоренский, Н. В. Петровский (товарищ Лосева по университету), Г. И. Чулков, друг Вяч. Иванова и Лосева, В. А. Баскарев, преподаватель, художник; инженер В. Н. Пономарев; бывший штабс–капитан священник храма Воздвижения Креста Господня (приход Лосевых) о. Измаил Сверчков, монахи–имяславцы с Афона—архимандрит о. Давид (Мухранов Дм. Ив.), настоятель Андреевского скита; о. Ириней (Цуриков), соборный старец монастыря Св. Пантелеймона, о. Манасия (бывал вместе с о. Герасимом у А. Ф. Лосева и в 1927 г.).
Однако к 1925 г. кружок фактически завершил свое существование. Начались аресты, и, как писала в своем дневнике В. М. Лосева (3/ΧΙΙ 1925 г.), арестованных уже не выпускали, как было раньше, а после 7 г. аресты еще более усилились. В этом году, скончался главный апологет имяславия в этом кружке математик Η. М. Соловьев. К 1930 г. не стало и сосланного В. Н. Муравьева.
Активные члены кружка и простые слушатели лосевских докладов все подверглись разного рода репрессивным мерам. В 1930 г. ОГПУ было сфабриковано дело о некоем монархическом центре истинно православной церкви. Среди арестованных оказались и некоторые еще здравствовавшие участники имяславского кружка начала 20–х годов во главе с А. Ф. Лосевым (Г. А. Рачинский, бывший председатель Религиозно–философского общества памяти Вл. Соловьева, философ П. С. Попов, товарищ Лосева по университету, друг Лосева ученыйгеолог А. В. Сузин, профессор–физик Η. Н. Бухгольц, профессор–математик Д. Ф. Егоров, В. М. Лосева—математик и астроном, артистдворянин Μ. Н. Хитрово–Крамской). Но круг в связи с интенсивной работой ОГПУ значительно расширился, до 48 человек, куда попали имяславцы, не имевшие отношения к узкому философско–религиозному кружку, в том числе М. А. Новоселов и высокие иерархи православной церкви [942]942
Подробности об этом деле см. в моей книге «Лосев». С. 106—127.
[Закрыть].
Несмотря на то что тезисы докладов А. Ф. Лосева уже печатались, мы все–таки решили их поместить в контексте других его философскорелигиозных работ. Текст этих тезисов заново выверен, уточнены предположительные наименования, исправлены опечатки, иные из которых были достаточно существенны. Тезисы распределены по возможности в хронологическом порядке именно так, как читались доклады. Не имеющее прямого отношения к докладам Лосева, но важное по своему имяславскому настроению письмо к Η. М. Соловьеву (18 апреля/1 мая 1921 г.) от Вл. Симанского (вполне возможна связь с патриархом Алексием I, в миру С. Вл. Симанским) мы помещаем непосредственно в данной статье. Письмо это интересно замечательными текстами об Имени Божием, которые выписывает несомненный имяславец, близкий Η. М. Соловьеву, главному защитнику Имени Божия в кругу московских имяславцев. Письмо вместе с дневником Η. М. Соловьева оказалось в архиве А. Ф. Лосева, видимо, еще в 20–е годы. Возможно, Η. М. Соловьев давал читать Лосеву свой дневник, где описано множество фактов разорения церквей, монастырей и изъятия мощей, а может быть, он (или после его смерти его супруга) отдал дневник Лосевым на хранение (так же, как и М. А. Новоселов, передавший им часть своего архива, и впоследствии она попала на Лубянку). Несмотря на все катастрофы в семье Лосевых (арест, разорение библиотеки после ареста, уничтожение дома в 1941 г. от фугасной бомбы), дневник и письмо находятся в хорошем состоянии.
Староконюш. пер., Д. 5/7, кв. 48.
8 Апреля/1 Мая 1921
Христос Воскресе!
Многоуважаемый Николай Михайлович, Пишу Вам несколько десятков строк, желая, во–1 хпоздравить Вас с радостнейшим Христианским Праздником Светлого Христова Воскресения и пожелать Вам от Воскресшего Христа Спасителя—мира, здравия, спасения вечного и мудрой ревности в деле прославления Святейшего Имени Господнего; во–2пишу с целию поделиться с Вами некоторыми выдержками из одной духовной брошюрки, которую я нашел среди своих разных духовных книжек; брошюрка эта, автор которой неизвестен, издана была в С. – Петербурге еще в 1867 г.
В ней Имени Божию уделено много трогательных возношений… Брошюрка эта озаглавлена: «Моление Сладчайшему Господу Иисусу при исходе души из тела…»
Вот некоторые выдержки: «Когда плотяное сердце мое, подвигнутое знакомыми гласами оплакивающих меня, вспомянет связи мира—люблений человеческих, тогда, о Иисусе Мой, призри на немощь создания Твоего, огради слух мой от звуков, во область мира обращающих; изглади из памяти моей преходящее, и повели благому Хранителю моему немолчно твердить всесвятое Имя Твое: о, Иисусе Сладчайший! Не остави меня…
Когда запекшиеся уста мои будут усиливаться произнести Сладчайшее Имя Твое, о Иисусе мой! Тогда предстани в помощь борющемуся со смертию, Заступниче!.. Разреши язык, под рукою смерти цепенеющий, дабы в последнее почтил и прославил он Имя Твое: Иисусе Сладчайший! Иисусе Сыне Божий, спаси и помилуй меня!..
Когда последнее содрогание смерти расторгнет узы мои земные и разрешит душу из темницы тела моего… водрузи в ней светило—Имя Твое Всесвятое, дабы Им и Пречистых Твоих Тайн Причащением дориносима, она радостно востекла вслед Тебя, Бога и Спаса моего и Тобою протекла победно мытарства и лютые истязания…
Если многогрешная душа моя, изгнанница рая, лишится лицезрения Твоего Божественного… я и в сени смертной не отпущу Тебя от сердца моего, Боже любви моей, Иисусе мой, Господи, и там буду любить Тебя и там буду поклоняться Божеству Твоему, Твое Сладчайшее Имя, Иисусе, непрестанно произносить буду, рассекая Им, как молнией, тьму сени смертной…
О, Господи, Господи! Изрекший благодатными устами Твоими: «просите и дастся вам, веруйте и не бойтеся», се предстою Тебе, Гbсподи Иисусе, и в Имени Твоем ублажаю Тя… Ей, услыши мя, Господи, Именем Твоим Всесвятым умоляющего, яко Ik ecu Бог наш, и Тебе славу, честь и благодарение воссылаю со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь…»
Не зная адреса Вашего, посылаю сии строки чрез двоюродного брата моего, прося его вручить Вам это письмо…
Желая Вам с семьей в добром здоровье и духовном утешении провести Святую Пасхальную Седмицу, – ожидаем Вас в начале Фоминой, или, Апреля выражаясь ,математически точнее: не позднее среды 28 Апреля/11 Мая.
Уважающий Вас Вл. Симанский.
Впервые печатается в нашем издании гл. IV из работы А. Ф. Лосева «Вещь и имя», тоже, как видно из наименования, непосредственно связанная с «Философией имени» и с тезисами докладов автора начала 20–х годов.
Как было мною установлено, существовала первая редакция «Вещи и имени», напечатанная в уже упоминавшейся книге «Имя». Эта рукопись завершалась короткой гл. IV «Из истории имени» с указанием на ряд важных специальных исследований. В книге «Бытие. Имя. Космос» (М., 1993) увидела свет третья редакция, несколько модифицированная автором композиционно, с заново написанным предисловием, стилистически слегка приглаженная. Все эти приметы указывали на слабую надежду автора напечатать, вернувшись из БелБалтлага, свою рукопись.
Из следственного дела А. Ф. Лосева известно, что накануне ареста он сдал книгу (именно книгу) в типографию Иванова в Сергиевом Посаде и книга была разрешена цензурой (показания Лосева от 10/V 1930). Однако после ареста автора арестован был также владелец типографии, и полный экземпляр «Вещи и имени» исчез.
Среди рукописей, возвращенных мне из ФСБ, оказалась одна глава из этой исчезнувшей книги, причем сохранился титульный лист с примечательным названием «Вещь и имя» (опыт применения диалектики к изучению этнографических материалов)». Слова в скобках вписаны А. Ф. Лосевым чернилами от руки, и создается впечатление, что подзаголовок сделан достаточно спешно, может быть, и незадолго до представления книги в цензуру. Здесь, видимо, была попытка как–то обезопасить достаточно яркое предисловие, где имя трактовалось во всей его магической силе. Но ведь этнография, как известно, изучает народные поверия, практическую магию, в том числе заклятия и заговоры. Как не вспомнить, что и «Диалектика мифа» – опять тоже в целях более безопасного прохождения через цензуру—называлась вначале «Диалектика мифа и сказки».
Оригинал машинописи гл. IV, оказавшейся в моих руках, напечатан на характерной для лосевских рукописей 20–х годов бумаге необычно большого формата и разных оттенков, от белого к значительно пожелтевшему. Края ряда страниц (их правый край) ветхие и даже рваные, но текст (лиловая машинопись) вполне ясный и хорошо сохранился. Нумерация идет подряд, кончая 37–й страницей. После нее начинается новая нумерация—страницы 1—14. Далее новый параграф опять начинается с 1–й страницы и завершается на 22–й. Таким образом, вся машинопись составляет 73 страницы, которые при стандартной современной перепечатке составляют уже 92. Машинопись правилась автором. Почти на каждой странице есть исправления опечаток, греческие, латинские и другие иностранные слова, вписанные Лосевым. Есть характерные для него подчеркивания и другие выделения слов, необходимые для печати, а также указания шрифтов и распределение текста по страницам. То, что нумерация страниц несколько раз начинается с первой, причем меняется и оттенок бумаги, указывает на то, что печатали рукопись несколько разных машинисток и очень спешили (много опечаток).
Самое же главное—А. Ф. Лосев от руки вписал последний абзац со сноской и заголовок первой главы «Философские тезисы ономатодоксии». Сама глава должна была начаться со следующей страницы.
Вспомним, что в письме к о. Павлу Флоренскому от 30/1 1923 г. (печатается в нашем издании) А. Ф. писал: «Есть у меня также и чисто философские тезисы имяславия, затруднять которыми Вас одновременно с этими (богословскими. – А. Т. – Г.) я не решаюсь». В последнем же абзаце печатаемой IV главы «Об Имени» он также пишет: «Я дал выше философию имени в более пространном изложении». Оба эти замечания указывают на то, что философия имени в книге «Вещь и имя» занимала значительное место по сравнению с 1–й и 3–й редакциями, а также и то, что (явное, отнюдь не скрытое, как в «Философии имени») философское обоснование ономатодоксии в этой книге, судя по всему, исчезло безвозвратно. Необходимо заметить, что в гл. IV об имени А. Ф. Лосев использовал перевод книги «Зохар», основополагающего текста Каббалы, который передал ему известный переводчик Гегеля и философ Б. Г. Столпнер. На него А. Ф. ссылается (не называя имени) в «Диалектике мифа». Лосев пишет «об одном ученом еврее, большом знатоке каббалистической и талмудической литературы», у которого он «доискивался точно узнать о неоплатонических влияниях в Каббале» (с. 257 = с. 211). Б. Г. Столпнер фигурирует в «Деле» как «единомышленник» Лосева.
Также, видимо, безвозвратно исчезла полная рукопись «Дополнения к «Диалектике мифа»», часть которой (около 150 машинописных страниц), полученная мною из архива ФСБ, печатается в нашем издании. Текст– машинопись с черным и синим шрифтом—пронумерованный самим автором со стр. 332 до стр. 485. Текст, напечатанный с черной копиркой, пронумерован еще и машинисткой (стр. 49—149), но обрывается на этой странице (карандаш, стр. 432), хотя дальше нумерация продолжается подряд (но только карандашом). Страница 432 (карандаш) = 149 (машинка) кончается словами:«1. Предложенная система есть апофатизм. Я утверждаю, что…». Следующая страница 433 (карандаш, синий шрифт) начинается со слов: «Теперь удобно перейти к рассмотрению отдельно материально–меонального пересоздания имени сущности». Видимо, рукопись печатали разные машинистки (части отличаются не только цветом шрифта, но и бумагой). Вся часть до 433 страницы напечатана на обороте лосевской перечеркнутой синим карандашом машинописи (анализ диалогов Платона, учение Платона об идеях, эстетические рассуждения). С 433 страницы—оборотная сторона чистая, бумага, как всегда у Лосева 20–х годов, большого формата. Таким образом, «Дополнение» – это не брошюра, как писал Горький, а целая книга в несколько сот страниц. Часть, дошедшая до нас, имеет философско–богословский характер.








