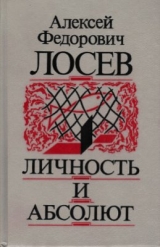
Текст книги "Личность и Абсолют"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 51 (всего у книги 54 страниц)
Два других принципа, введенные Ф. Брентано, – активность и целостность—получили свое конкретно–психологическое воплощение при описании вюрцбуржцами механизма мыслительного процесса. В старой, ассоциативной психологии процесс мышления представлялся диффузным и весьма хаотичным течением сформированных в опыте субъекта цепочек ассоциаций, возникающих как пассивный ответ на некоторое воздействие. В противоположность ассоцианизму Вюрцбургская школа, которая, кстати, впервые выделила психологическую специфику мышления как процесса решения задач, в различных своих исследованиях продемонстрировала упорядоченность мыслительного процесса, его строгую организованность в целенаправленную систему. При предъявлении задачи испытуемый порождает определенное представление цели, субъективное значение которой вызывает детерминирующую тенденцию—то исходящее от цели влияние, ту особую «силовую линию», которая организует и упорядочивает все элементы мыслительного процесса в единую целенаправленную последовательность. За понятием детерминирующей тенденции легко просматриваются общие представления Ф. Брентано об интенции на предмет как детерминанте целостности сознания.
В целом можно сказать, что при множестве несовершенств своего концептуального аппарата, методологии и техники экспериментальной работы, справедливо подвергнутых подробной критике А. Ф. Лосевым, Вюрцбургская школа, недолго просуществовавшая в психологии, оставила в ней заметный след.
Психология акта Ф. Брентано и феноменология Э. Гуссерля, задавая новые рамки предмета психологии, придавали ей и новые, до того времени неведомые возможности. Будучи во всей полноте воспринятыми психологией на закате жизни Вюрцбургской школы, эти возможности реализуются в почти одновременном появлении целого веера школ–направлений, общепсихологические программы которых образуют макроструктуру мировой психологии XX в., прослеживающуюся и сегодня, на его исходе.
Программа же Вюрцбургской школы, оказавшись промежуточным звеном между старой и новой психологией, одной из первых воплотила в ткани конкретно–психологических знаний общие теоретико–мето до логические установки европейского функционализма, при этом не только создав новую психологию мышления, но и став прообразом и предпосылкой новых психологических направлений науки XX в.
Возвращаясь к началу, теперь несложно понять и причины интереса А. Ф. Лосева к проблеме интенциональности, и выбор в качестве непосредственного предмета исследований именно Вюрцбургской школы.
В немногочисленной отечественной литературе, посвященной Вюрцбургской школе, нет, насколько нам известно, работы, в которой ее деятельность анализируется более фундаментально и содержательно. Читателю впервые представляется возможность столь подробного и глубокого знакомства с этим направлением. Однако не только подробное описание и анализ истории вюрцбургской психологии составляли задачу А. Ф. Лосева.
Насколько можно судить по структуре и композиции текста, перед автором стояла задача более высокого порядка: на анализируемом материале провести критический анализ тех философско–методологических оснований, которые оказались скрытым тормозом развития психологического познания. Не случайно поэтому, что первая часть начинается с критики И. Канта.
Основной повод для критики стиля мышления этого великого мыслителя – «овеществление сознания» – в чем–то близок вышеотмеченному субстанциализму классической психологии сознания, но в контексте работы А. Ф. Лосева имеет свой, более конкретный смысл: исходное понимание сознания не может базироваться на его отстраненности от субъекта, на расчленении психической реальности системой абстрактных понятий, являющихся по сути своей вторичными образованиями, продуктами рефлексии.
Отсюда становится понятным стремление автора определить ту «первичную данность», с которой начинается всякое психологическое познание и которой, по мнению А. Ф. Лосева, наиболее близки понятия «поток сознания» У. Джемса и «переживание» Э. Гуссерля. Сам же автор для обозначения такой первичной данности, в которой еще не отделенные друг от друга субъект и объект находятся в процессе «объективного обстояния», вводит понятие «объективный смысл».
С этих позиций во второй части работы проводится «имманентная» критика всех основных исследований, проведенных в Вюрцбургской школе; основная цель этой критики—выявить их внутренние противоречия. Третья часть, посвященная «трансцендентной» критике, представляет в целом результаты деятельности этой школы с точки зрения решения стоявших перед ней задач, а также вносит их в общий контекст философско–психологических проблем ее времени.
Результаты этой критики—в контексте преодоления И.Канта и приближения к Э. Гуссерлю—оказываются для Вюрцбургской школы, насколько можно судить по тексту, весьма неутешительными. Это обстоятельство и побудило нас, выйдя за рамки публикуемого текста, вкратце осветить позитивную роль Вюрцбургской школы в исторической ретроспективе внутренней логики становления психологии XX в.
В. В. Умрихин
ДВЕРИ ЖИЗНИ
По нашей общей привычке к схемам, по недостатку внимания и, главное, потому, что А. Ф. Лосеву помешали высказаться до ясности, нам могло казаться, что он так и остался внутри орбиты русского идеализма и принадлежит, таким образом, платоническому музею. Новые рукописи, настойчивостью и верностью Азы Алибековны ТахоГЪди извлеченные на свет из архивов государственной безопасности, тревожат нашу успокоенность, показывают, что А. Ф. не только заглянул в провал 20 века и был захвачен им, но и успел ответить на вызов времени. Он не укрылся в традиции, в истории культуры и тысячелетнем богословии, а сам сделал попытку дать им новую опору, тем более надежную, что найденную на самом дне.
1. В свете этих новых рукописей, которые мы читаем напечатанными старой машинкой на больших листах бумаги давнего формата 220 χ 350, становится ясно, что А. Ф. Лосев принадлежит великому взлету европейской мысли 1920–х годов, и не номинально, через внешнее знакомство с гуссерлианством, а по сути и от себя, своим развитием, ведет ту же, феноменологическую и герменевтическую работу, что совершалась на Западе в те годы. Оказывается также, что Лосев гораздо ближе, чем можно было бы подумать по отсутствию прямых связей между двумя мыслителями, к тогдашнему Бахтину, которому тоже не дали договорить свою «философию поступка» и который тоже ушел после сталинского разгрома России в иносказательное слово.
В рукописи, возвратившейся спустя почти 70 лет после своего ареста в архив Лосева с оборванным началом, сразу бросается в глаза слово «факт», стоящее как раз посередине первой (49–й) страницы.
Фактом Лосев именует то, чего «непререкаемой диалектической триаде», которую составляет «одно–сущее–становление», недостает, чтобы осуществиться. Благодаря факту появляется известная лосевская «тетрактида», вводящая в заблуждение якобы добавлением четвертого элемента к старинным трем. Однако факт не элемент триады и ничего к ней не прибавляет, кроме того что дает ей быть.
Факт—злое и свежее слово эпохи. У Лосева так же, как у Гуссерля, Макса Шелера, Хайдеггера и Витгенштейна, оно вырывается из комбинации смыслов, выводит мысль из замкнутости, жестко закорачивает ее на свирепой обыденности. С фактом ведущая мысль 20 века заглядывает в сырую реальность ничуть не меньше, но без сравнения зорче и рискованнее, чем революционный матрос.
Из факта, поднятого философией 20 века, Лосев осмысливает энергию от Аристотеля до св. Григория Паламы, а не наоборот, поэтому энергия звучит у него с полнотой, включающей, между прочим, и всю современную актуальность этого слова. Соответственно другие имена факта–энергии, «выражение, образ, символ, имя», подлежат переосмыслению. Ни одно из их значений Лосев не будет искать в словаре, он их слышит и потребует от других слышать в полноте настоящего. Сакральные и божественные черты языка лосевской мысли на фоне современной ему западной философии и рядом с лексикой Бахтина, зависящего в большей мере, чем обычно думают, от немецкой школы, бросаются в глаза, но они продиктованы не зависанием Лосева в устарелой метафизической традиции, не пристрастием к отвлеченностям, а, наоборот, трезвым принятием живой реальности России, библейской и верующей страны. То, что на Западе станет политикой и экономикой, у нас будет высказано в терминах правды, веры, подвига и подобных.
Лосевская «диалектика самих вещей» по слову и по сути то же, что возвращение Гуссерля «назад к самим вещам», и, в противоположность марксистскому приложению диалектического остова к любой реальности, означает, наоборот, слом этого остова. Переосмысленное понятие диалектики призвано у Лосева впредь только поддерживать внимание к свойству вещей, их своей жизни. «Диалектика не есть метафизика и даже не нуждается в ней, и потому связывать себя какими–нибудь условно–метафизическими теориями и хотя бы даже критикой их нам… совершенно не к лицу» (с. 382) [957]957
Здесь и далее при цитировании «Фрагментов Дополнений к «Диалектике мифа»» в скобках указываются страницы наст. т.
[Закрыть]. Имеет смысл спросить, стоит ли удерживать слово после подобного переосмысления. Но, что о чертах диалектики Лосева нужно узнавать у него самого, а не из справочников, остается обязательным правилом для всякого читателя его текстов.
Можно ли в лосевских факте и энергии видеть уважение к мощи и власти? Безусловно, но только пугливое сознание заподозрит здесь соблазненность веяниями или идеологиями эпохи. Все эти веяния и идеологии были только слепыми шевелениями в ответ на историческое землетрясение, «изменение десницы Господней», которое у партий и их учителей не было никаких шансов понять. Конечно, Лосев дышит парами из того же исторического разлома, который задел в начале века всех в Европе и в мире, но у него, думавшего о происходящем, надо спрашивать, вчитываясь в него, о смысле того, что тогда случилось, а не у идеологов, создателей газетных схем для массового употребления.
Можно и нужно видеть, что лосевская тетрактида вобрала в свое существо факт эпохи, энергия указывает на ее историческую мощь и темп, вокруг «Одного» сосредоточено раздумье мыслителя о монархии и новой революционности, которая освежала ветхую монархию под именами «идеологического единства», «сплоченности рядов», «сжатости в один кулак». Но если судорожные усилия слепых обновителей должны были вскоре кончиться надрывом и отчаянием, то взгляд философа словно заново видел те самые простые вещи, от которых вялые умы бежали к своим фантазмам, и возвращал всему ту новизну, о которой напрасно мечтали «революционеры».
Ошеломленный, изумленный их непостижимой явью, он видел вещи словно впервые. Например, хлеб, вода. «Из того, что я умею есть и пить и понимать, что хлеб и вода—не я, а я—не хлеб и вода, – из этого еще не вытекает, что я—философ и имею философское представление о «я» и о хлебе и воде. Непосредственно ощущаемое для меня мое «я» и такие вещи, как хлеб и вода, суть для мысли отвлеченнейшая данность…» (с. 383). Хлеб и вода конечно для того, чтобы не умереть с голоду. Но сам голод и смерть, что такое?
Изумление лишь возрастает, оно перебивает, подсекает нужду, оказывается острее ее. Этот единичный опыт изумления на грани небытия весит больше, чем бурление сбившихся, притуплённых умов, которые дали себе проскочить мимо первого спасительного, всех и все спасающего, изумления и утонули в мыслительных вначале, потом «практических» операциях с материей, закончившихся неизбежно ее обветшанием.
До того, как перебирать и описывать разработки Лосева, важнее всего или приобрести, заимствовав у него, или хотя бы заметить главное, почву, откуда все у него. Это—его зрение, дарящее, т. е. возвращающее всему, что оно видит, бездонную глубину. Лосев по своим причинам не любит слова «созерцание», которое «давно уже потеряло четкость своего значения и почти ничего не говорит большинству занимающихся философией». Интеллигенция, которую он предлагает взамен созерцания, не намного лучше. Пусть тогда то, как загораются под его взглядом вещи, останется без названия. Гераклит это называл молнией, огнем и обменом вещей на золото. Надо научиться сначала как–то видеть все вокруг таким зрением, чтобы потом понять, для чего Лосеву нужны его сложнейшие диалектические постройки. Мощь простых вещей увлекает его. Он смеется над психологами с их «творчеством». Зачем творчество, вглядимся в отломанную ножку стола, покрашенную палку, кусок дерева. «Чем она отличается от деревянной палки просто?., в ней есть особая смысловая активность…» (с. 386). Отломанная ножка действует, она кричит о целом, тянется к разломанному единству. «Значит ли это, что данная деревянная палка проявляет ту активность, которую можно было бы, напр., сравнить с мощностью, развиваемой в паровой машине?» (там же). Да, и больше того, потому что сила поршня нуждается во внешнем разогреве, а тяга к целому всегда сама ломится изнутри. Активность ножки стола, в отличие от паровой машины, телеологическая, целевая и идет не от паровой тяги, а от никогда не устающей тяги мира. И «Одно», мир, диктует по преимуществу, да еще как.
Эта мощь размечет, расшвыряет «партию», неосторожно захотевшую прицепиться к силе «единства», распылит и могущественное государство, на эту силу захотевшее положиться. Философ в стойком упрямстве своей мысли один, пусть и под всеми ветрами, и чуть не сбитый с ног, не играет шута перед единственной невидимой мощью именно потому, что знает, что она опрокинет любую попытку тягаться с ней.
А что поможет отважной мысли? Как парус и лодка в ее волшебном океане, по которому машины не ходят, у нее слово. Языка всегда недостает, потому что скажи «единое», скажи «бездна», всё будет мало; добавь к этому приставку «сверх-» и уже рискуешь инфляцией и срывом, необходимостью начинать всю работу сначала. У лосевского зрения есть русский язык, чьи ритмические возможности он использует с театральным мастерством и к чьему философскому богатству он начинает подбираться. В количественной массе его терминология все еще принадлежит общеевропейской и всемирной беспочвенной философской латыни, но вкраплениями, точками опоры получают прописку надежные свои слова. «Хотя мы сейчас и занимаемся чистой логикой, мы, чтобы не впасть в гегельянский рационализм и логицизм, должны, однако, постулировать необходимость и сверх–логических обстояний (!) бытия» (с. 379). Обстояние бытия, заставляя думать, одно перевешивает собою звон всей оставшейся части фразы. Подобные слова очерчивают пространство мастерской, где идет работа мысли, и приглашают к переосмыслению всего. Или другой случай, напоминание об ангелах. «…Не забудем: в ангелах «тело» и «душа» взаимопронизаны до последней глубины и суть одно и единственное умное обстояние» (с. 509). Или в лосевском догматисании, веском и грозном, как его анафематствования: «Божество и человечество обстоят (!) в Христе неслиянно, нераздельно, неизменно и неразлучно» (с. 482).
Высокая церковнославянская лексика, родная Лосеву, легко показывает у него свое преимущество перед философским жаргоном, его в свою очередь освещая и обновляя, как во фразе об энергии: «…надо вспомнить, что это есть Выражение Невыразимого^ Образ Неведомого, Имя Неименуемого и Преименитого» (с. 379, курсив наш. – В. Б.). Где ходы лосевской мысли всего сильнее, там они прочерчены словами из самых прямых, на какие способен язык. Так в догадке о том, что сознание возникает вместе с изначальной парностью сущего: «Одно первого начала… не есть смысл и не имеет смысловой активности, оно не мыслит… Абсолютное Одно, будучи лишено двойства (!), лишено мысли».
Как было замечено об энергии, что ее надо осмысливать из факта, а не наоборот, так и все лосевские термины, обманывающие своей лексической принадлежностью к школьному дискурсу, требуют сплошного продумывания заново в свете особого лосевского зрения: ведь даже когда он их произносит точно, как мы, видит он их все равно по–своему, как иначе не может. Его «абсолютная» диалектика—это не в меньшей мере чем у Гегеля, упрямство, доупрямившееся до конца, выстоявшее, вытерпевшее, вынесшее огонь сквозного зрения [958]958
«Собственно диалектика, – сказал Гегель, – не что иное, как упорядоченный, методически разработанный дух противоречия» (Иоганн Петер Эккерман. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни, запись в четверг 18 октября 1827).
[Закрыть]. Или еще: абсолютная диалектика та, которая оставила вещам быть самими собой вполне так, как они есть и движутся, и добавила от себя только внимательность к тому, как они показывают себя. Для такой новизны мысли никакого языка, конечно, не хватит, и недоразумения будут неизбежны. Но с этим придется мириться тому, кто решил дарить; бездны будут открываться не в одной далекой воображаемой точке «первоединого», а, как мы уже заметили, в любом куске хлеба и во всякой оставленности без хлеба. «Одно» в этой диалектике—имя чего угодно сколь угодно большой или малой величины, на чем остановилось это особое зрение и что оно прожгло до уникальности, единственности, «бездны». Все, большое и малое, на чем остановится взгляд, одновременно и просто вплоть до ускользания от «двойства», т. е. от рсознаваемости и осмысления, и—именно поэтому—заряжено бесконечными интеллектуальными конструкциями. «…Β силу той же самой диалектики, мы должны с абсолютной настойчивостью требовать, чтобы абсолютное Одно было выше интеллигенции, и исповедовать, что сама интеллигенция, чтобы быть, должна требовать сверх–интеллигенцци той абсолютной единичности и единства интеллигенции, где она уже потухает в качестве разветвленной системы и где все предстоит, как неразличимое и неотличимое первоединство… и здесь мы должны различать сверх–интеллигенцию как абсолютную апофатическую Бездну и как начало интеллигентного ряда» (с. 389—390).
В середине интеллектуальной бури таким образом покой. Но для того, чтобы просто увидеть его, нужен весь размах вырывающегося из рук движения. Кто начал с искусственной умиротворенности, получит в конце, наоборот, бурю. Брожение, даже на худой конец бесцельное [959]959
«Даже если «бесцельно» бродить туда и сюда…» (с. 391).
[Закрыть], вначале так или иначе неизбежно. Если оно не закиснет, то вспомнит о цели, разогреется и уже не сможет остановиться. На пределе активности, но не раньше откроется неожиданная перспектива безмятежности. «Возьмите… всю сумму реальных, мыслимых и возможных смысловых активностей. Получится некая общая универсальная активность, которая сама по себе уже не будет содержать в себе активности…» (с. 392). Сказано парадоксально, и Лосев ощущает надобность в иллюстративном объяснении, говоря об океане света, тонуть в котором значит уже не отличать свет от тьмы. Сравнение помогает мало, но правда, на которую только намекают все слова, работает и так, и для подтверждения ее нужен не экскурс в аристотелевскую энергию покоя, а что–то вроде «самоопыта» Дильтея и графа Йорка [960]960
«Опыт самости как последняя инстанция… И более высокая инстанция не усматривается» (Briefwechsel zwischen Wilhelm Dilthey und dem Grafen Paul Yorck v. Wartenburg. Halle (Saale), 1923. S. 179), cp. S. 71: «самоосмысление, направленное не на абстрактное Я, но на полноту моей самости», S. 69: «внутренняя… историчность самосознания… состояние самости и историчность—это как дыхание и напор воздуха…».
[Закрыть].
Не случайно упоминая эти имена, мы, однако, оставляем на потом необходимое исследование о настоящей, поверх внешних заимствований, близости Лосева к герменевтико–феноменологической немецкой мысли, через Дильтея и Гуссерля вплоть до Хайдеггера. Вот для «заправки» (слово Лосева; так он называл приступ к работе) первое попавшееся совпадение с фрейбургским философом: «во мгновение ока», говорит Лосев, «ум дан сам себе сразу… и сразу весь целиком» (с. 398). В том же смысле у Хайдеггера в «мгновении–ока» происходит собирание присутствия в целость: «Сдержанное в собственной временности, тем самым собственное настоящее мы называем мгновением–ока. Этот термин надо понимать в активном смысле как экстаз. Он подразумевает решительный, но в решимости сдержанный прорыв присутствия в то, что из озаботивших возможностей, обстоятельств встречает в ситуации» [961]961
Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 338.
[Закрыть].
Разыскание внешней литературной близости А. Ф. Лосева к феноменологическому движению, конечно, имеет свое основание и свою важность, тем более что издавна в Лосеве склонны замечать не это, а только вообще его античность и в лучшем случае ее связь у него с новоевропейской мыслью [962]962
Франк С. Л. Новая русская философская система. – Путь. № 9 (1928). С. 89—90.
[Закрыть], причем ни детальных разборов отдельных лосевских работ, ни общих обзоров его мысли пока еще просто не существует [963]963
«…Весь спектр «влияний» на раннюю мысль Лосева, простирающийся от античного неоплатонизма вплоть до философии жизни Бергсона и феноменологии Гуссерля, нередко оказывается предметом обсуждения. При этом взаимосвязь многосложных мыслительных горизонтов, в рамках которых Лосев развертывает свои основополагающие идеи, никогда по–настоящему не прослеживается. Да это было до сих пор и невозможно, поскольку не существует ни детальных интерпретаций ранних философски–систематических текстов Лосева, ни отчетливого описания различных фаз его ранней мысли» {Haardt Alexander. Husserl in RuBland. Munchen: Fink. 1993. S. 196).
[Закрыть]. Для историка лексических заимствований Лосев не знает Гуссерля в 1916 году, приближается к нему в 1920—1921 («Феноменология чистой музыки») годах и постепенно к концу 1920–х оттесняет феноменологию на служебное место [964]964
«Если феноменологические подступы к эстетическим феноменам в ранней книге Лосева «Феноменология чистой музыки» могли развернуться в собственное эстетическое учение, то впоследствии—особенно в «Диалектике художественной формы» и в «Философии имени» – феноменологические описания служат больше лишь пропедевтическому прояснению предметных областей философии искусства и языка» (Haardt… S. 241).
[Закрыть]. На деле Гуссерль, подтолкнув Лосева в его работе, не должен был и не мог перевести в свою колею этот самобытный русский ум, тем более что ведь и главные немецкие ученики Гуссерля тоже, встав на ноги, скоро пошли своей дорогой.
Отсюда кажущийся откат Лосева [965]965
«В …позднейших эстетических работах, в которых все более определяющими становятся неоплатонически–диалектические концепции» (Haardt… S. 211).
[Закрыть]снова в платонизм и его критика «феноменологии», точнее, самого же Гуссерля, к тому же узко понятого. Но опять же и лучшие немецкие ученики Гуссерля поняли учителя, как он жаловался, криво: им, как и нашему Лосеву, надо было думать свое. Да, от бергсоновско–гуссерлевского «переживания и опыта» времени русский ум возвращается к живой «душе космоса» с ее внутренней формой времени, но это не обязательно означает упущение феноменологии и «переживаемого (феноменологического) времени» [966]966
Haardt… S. 219.
[Закрыть], а надо сначала спросить, вычитывает ли Лосев у неоплатоников, как надо понимать космос и мировую душу, или ему так же тесно в камере отдельного субъекта с его частными переживаниями и, как в те же годы Хайдеггер и Витгенштейн с их радикальным «солипсизмом», он напрямую привязывает Я к миру и не видит опоры для индивидуального сознания иначе как в целом. Какую цену имеет знание, не вышедшее на мировой простор, тем более для русского ума? «Неправда субъективистических теорий знания заключается не в имманентизме как таковом, а в узости субъекта, который им известен, в самоослеплении и самоотсечении от бесконечных просторов бытия вообще. Признавая в качестве действительного бытия маленькое и узкое сознание среднего человека, эти теории… приходят к тому, что весь мир и все бытие мыслится вмещенными в это узенькое человеческое сознание и даже порожденными им» (с. 396—397). И Лосев объявляет программу для умов 20 века, которая уже и выполнялась именно в те годы с отчаянной решимостью двумя неизвестными ему молодыми людьми в Германии и Австрии, только Лосев был беззащитен на насквозь продуваемой восточноевропейской равнине, а те были лучше защищены в своих северных Альпах: «Истина была бы достигнута тогда, если бы перестали думать о человеческом субъекте и вообще о всяком субъекте(курсив наш) и начали бы строить диалектику интеллигенции вне какого–нибудь определенного субъекта» (с. 397).
Но первооткрывательская книга Хайдеггера, в которой «субъект» фигурирует действительно уже только в кавычках и вместо него говорится о «бытии–в–мире», только что вышла весной 1927 года и когда еще доберется до московских библиотек, а на русском выйдет вообще только через 70 лет; а «Логико–философский трактат» еще не расшифрован в своей якобы формально–логической символике, и его автор, общепризнанный сумасшедший, учит детей в сельской школе. Даже если бы Лосев знал их, он все равно был бы прав: «Только немногие теории доходят в настоящее время до идеи высвобождения понятия сознания от понятия субъекта, и только такие теории и достигают полной независимости философии от метафизики и определенного вероучения» (там же). Другое дело, что неодинокий ум мог бы шагать еще смелее й увидеть проблему в концепции не только субъекта, но и сознания вообще. Мир втискивается в него, или, наоборот, человеческое присутствие есть только в той мере, в какой раскрываются двери, окна, стены, чтобы отдать миру, и значит вобрать, всё. Лосев делает именно этот шаг, когда от имени «диалектики» требует (!) «антисубъективистического имманентизма», т. е. такого «самосознания ума», которое «и есть объективность осмысленного бытия вообще» (там же). Гегельянская терминология сковывает, однако, движение. Характерные гневные и анафематствующие жесты Лосева [967]967
Например: «Смысл насквозь и до конца, навеки и нерушимо явлен сам зебе, и нет ничего такого, что могло бы хотя бы на волос нарушить эту интеллигентную адеквацию. Допустить нарушимость хотя бы на волос можно было бы, только погрузивши все и вся в абсолютное сумасшествие…» (с. 398).
[Закрыть]чаще всего вызваны раздражением все–таки от этих невольных колодок своего же языка, разбить которые в почти полном одиночестве было трудно или даже невозможно.
Можно ли сказать, что А. Ф. Лосеву не хватает техники, как и вообще России, особенно в те годы? Пожалуй, да. Притом что вся мыслимая тонкость техники намечена в остроте его мысли, например котда совпадение высшей подвижности и покоя явно имеет у него черты, знакомые ему вблизи по собственному опыту мистика и духовидца: «В неуловимое, вне–временное мгновение ум сразу и целиком, раз навсегда, осознает себя как такового, так что тут сразу данб и обтекание смысла по всем бесконечностям ума, и покой самосознанного ума в себе, покой как умная быстрота…» (с. 400–401).
Стремительная легкость ума этим совпадением движения с покоем отделяется без всякой возможности примирения от бурления толпы, которая знает свои восторги, только безысходные и непокойные. «Чистая жизненность есть… своего рода экстаз, но… доумный… не напрягающий до максимума мысль… максимально расслаивающий и размывающий ее, растягивающий и рассеивающий ее до степени животно и слепо ощущаемой и ощущающей туманности» (с. 411). Прав ли Лосев, отдавая жизнь слепому разброду и противопоставляя ее уму? Мы так мало знаем о жизни. У породистых животных она отчетливо строга. Скорее всего под туманностью имеется в виду все же не жизнь в ее тайне, а сбивчивое состояние все того же ума.
Лосев явно спешит завершить свои главные разработки, оставляя в захваченности успехом все подчистки на потом, которое так никогда и не наступит. Из того, что жизнь не знает себя, еще не следует, что она еще не вышла из власти софии. Лосев это и говорит: «Жизни нет без ума и без Одного…» (с. 411). Что в жизни помимо «ума и Одного» затуманивает ее? разве она сама? разве не путаница в головах, к которой конечно схематические представления о жизни могут только прибавить тумана?
Там, где у Лосева намечены только заделы, должны додумывать мы сами. Для этого он предупреждает читателя не понимать его слова, «как он понимает их в своей обыденной речи и жизни, со всей неразберихой и смутной сентиментальностью». В «кристально–ясной систематик [е] мысли» эти диалектические слова «ничего общего не имеют с обыденным их пониманием, полным всякой непродуманной спутанности и замутненности» (с. 421). Они у Лосева питаются своей логической энергией и ничего не хотят брать на стороне. Он говорит с вызовом и гордостью, что один среди всех людей возвращает словам их настоящую суть: «Я не знаю, да и в настоящей работе не интересуюсь знать, что понимает толпа, напр., под «умом» или «рождением». Однако я не выдумываю новых терминов, а привлекаю старые, лишь вкладывая в них чисто феноменолого–диалектическое содержание» (там же).
2. Жизнь, Живое Существо наполнится у Лосева «более глубоким содержанием», когда выступит как история и судьба Личности, понятой как «лик». Она станет тогда опорой и началом всех величин и поднимется выше Одного и Ума. Умное рождающее существо—Бог.
Означает ли это, что в философский разбор вводится богословская величина или что с самого начала лосевские анализы имеют христианско–догматическую ориентацию? Мы попробуем показать, что подход и направленность Лосева остаются едиными, цельными и не отстают в эту эпоху, 1920–е годы, от решающих шагов европейской мысли. Они остаются феноменологией не по принадлежности к школе Гуссерля, а в том широком смысле, в каком феноменологией называют ведущую философию нашего века, условно видя ее специфику «в отказе от любых идеализаций… и принята [и] единственной предпосылки—возможности… укорененной в самом сознании и человеческом бытии… описания спонтанно–смысловой жизни сознания (Гуссерль) или истолкования фундаментальных структур человеческого существования (Хайдеггер)» [968]968
Современная западная философия. Словарь. М., 1991. С. 318.
[Закрыть]. Что означает тут укорененность в жизни и человеческом бытии, мы попробуем с помощью Лосева прояснить.
Сам Лосев ошеломлен верховной Личностью, словно видя ее впервые. Она «только сейчас начинает немного приоткрываться для нашего изумленного взора» (с. 433). С расширением взгляда изменяется глядящий. Вернее, его способность вместить Лицо и есть собственно он сам. При встрече с Личностью он приходит, или возвращается, к своей полноте. Божественная Личность поэтому собирает в себе начало и конец истории человека во всем ее мыслимом размахе. Такая полнота, вбирающая в свое настоящее все прошлое и будущее человека, не может быть вмещена одним простым понятием, ее имя Троица. Сказать: Троица, значит уже выйти из молчания, которое пристало непостижимому Одному, и открыть пути для множества имен Бога. Как божественную Личность нечем вобрать–не логическим же рассуждением! – кроме как всей мыслимой для человека полнотой, так для именования Бога неоткуда взять другие имена, кроме как из собственности именующего в той мере, в какой он возвращается к своему богатству. Его богатство немалое: он просыпается в своем изумлении к могуществуведению–любви, добру–истине–красоте, довлению (довольности своей мощи) – мудрости–святости, силе–свету–благодати. Не упустим это из виду: вспышка божественной Личности происходит даже не одновременно с возвращением человека к своей полноте, а оба возрастания, или оба рождения, Отца и Сына, слиты в одно и имеют одну общую меру в Духе.
Это богословие? По звучанию слов—да. Можно осуществить перенос говоримого Лосевым в привычные всем богословские схемы. Мы вернемся тогда в христианско–платонический музей. Он имеет свою ценность и выполняет свои функции, но наша задача другая. Ведь Лосев не вычитал свои конструкции из истории богословия. Перед его «изумленным взором» открылось тождество человеческого осуществления (истории человека) и божественного становления. Поэтому Лосев говорит странным образом одновременно о начале и конце пути: «…теперь мы пришли… к концу в смысле первоначального задания… и только теперь мы можем ставить реально вопрос о том, что такое абсолютная мифология» (с. 434—435, курсив наш. – В. Б.). Абсолютность, т. е. найденная Лосевым безусловная окончательность его данных, касается только уверенности в нужности своих ходов и дает право встать на путь, но и только. Сам путь очень долог. Окончательно, с абсолютной достоверностью найден только, так сказать, методологический принцип искания. Он один: полнота постижения равна полноте постигающего.
Лосевские тетрактида и пентада не прибавляют ничего к содержанию Троицы, они несут в себе заявку на названный методологический принцип. «Четвертое начало есть начало осуществления, реализации, овеществления смысла… Пятая категория… предполагает первые три начала и только определенным образом выявляет их вовне» (с. 436– 437). Здесь Лосев говорит целиком от себя, он вряд ли тут помнит о Гуссерле и, возможно, даже не знает, что попал не в лексику, а в суть его феноменологии, «назад к самим вещам». Сами вещи просят человеческой полноты для своего обеспечения.








