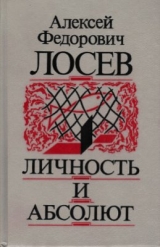
Текст книги "Личность и Абсолют"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 54 страниц)
Ему приходится направлять беспредельность и бесконечность своей осмысляющей активности на свой же собственный предел и таким образом создавать беспредельную мощность смысла в своих собственных пределах и предел в качестве самого же себя при своем беспредельном устремлении к самому себе. Одно мыслит, или созерцает, себя. Интеллигенция поэтому есть смысловая активность Одного, направляющегося на самого себя, или, короче, смысловая активность самосоотнесенности смысловая активность для–себя–бытия. 4) Наконец, уже самое понятие активности предполагает выход Одного за пределы самого себя. Активность есть действие, или способность действия, одной вещи на другую. Активность одного предполагает иное, а вместе с тем и все то, что связано с привхождением меонального принципа, т. е. всю символическую тетрактиду. Активность смысла и заключается в том, что все иное, что есть, кроме одного, т. е. все многое, охватывается смыслом Одного, есть, несмотря ни на что, все–таки то же самое Одно. Однако, признавши иное и многое, мы тем самым уже связали себя символической триадой–тетрактидой, и всякая активность, стало быть, есть не что иное, как активность символически–тетрактидного смысла. Отсюда, интеллигенция есть смысловая активность самосоотнесенности Одного, явившегося в форме символической триадытетрактиды или смысловая активность самосоотнесенности тетрактиды, или, наконец, сама триада–тетрактида в аспекте ее явления самой себе в результате смыслового самосоотнесения.
Как раньше абсолютцрсть конструируемой здесь мифологии заставила нас ввести кроме Одного как начала диалектического процесса еще другое Одно, вернее, чистое Сверх, которое уже ни для чего не является началом и есть абсолютная неявленность и неизреченность, так и здесь именно абсолютность мифологии заставляет нас говорить об интеллигенции как свойстве самой же триады–тетрактиды. В первом случае игнорирование абсолютного Сверх привело бы к панлогизму, т. е. к сведению всякого бытия на систему логических категорий. Этого, однако, не хочет сама диалектика, поскольку уже выставлением некоего Одного как абсолютной объединенное™ всего логического и алогического она постулирует выхо к той сфере, которая уже не может быть ни чисто логической, ни чисто алогической. Для диалектики тут возможны два выхода: или логическое и алогическое (а наличность алогического, т. е. наличность иного при Одном есть, как мы видели, диалектическая необходимость) не имеют друг к другу никакого отношения и должны быть рассматриваемы одно независимо от другого, – тогда диалектика превращается в абсолютный дуализм; или же диалектика хочет до конца остаться диалектикой, так как она—абсолютная диалектика, но тогда между логическим и алогическим должно быть тождество, которое уже не может быть ни просто логическим, ни просто алогическим, а неким сверхлогическим принципом, порождающим из себя и то и другое. Именно, абсолютность диалектики заставила нас говорить об Одном, и в этом Одном различать Одно как начало диалектического ряда от Одного как абсолютно–апофатического Сверх.
Та же самая абсолютность диалектики (а след., и мифологии) заставляет нас теперь говорить об интеллигенции этого Одного (а след., и всей триады). Действительно* Одно «отличается» от другого, «отождествляется» с другим и т. д. Что это значит? Эти акты Одного или нужно и понять всерьез как именно акты Одного, или нужно, чтобы эти полагания, все эти отличения, отождествления и т. д. производились кем–то или чем–то извне. Допустим, что эти акты в отношении Одного надо понимать чисто метафизически, т. е. что суждение «Одно полагает иное» вовсе не значит, что Одно действительно полагает иное. Пусть кто–то или что–то извне действует на Одно так, что в результате этого получается «иное» и проч. Явно, что этим допущением мы опять внесем дуализм, который убьет диалектику в самом корне. Абсолютная диалектика исходит из того, что только и существует это Одно, что оно совершенно не зависимо ни от чего другого, что, наоборот, все остальное от него зависит. Откуда же оно получит что бы то ни было и, в частности, акты полагания и отрицания? Да ведь если бы и было чтонибудь кроме него—оно тоже должно было бы быть чем–то одним, чтобы не рассыпаться в бездне алогической пыли. Значит, наше Одно все равно действовало бы и там. Стало быть, Одно, чистое Одно есть решительно везде; оно–то и есть все. Так чему же нам приписать интеллигенцию, как не этому самому Одному, куда же и отнести ее, если, кроме Одного, вообще ничего нет? Таким образом выясняется, что все самосоотносящиеся акты Одного, т. е. вся интеллигенция, есть не что иное, как объективное свойство самого же Одного. Так всегда и было в антично–средневековых системах, пока новоевропейский субъективизм не отнял интеллигенцию у объективного бытия, тем самым превративши его из личностного бытия в механизм, и не отдал ее на пройзвол одной человеческой личности, тем самым придя к ее абсолютизации и обожествлению. Абсолютная мифология не имеет никаких оснований передавать интеллигенцию во власть только подчиненных сфер бытия. Раз она выводит Одно, имеющее абсолютное значение, то это же самое Одно и должно зависеть только от себя, т. е. оно же и должно активно противопоставлять себя иному и самостоятельно производить различения внутри себя, т. е. оно должно быть и абсолютной интеллигенцией.
4. Проведение интеллигенции по всей триаде (тетрактиде): а) первое начало. Теперь мы можем перейти к диалектике интеллигенции в подлинном смысле. Мы ведь определили только голый принцип интеллигенции. Относя интеллигенцию к Одному, мы тем самым относим ее решительно ко всем предыдущим диалектическим категориям, ибо все они есть только неизбежный результат Одного.
Да и самое определение интеллигенции говорит о глубоких различиях, царящих в тетрактиде в отношении к этой интеллигенции. Каждое из четырех начал в силу своей специфической природы характеризуется по–разному, с точки зрения интеллигенции. Рассмотрим тетрактиду с этой стороны.
Первое начало—абсолютное Одно, Одно, вне чего нет ничего, Одно, выходящее за пределы всякого оформления и осмысления. Оно выше смысла, выше сущего, выше различия, Оно—нерасчленимое, нераздельное, неделимое, абсолютная единичность, которую не с чем сравнить и сопоставить и в которой нет никакого очертания и раздельности. И вот, такое Одно есть интеллигенция. Что это значит? Это значит, что Одно выше интеллигенции, что оно не мыслит, не противопоставляет, не самосоотносится. Как раньше мы диалектически требовали, что [бы] Одно [было] выше бытия и сущности, как раньше диалектика мысли требовала немыслимости в качестве необходимого условия для самой мысли, так и теперь, в силу той же самой диалектики, мы должны с абсолютной настойчивостью требовать, чтобы абсолютное Одно было выше интеллигенции, и исповедовать, что сама интеллигенция, чтобы быть, должна требовать сверх–интеллигенции, той абсолютной единичности и единства интеллигенции, где она уже потухает в качестве разветвленной системы и где все предстоит как неразличимое и неотличимое первоединство. Конечно, и здесь мы должны различать сверх–интеллигенцию как абсолютную апофатическую Бездну и как начало интеллигентного ряда.
Интеллигенция есть смысловая активность. Активаность же предполагает множественность или по крайней мере двойство. Двойство, однако, не только не исключает единства, но, наоборот, само–то может существовать только при условии единства. Если две вещи есть нечто, то уже это одно значит, что они предполагают единство, а если единство применимо и к двум, и к трем, и к любому числу вещей, то ясно, что само–то единство вне вещей, т. е. вне отдельных смыслов, а, стало быть, само по себе оно не есть смысл, оно выше смысла и отдельно от него, а следовательно, оно и не есть смысл для себя, не самосоотносится с собою. Так смысл предполагает сверх–смысловое, и интеллигенция предполагает сверх–интеллигенцию. Одно первого начала и есть эта сверх–интеллигенция, оно не есть смысл и не имеет смысловой активности, оно не мыслит. Итак, абсолютное Одно, будучи лишено двойства, лишено мысли.
То же самое можно изложить и в такой форме. Для мышления, или смысловой активности, необходимо мыслимое. Мышление не есть мыслимое, и мыслимое не есть мышление. Тем не менее нет мышления без мыслимого и нет мыслимого без мышления. В мышлении мыслимого мышление принимает на себя смысловую активность мыслимого и мыслимое принимает на себя смысловую активность мышления. Без такого схождения мышления и мыслимого нет ни того, ни другого, ни их единства. Должна быть некая общая точка в мышлении и мыслимом, где оба они—одно, нечто единое, что уже не есть ни мышление, ни мыслимое. Как два яблока суть два яблока только потому, что их объединило единство, которое само по себе уже не есть яблоко, ни одно, ни два, ни несколько, так точно и мышление мыслимого только потому и возможно, что их объединяет некоторое высшее единство, которое само по себе уже не есть ни мышление и ни мыслимое, а сверх–мышление и сверх–мыслимое. Самосоотноситься в отношении смысла, т. е. быть интеллигенцией, возможно только тогда, когда есть этот сверхсущий пункт единства, в котором сливаются и предмет как само [соотносящий, и предмет как результат самосоотнесения. Тут—неразличимая точка одного. И потому первое начало не мыслит. Вернее, та Бездна, которая лежит в основе триединства, не мыслит.
Активность есть не только переход, и мышление есть не только движение. Если нечто движется, то, значит, оно имеет цель и достигает ее постепенно. Поэтому смысловая активность есть не только переход и движение, но и искание. Может ли существовать искание без движения в ту или иную сторону, другими словами, без цели? Даже если «бесцельно» бродить туда и сюда, то все же всегда есть то или иное направление такого бродяжничества. Раз нечто ищется, то не может быть искания просто, а должно быть именно то самое нечто, что ищется, и уж оно–то само не есть искание, оно—цель искания, а не искание. Так и интеллигенция, будучи активностью смысла, предполагает тем самым некую универсальную для всех своих активных устремленностей цель, которая уже не есть искание, т. е. не есть, в частности, мышление. Оно– выше мысли и сверх–смысловое. Одно не мыслит.
Легко соблазниться на этом пути и диалектическое «сверх» понять в смысле натуралистического отсутствия и несуществования. Человек, не штудированный в диалектике, скажет: если нет вашего Одного и если оно не есть тот или иной определенный смысл, то зачем вы говорите о том, что не имеет никакого смысла и никак не существует? Раз его нет, нечего и говорить о нем. Однако так можно рассуждать только при условии отсутствия у себя диалектической школы. Одно не просто отсутствует. Мы уже не раз говорили, что оно есть реальная сила, держащая на себе всю тетрактиду. Быть выше чегонибудь– не значит не быть вовсе. Одно, которое во всех крупнейших и мельчайших своих частях остается все тем же Одним, отличаясь и от каждой части в отдельности, и, следовательно, от общей их суммы, составляющей все, – такое Одно, разумеется, не может ставиться наряду с отдельными частями и со всеми вместе; мы поэтому и называем его «сверх–сущим». Оно не только есть, оно в величайшей степени есть, и, стало быть, с точки зрения отдельных вещей оно уже не есть. Интеллигенция, будучи раздельностью, требует для себя своего абсолютного единства, которое бы во всех отдельных ее проявлениях оставалось решительно одним и тем же. Иначе самая интеллигенция вместо определенного бытия рассыплется на бесконечное количество совершенно дискретных и ни на йоту не сравнимых между собою бесконечно малых предметов и исчезнет как таковая, распылится и уничтожится. Единство держит интеллигенцию, и уж это единство не может быть единством многого. Поскольку интеллигенция есть некая единичность не просто в смысле объединенное, но в смысле именно единичности, она требует сверх–интеллигентного, сверх–сущего единства, которое не мыслит. Активность есть проявление смысла, но сама по себе, взятая вообще и абсолютно, она уже не проявляет смысла, ибо она сама уже есть максимальное проявление смысла. Этот огонь, напр. огонь в печи или огонь спички, жжется. Но это не значит, что огонь, взятый вообще, тоже жжется. Огонь жжется, но понятие и смысл огня не жжется. Так и активность есть некая сила, но смысл активности уже не есть та самая сила, он выше ее. Возьмите теперь всю сумму реальных, мыслимых и возможных смысловых активностей. Получится некая общая универсальная активность, которая сама по себе уже не будет содержать в себе активности, ибо она сама—в величайшей степени активности и уже ни в каком отдельном атрибуте не нуждается. Свет тоже есть некая освещающая сила, действующая в той или в другой мере. Но возьмите свет сам по себе, свет как абсолютную единичность, свет в его абсолютном качестве света, и вы потеряете границу действия света, отделяющую и отличающую его от тьмы, вам не с чем будет сравнить свет, й вы принуждены будете погрузиться в свет так же, как в тьму. Свет только тогда называется светом и осмысливается как свет, когда он отличен от тьмы, т. е. когда в нем самом есть те или иные различия, т. е. та или иная стецень света. Эта разница степеней, т> е. возможность познания и бытия света, предполагает, что есть свет вообще, свет без той или иной степени затемнения, ибо, чтобы быть как–нибудь, так или иначе, надо сначала быть просто. Вот в этом просто бытии уже нет отличия от иного бытия, тут царство абсолютной качественности света как такового. Интеллигенция есть тоже свет и свет, так–то и так–то оформленный и осмысленный. Это значит, что есть интеллигенция вообще, никак не оформленная и никак не осмысленная. Без этой в бесконечной степени сгущенной интеллигенции, или сверх–интеллигентного Одного, не было бы в интеллигенции ничего ни простого, ни сложного; простого—потому что ничего простого самого по себе не существует и всякое простое допускает дальнейшее разделение, уменьшение и, след., упрощение, и сложного–потому что нет ничего простого, из чего бы сложное могло сложиться. Только абсолютное Одно, которое само ни просто и ни сложно, а выше всех этих определений, и может содержать многое в различных степенях его простоты и усложнения; только оно, будучи сверх–сущим, и делает возможной интеллигенцию как нечто сущее, и, следовательно, ее степени. Потому оно и Основа, т. е. Основа и для интеллигенции.
5. Продолжение: b) второе начало. Существенно иную картину в смысле интеллигенции представляет второе начало тетрактиды—Одно, Сущее, Смысл, Форму. Второе начало есть оформление, есть результат осмысления, совокупность всех возможных смыслов, которыми обладает Одно. Отсюда явствует, что интеллигентная характеристика второго начала должна быть противоположна той же характеристике первого начала. Если Одно ничего не мыслит, ни себя, ни иное, то второе начало определенно мыслит только себя, а следовательно, и иное. Тетрактида должна самосоотноситься. Но смысл тетрактиды выражен во втором ее принципе, ибо все остальные принципы по смыслу или шире смысла, или уже его. Значит, именно второе начало в настоящем смысле является носителем самосоотнесенности тетрактиды, т. е. второе начало мыслит и мыслит только себя. Другими словами, именно второе начало является принципиальным носителем интеллигенции. Интеллигенция и есть самосоотнесенный, самосознающий Смысл, или Идея. Всмотримся более детально в характер этой интеллигентной самосоотнесенности.
1. Прежде всего, необходимо яснейшим образом представлять себе, почему интеллигенция, или ум, мыслит только саму себя (а мыслить иное—в диалектическом смысле—значит мыслить себя же, но в определенном оформлении)? Почему ум не может мыслить иное в абсолютном смысле, то, что ни с какой стороны не есть он сам? а) Мыслить абсолютно иное себе—значит иметь в себе не само иное, но лишь частичный образ его. Этот образ или довлеет сам себе и есть определенная, сама в себе завершенная и ни с чем в смысловом отношении не связанная вещь, или же это есть действительно образ, и тогда по самому смыслу своему он содержит в себе отнесенность к предмету, к тому, чего он именно образ. Так как мышление предмета есть мышление именно предмета, а не того или иного образа его, то ясно, что мы можем выбрать только второе условие. Но что значит, что образ предмета отнесен к предмету и связан с ним? Это значит, что образ отражает предмет и подобен ему. Но тут как раз и лежит вся загадка. А подобно В, и В подобно А. Нет и не может быть никакого подобия и сходства, если нет абсолютного сходства между подобными и сходными вещами, хотя бы в каком–нибудь одном мельчайшем пункте. Это нечто совершенно аксиоматическое, и долго разговаривать об этом не стоит. Но тогда мы должны признать, что даже наше реальное знание и мышление повседневной жизни совершается только потому, что есть некоторый пункт абсолютного единства и тождества, объединяющий мыслящего и мыслимое, и что не будь этого пункта, мышление разрушилось бы в одно мгновение. Однако если даже повседневное замутненное мышление таково, то не должно ли быть таковым мышление вообще, то, что является мышлением в себе, то, в чем нет ничего, кроме мышления и осмысления? Если вообще действительность принуждает признать, что мышление отчасти тождественно с мыслимым, отчасти не тождественно с ним, то это значит, что где–то и как–то есть возможность мышлению быть абсолютно тождественным с мыслимым, как, правда, где–то и как–то [есть] также и другая возможность—быть абсолютно нетождественным с ним. Оставивши пока в стороне вторую возможность, мы должны признать, что, поскольку только второе начало есть принципиально интеллигенция и только интеллигенция есть самосознание, – только в интеллигенции, как втором начале, и совпадают мышление и мыслимое.
b) Допустим, что предмет мышления ума находится вне ума, вне интеллигенции. Это значило бы, что часть бытия познается умом, другая же часть не познается им, не осмысливается. Как же это было бы возможно? Раз часть бытия находится вне ума и вне смысла, то, значит, об этой части бытия никто ничего сказать не может и принципиально нечего о ней сказать, ибо малейшее касание до нее мысли и слова уже приобщило бы ее к смыслу и к уму. И если это так, то какой же смысл говорить о предметах мысли, лежащих вне мысли? Получаются знаменитые «вещи в себе», от познавательного и даже причинного соотношения с ними не удалось спастись даже Канту, хотя он и был величайший любитель такого рода конструкций. Одно из двух: или «вещи в себе» действительно вне ума, тогда о них ничего сказать нельзя, включая и то, что они – «вещи в себе», т. е. тогда просто надо уничтожить это понятие и, значит, соответствующий термин; или вы кое–что, хотя бы чуть–чуть говорите об этих «вещах в себе», хотя бы только то, что они суть вне ума и вещей и абсолютно непознаваемы, и тогда вы обязаны признать, что где–то и как–то есть такое сознание, которое охватывает эти «вещи в себе» целиком, где они тождественны с интеллигенцией, или умом, и что только повседневное человеческое сознание находится в таких специальных условиях, которые мешают ему постигать их целиком. Итак, принципиально предметы мысли тождественны с самой мыслью. Только при этом условии они могут в те или иные моменты быть нетождественными. Вне ума нет ума, и, следовательно, некому и нечему судить о том, что вне ума; то же, о чем судит ум, есть только он сам.
с) Если мыслимое находится вне интеллигенции, то интеллигенция, или ум, может встретиться с мыслимым и может не встретиться с ним. Допустимо ли это? Если мы допустим, что ум не встретился с мыслимым, то откуда это ум узнал, что он не встретился с мыслимым? Чтобы это знать, надо предварительно знать, что такое то, с чем ум не встретился, т. е. необходимо уму заранее как–то иметь его в себе. Значит, ясно, что эта возможность уже предполагает полную принципиальную имманентность мыслимого уму. Если же ум встретился с мыслимым, то тут же понял, что он мог с ним и не встретиться, ясно, что такой ум есть частичный ум, ум, не надеющийся на себя, допускающий возможность какогото иного ума. Но если есть частичный ум, степень ума, мыслимо ли, чтобы не было цельного ума где–то и както? Мыслима ли часть без мышления целого, или мыслима ли степень без мышления полноты? Если мы допускаем частичный ум, где предметы отчасти имманентны уму, отчасти вне его, то это может быть только в том случае, если мы допустим безусловное наличие такого ума, все без исключения предметы которого абсолютно имманентны ему самому. Наконец, если действительно часть предметов навеки отделена от ума, то ум, встречаясь с теми или иными предметами, откуда почерпнет уверенность в том, что он встретился именно с такими, а не с иными предметами и что встреченные им предметы суть действительно подлинные предметы реального бытия? Вне ума нет ума. Ум же, по последнему предположению, не охватывает всех предметов. Кто же и как поручится уму, что он встретился именно с тем, а не с этим и что встреченное—истина, а не иллюзия? Или никто ему не поручится, и тогда мы говорим только о частичном уме, что возможно только в предположении абсолютного ума, или ум сам поручится в этом за себя и за истину встречи, тогда это—подлинный ум и встреченное им– он же сам и есть и имманентно ему.
[d]) Коли мыслимое вне мыслящего, то это значит, что истина—вне ума. Это значит, что есть истина, о которой ум ничего сказать не может и которая поэтому не содержит в себе никакого смысла. Равным образом это значит, что есть ум, который ничего не содержит в себе истинного, ибо то реальное, что есть, им не охватывается, и он принужден жить сам собою, сам из себя извлекая бытие и истину. Другими словами, если ум вне истины и истина вне ума, то нет ни ума, ни истины, ни их объединения. Допустить, что мыслимое хотя бы отчасти вне ума, – это значит признать, что нет совершенно никакой истины и нет совершенно никакого ума. А если истина хотя бы на йоту осмыслена и утверждаемый смысл хотя бы на йоту реален—это значит, что все спасено, что истина вся насквозь осмыслена и сама есть ум и ум весь насквозь реален и есть истина сам.
е) Интеллигенция, или ум, мыслит себя потому, что больше нет ничего, что можно было бы мыслить, ибо мыслить иное—это также значит мыслить себя, только с прибавлением оформления и точнейшего разграничения. Неправда субъективистических теорий знаний заключается не в имманентизме как таковом, а в узости субъекта, который им известен, в самоослеплении и самоотсечении от бесконечных просторов бытия вообще. Признавая в качестве действительного бытия маленькое и узкое сознание среднего человека, эти теории, проводя по существу правильный имманентизм, приходят к тому, что весь мир и все бытие мыслятся вмещенными в это узенькое человеческое сознание и даже порожденными им. Истина была бы достигнута тогда, если бы перестали думать о человеческом субъекте и вообще о всяком субъекте и начали бы строить диалектику интеллигенции вне какого–нибудь определенного субъекта. Только немногие теорий доходят в настоящее время до идеи высвобождения понятия сознания от понятия субъекта, и только такие теории и достигают полной независимости философии от метафизики и определенного вероучения. Мы должны сначала дать феноменологию и диалектику интеллигенции, или ума, как они суть сами по себе, а уж потом наполнять их тем или иным опытно–мифологическим или метафизическим содержанием, если в этом есть потребность. Однако, как только мы отбросим понятие субъекта, истина имманентизма выводится сама собою и сам собою формулируется тезис о возможности познавания умом только самого себя. Мы построили диалектическое понятие смысла и диалектическое понятие интеллигенции. Ведь нет ничего, кроме смысла. При таких условиях к чему же еще можно для смысла интеллигентно относиться, кроме как к самому себе? Отсюда можно формулировать и такое необходимейшее для всей теоретической философии утверждение: диалектика требует антисубъективистического имманентизма (мыслимое имманентно уму и есть сам ум, но ум–то не есть субъект), и диалектика требует самосознания ума, или интеллигенции, но это самосознание ума и есть объективность осмысленного бытия вообще.
Итак, второе начало тетрактиды в смысле интеллигенции есть абсолютное самосознание и ни в какой мере не есть сознание чего–нибудь иного, кроме него самого.
2. Обратим теперь внимание на характер этого самосознания, или самомышления.
а) Прежде всего это самосознание есть нечто абсолютно адекватное. Оно ни в какой степени не может быть вероятным, возможным или гадательным. Это с непосредственной очевидностью вытекает из предыдущих рассуждений. Всякая гадательность или неуверенность предполагает неполноту ума, а неполнота ума предполагает неполную имманентность мыслимых предметов уму, а эта последняя ведет к уничтожению и ума, и истины. Интеллигенция может быть только абсолютной интеллигенцией и абсолютно адекватным самосознанием. Смысл мыслит себя. В нем нет ничего, кроме него самого, и ничего иного, если бы оно и было, мыслить нельзя. Значит, смысл мыслит только себя, и нет никаких моментов, которые бы нарушили эту адеквацию. Другое дело—наше чувственное знание и мышление. Тут мы мыслим далеко не только себя, но мыслим еще и иное кроме себя. Однако принципиально это не есть мышление иного, а только сокращение мышления самого себя, т. е. сокращение мышления вообще. В последующем мы увидим, как диалектика научит нас связывать сокращение и уменьшение мысли с переносом смысла на иное и с противостоянием субъекта и объекта. В настоящее же время мы говорим не о сокращенном мышлении, не о степенях или количествах его, но о полноте его, об абсолютной самодовлеющей полноте его. И вот тут уже не может возникнуть вопроса ни о переходе в иное, ни о противостоянии субъекта и объекта, ни о коренной причине всего этого—уменьшении мышления и мысли. Следовательно, не может возникнуть вопроса и об адеквации. Здесь—абсолютная адеквация и абсолютная самопрозрачность смысла. Смысл насквозь и до конца, навеки и нерушимо явлен сам себе, и нет ничего такого, что могло бы хотя бы на волос нарушить эту интеллигентную адеквацию. Допустить нарушимость хотя бы на волос можно было бы, только погрузивши все и вся в абсолютное сумасшествие, да и это последнее, впрочем, возможно только при условии абсолютности самопрозрачной интеллигенции.
b) Далее, интеллигенция есть абсолютно непосредственное самосознание и самомышление. Ум имеет свое знание о себе без всякого посредства и без всякой задержки—по тем же самым основаниям, какие приводились выше. Всякая задержка уже говорила бы о неполноте, об усилии, о препятствиях на пути сознания. Здесь понадобилось бы нечто совершенно иное, что мешало бы уму быть умом, и только в этом случае можно было бы говорить о задержке и, след., посредстве. Ум знает себя без всяких выводов и доказательств, ибо то и другое предполагает процесс, а ум дан сам себе сразу, во мгновение ока, и сразу весь целиком. Вся доказательность, вся построенность и смысловая система дана сама себе сразу целиком и непосредственно, и не может быть такого состояния ума, что одна часть его дана ему сразу и непосредственно, другая же дается постепенно и с усилием с его стороны. Поэтому лица, привыкшие к формальнорационалистической терминологии, с трудом поймут все своеобразие этой непосредственной самоданности. Ум дан сам себе непосредственно: он видит себя так, как мы видим своими живыми глазами реальную вещь. Это есть зрение, созерцание, видение, точнее, увиденность, узренность, самопрозрачность.
Однако с понятием зрения мы обычно соединяем указания на ощущение, на отсутствие мышления в собственном смысле этого слова. «Научная психология» и обыденный опыт бездной разделяют мышление и ощущение; одно выставляется как опосредственно–выводное, другое—как непосредственно–интуитивное и очевидное. К уму, или интеллигенции, такое понимание зрения (как ощущения) оказывается неприменимым, ибо тут не отсутствие мысли, а настоящее и единственное царство мысли; только тут мысль и есть, больше нигде ее нет. Поэтому мы должны назвать интеллигентную самосоотнесенность не только видением, точнее, самоувидением, самоузренностью, но и мышлением, самомышлением, и, таким образом, в сумме мы обязаны говорить об умном вйденйщ—единственно допустимой форме проявления интеллигенции. Ум видит, но он видит изнутри все смысловые связи, из которых он сам состоит. Это не вйдение вне–мысленного, чувственного, или в том и другом отношении затемненного света смысла, то вйдение смысла как он есть, во всей его полноте и всеохватности. Вйдение смыслового предмета, самовидение смысла, самосозерцание интеллигенции, я бы сказал, умное осязание смысловой изваянности интеллигенции—основание всех иных состояний и степеней интеллигенции, и если здесь мы не утвердим этого умного осязания идеи, то уже больше нигде не найдем места, в котором можно было бы об этом говорить. Ум проявляет себя тем, что умно осязает свою смысловую изваянность.
с) Из всех этих рассуждений вытекают весьма важные дальнейшие выводы относительно характера интеллигентного самосозерцания. Если ум дан себе самому непосредственно, и притом сразу весь целиком, то, значит, нет в нем ни одного момента или элемента, где не было бы ума и где он не был бы дан себе самому. Каждая часть ума мыслит как весь ум и знает весь ум и мыслит от лица всего ума, хотя в то же самое время она и отлична от всего ума, взятого в целом. Вспомним основные категории, царствующие во втором начале. Это были прежде всего тождество и различие. Так вот каждый элемент ума есть, во–первых, весь ум целиком, тождествен с ним и самосознает от лица цельного ума. Во–вторых, одновременно и неукоснительно одновременно каждый элемент отличен от цельного ума, действует от своего лица и как таковой вступает во взаимоотношение с другими элементами. Таким образом, йет никакой разницы в умственности в пределах ума, и всякая часть его необходимейшим образом несет на себе весь ум целиком, и в то же время это не только мешает тому, что [бы] каждый элемент отличался от другого элемента в пределах ума, но только благодаря этому различию и оказывается возможным. Смысловая активность везде одна и всегда разная. Смысловое изваяние ума везде одно и самотожественно, и оно же потому и есть изваянность, что по всему ее пресветлому смысловому телу осмысленность дана по–разному, и нет в нем ни одной точки, которая была бы тождественна с какой–нибудь другой точкой. Часть и целое—понятия иллюзорные. Впрочем, точнее и определеннее можно сказать, что эти понятия могут получить свой смысл только от диалектики, т. е. стать антиномическими. Будучи же употреблены в абсолютном смысле, т. е. так, как их понимает повседневный опыт, они иллюзорны и требуют исключения.








