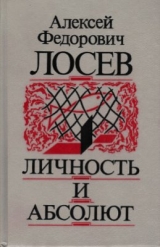
Текст книги "Личность и Абсолют"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 54 страниц)
Все эти рассуждения достаточно ярко рисуют значение имен в Библии, по Хейтмюллеру. Протестантская узость, как это совершенно очевидно, помешала ему увидеть непроходимую бездну, лежащую между христианским и языческим пониманием имени. Однако он правильно изобразил то общее, что между ними имеется. Имя там и здесь есть живая реальность, разумно и явленно представительствующая носителя этого имени. Пусть для протестанта и атеиста это есть суеверие и пустая фантастика. Все равно, рассуждая имманентно к самой религии, мы должны утвердить полное тождество имени и именуемого. И Хейтмюллер привел для этого более чем достаточный материал.
5. Среди русских Исследований библейских имен обращает на себя внимание работа архим. Феофана «Тетраграмма, или Ветхозаветное божественное Имя». СПб., 1905. Книга содержит пять глав—1) произношение тетраграммы, 2) значение тетраграммы, 3) происхождение тетраграммы, 4) древность тетраграммы и 5) употребление тетраграммы в библейских ветхозаветных книгах. Это исследование построено на большом филологическом аппарате и представляет значительный интерес. Я остановлюсь, согласно основной теме моей работы, на второй и пятой главах, хотя остальные главы, касаясь на первый взгляд частных вопросов, также имеют огромное принципиальное значение.
В главе о значении тетраграммы автор устанавливает два основных вопроса, могущих интересовать исследователя библейских имен, – этимологический и богословский, причем безусловно необходимо поставить их во взаимную связь. Что касается первого вопроса, то, по мнению автора, он удовлетворительно разрешен, как это и принимается многими исследователями, местом Исх. III, 14: «Я есмь Сущий… Так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам». Здесь тетраграмма поясняется (в еврейском тексте) глаголом «быть», взятым в форме kal во втором аористе. [819]819
Т. е. в форме «хайа» (ивр.)—«[он] был», от глагола «лихъёт» – быть (глагольная порода «Каль»). См.: Феофан, архим. Тетраграмма… С. 36.
[Закрыть]Однако это ясное понимание этимологического смысла тетраграммы оказывается неясным для многих ученых, исходящих из тех или других произвольных философских предпосылок. Именно, многие ученые во что бы то ни стало хотят найти в корне этого имени чисто натуралистическое значение. У одних на основании определенных этимологических сближений первым признается здесь значение «дышать», «дуть». Другие выставляют значение «светить», «падать», причем Божество представляется тут то светящимся небом, то «атмосферической бурей в виде вихревого урагана или низвергающихся с неба на землю дождей, молний и громов». Этимологией дело у этих ученых, конечно, не завершается. Говорят, что Библия—книга не философская, но жизненно–религиозная, что тут вообще много физических представлений (напр., представление славы Божией под образом света). Остается признать, что все эти значения не переносные, а совершенно прямые, и натуралистическая филология получает оправдание и историко–религиозное [820]820
Тетраграмма.., 36—39.
[Закрыть]. Подвергнуть критике подобный натурализм не трудно. Он основан на произвольном учении о том, что конкретное обязательно совпадает с материальным, а рациональное—с духовным. Это ошибка. «Именно, тогда как материальное и духовное означают самые познаваемые предметы, конкретное и рациональное характеризуют только способы познания предметов. И очевидно, что [к] каждому из двух видов бытия одинаково применимы оба способа познания. В соответствии с этим и филологическое наблюдение, о котором идет речь, имеет совсем не предметное, а лишь гносеологическое _значение. Из него следует только то, что в истории человеческого познания конкретный образ познания предшествовал рациональному, а не то, чтобы понятия о духовном явились позже понятий о материальном». Если и допустить в качестве первоначального значения тетраграммы какое–нибудь чувственное значение, то это лишь усложняет ее исходное значение, так как соответствующие образы приходится понимать переносно, а не буквально, а вовсе не уничтожает более духовного значения («быть», «существовать») [821]821
Ibid., 39—42.
[Закрыть].
Гораздо серьезнее другая сторона этимологического вопроса, это—о грамматической форме имени. Даже если признать, что основным значением является тут esse, то вопрос о форме остается все же очень важным. До сих пор общим мнением было, что Jahveh есть Kal imperfectum [822]822
Здесь и далее: «Каль», «Пиэль», «Гифиль» – глагольные породы в иврите, различающиеся, в частности, по степени активности действия.
[Закрыть]. В настоящем столетии выдвинута другая теория, видящая тут Hiphil imperfectum (т. е. каузативную форму, придающую средним глаголам действительное значение).
Еще в 14 и 17 вв. было высказано пиельное понимание: вместо «абсолютно–сущего» тетраграмма означает тут, следовательно, «виновница бытия». В настоящее время каузативное понимание тетраграммы получило дальнейшее развитие. В связи с новыми теориями произношения тетраграммы пиельная форма заменилась гифильной. Вопрос ставится главным образом относительно приставки ja, которая характерна именно для гифидя. Характерной приметой кальной формы является Д так что если тетраграмма была бы каль, то она читалась бы Jihveh, а не Jahveh. Гифильная форма, думают, более соответствует жизненному отношению древнего Израиля к религиозным предметам. По Фюрсту, тут значение «дарователя бытия, призывающего к бытию, творца»; по Шрадеру – «жизнеподатель». Αρχ. Феофан полагает, что, несмотря на общую важность отрицания абстрактных построений в истории теории религии, теория гифильного понимания тетраграммы не выдерживает критики. Эта теория основана на том, что абсолютное не может быть конкретным и жизненным само по себе. Конкретная жизненность может быть сохранена и в кальном понимании. Что же касается кального Д то некоторые ученые (Wright, Barth) полагают, что оно вовсе не есть первоначальная форма, а только вторичное видоизменение первоначального ja, как это видно из арабского языка. Таким образом, есть все .основания допустить, что это есть не гифильная, а древняя кальная форма. Кроме того, автор указывает на то замечательное явление, что ни в библейском, ни в талмудическом языке, ни в языке сирийском гифильная форма от глаголов, входящих в тетраграмму, совершенно не употребляется, являясь продуктом поздней книжной словесности, а не живой исконной. Таким образом, кальное понимание, по всей вероятности, имеет все преимущества перед гифильным. [823]823
Ibid., 43—51.
[Закрыть]
Однако одно этимологическое исследование не может исчерпать всего вопроса о значении тетраграммы. Его необходимо дополнить более внутренним, богословским исследованием, для которого этимологическое является только остовом. – Тут ярко обозначились два направления. Одно, старое, господствовавшее до 18 в., можно назвать субстанциальным. «Тетраграмма при этом понимании рассматривалась как имя абсолютной божественной сущности в отличие от условно ограниченного бытия тварного». Выдвигалась самопричинность и, следовательно, самобытность этого Божества, или же неизменность и вечность. Другое понимание—относительное, одними из первых защитников которого явились Гуссет и Крузий (Ί767). По мнению Гуссета, известные хоривские слова [824]824
Т. е. слова, сказанные Богом Моисею на горе (или у горы) Хорив (Исх. 3, 14).
[Закрыть]нужно понимать так: «Я буду, чем Мне следует быть», т. е. «проявлю Себя в свое время в известном отношении к человечеству». Другими словами, по Гуссету, здесь имеется в виду воплощение Бога Слова, почему вместо исконного «сущий» (о ων), которое находим еще у LXX [825]825
LXX—обозначение греческого перевода Библии, Септуагинты, т. е. перевода 70 толковников (точнее, 72) III—II вв. до н. э.
[Закрыть]в Исх. III, 14, тут надо читать «грядый» (о ερχόμενος), подобно Марк. XI, 3; Апок. I, 4, 8; IV, 8. Феофан говорит, что, хотя само по себе указание на воплощение очень естественно, тем не менее в самой тетраграмме оно вовсе не выражено в сколько–нибудь ясной форме. Гуссета исправил Крузий [826]826
Здесь имеется в виду следующая работа Крузия: Crusius Ch. Α. Abhandlung von der wahren Bedeutung des Namens Jehovah. Leipzig, 1767 (S. 50—51, 57—59).
[Закрыть], по которому тут имеется в виду не воплощение, а домостроительство вообще, что в общем ничего нового не вносит. Робертсон Смит утверждает, что хоривское выражение значит «Я буду, чем Я буду», так что тут, по нему, имеется в виду не самотождественность и самоопределяемость, но вседовлеемость Божества. Эти и подобные «относительные толкования» основываются исключительно на произвольных допущениях и оказываются висящими в воздухе. Необходимо поэтому, говорит Феофан, вернуться к субстанциальному пониманию тетраграммы [827]827
Ibid., 51—59.
[Закрыть].
Вернее, рассуждает исследователь, нужно говорить не о субстанциальном понимании, но о таком, где нет ни просто субстанциального, ни просто относительного. «Здесь не может быть ни просто относительного, ни просто субстанциального, или безотносительного, бытия, но существует одно живое личное божественное бытие, проявляющееся в известных отношениях к человеку, хотя далеко не исчерпывающееся этими отношениями. Такое понимание лучше всего назвать субстанциальным, но не в том одностороннем понимании субстанциальности, которое исключает отношение, а в том истинном, которое, напротив, предполагает, оправдывает и обосновывает эту относительность.
По всему сказанному, истинное значение тетраграммы будет то, что абсолютное в ней определяется не как бытие абстрактно–метафизическое и не как простое отношение, а как субъект, проявляющийся в отношении, т. е. как Бог Сущий». В таком понимании две стороны– формальная и материальная.
«С формальной стороны бытие Божие является совершеннейшим в том отношении, что это есть бытие абсолютно личное, в себе самом имеющее и основание и цель бытия. Выражение этой истины в тетраграмме засвидетельствовано хоривским изъяснением тетраграммы. Много рассуждали и рассуждают о значении этого места; но истинный смысл его составляет, как нам кажется, самоутверждение Богом Себя как абсолютной личности. «Я есмь, Который есмь», т. е. Я имею бытие независимо ни от чего, Сам в Себе, и в нем самоопределяюсь так же независимо ни от чего, исключительно Сам Собою. В этом общем определении Бога как Сущего в качестве необходимого содержания implicite заключаются все те свойства божественного бытия, которые обычно различными экзегетами выдвигаются поочередно и разрозненно: самопричинность, неизменность, свобода, самотождественность и т. д. Каждое из таких частных определений божественной личности, конечно, справедливо, поскольку в основание определения здесь полагаются действительно элементы личного бытия; но полной истины ни одно из них в отдельности от остальных не выражает. Эту истину дает нам только представление цельной личности божественной. Естественный ум языческий не поднялся до этой великой идеи. Здесь Божество или пантеистически сливается с миром и, лишенное сознательной разумной самоопределяемости, развивается по законам космической необходимости, или если представляется лично, то самая личность берется антропоморфно и антропопатически, со всеми чертами человеческой ограниченности и греховности. Бога как истинно сущего самостоятельного существа здесь не было; был лишь обожествленный космос или человек. Только наиболее сильные философские умы разрывали эти роковые путы языческого ума, но и то лишь отчасти. До чистого понятия абсолютной живой личности истинно Сущего Бога не дошел ни один из них, не исключая и Платона».
«Но помимо формальной стороны бытие Божие можно рассматривать и со стороны материальной. По этой стороне бытие Божие есть жизнь истинная, чистая, полносовершенная, какой только и свойственно в самом точном смысле наименование жизни. Нужно заметить, что уже в Ветхом Завете понятие жизни берется в двух значениях. Прежде всего оно употребляется здесь в общем смысле существования. Но наряду с этим общим существует и другое, более частное понимание жизни. От общего оно тем отличается, что в него входит элемент идеальный. Это не вообще существование, какое представляет обычная действительность, а существование благополучное, жизнь благая. Причем самое это благополучие неизбежно мыслится не как естественное благо, а как благословение Божие». «К этому выводу успела прийти и западная мысль, в частности Dr. Kleinert (Theologische Studien und Kritiken. 1895. Zur Idee des Lebens im Alten Testament, S. 693—732). В тетраграмме, по убеждению этого автора, выражается бытие божественное не «пустое», а «полножизненное». И хотя по чисто филологическим соображениям понятие «жизнь» не может быть выведено из понятия «бытие», но по действительному употреблению этого последнего в ветхозаветном воззрении в приложении к Божеству оно, несомненно, содержится в нем. Автор признает при этом, что в данном случае понятие «жизнь» имеет «специфическое» значение (704—705, 714—715).
«Так естественно в библейском воззрении с представлением Бога как Самосущей личности связывается представление Его и как Строителя человеческого спасения» [828]828
Ibid., 63.
[Закрыть].
Наконец, с точки зрения истинного значения тетраграммы интересным оказывается сравнение ее с другими библейскими именами Божиими.
До торжественного провозглашения тетраграммы как собственного для Ветхого Завета имени Божия у евреев были еще имена Е1 и Elohim. El обозначает Бога как всемогущего. Относительно Elohim до последнего времени думали, что оно совершенно независимо от Е1, причем основным его значением являлось «значение существа достопоклоняемого, составляющего предмет благоговейного почитания для человека». В последнее время стали думать, что это одно и то же слово, с тем различием, что Е1 имеет общесемитское значение, Elohim же есть позднейшее, специально еврейское. Различие это едва ли существенно с точки зрения значения. Что же касается специально Elohim, то наиболее интересно тут то, что это слово по–еврейски множественного числа. Ученые не замедлили на этом основании приписать древнему Израилю черты политеизма, что, конечно, в корне против воречит всему библейскому вероучению. Употребление множественного числа вместо единственного : —вообще довольно частое явление в еврейском языке. «Божество в Elohim мыслилось в патриархальную эпоху не просто как сила, но как полная богатым содержанием сила, как сила, способная проявить себя и действительно проявляющая себя в самых разнообразных деятельностях». [829]829
Ibid., 43—70.
[Закрыть]Однако одна филология тут мало помогает. Надо привлечь и весь историко–религиозный контекст. Если прибавить к этому еще третье основное имя Божие в Библии, El Schaddaj, то можно сказать следующее.
«В общих чертах различие это между обоими именами можно формулировать таким образом, что как Elohim есть Бог природы, так Бог Откровения есть Бог благодати. Elohim—Бог, Творец всего существующего и Промыслитель о всем существующем, не исключая и человека по той стороне его существования, которую можно охарактеризовать термином космического благобытия. А Бог Откровения—это Бог благодатной жизни, исторически воспитывающий человека для непосредственного личного его общения с Собою. В силу особенных исторических обстоятельств Бог Откровения временно должен был стать Богом только евреев. Но, как Elohim, Он и в Ветхом Завете не переставал быть Богом и язычников. Несмотря на своевольный выход язычествующего человечества из сферы откровенно–исторического божественного водительства, Он никогда не переставал помышлять о нем. Творец и Владыка мира, от одной крови произведший весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, Он назначил для всех народов земли определенные времена и пределы обитания. За все время существования язычества Он хотя и попускал языческим народам ходить своими путями, однако не переставал свидетельствовать им о Себе благодеяниями. Этими благодеяниями Он обеспечивал прежде всего физическое существование язычников, подавая им с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца их. Но сверх физического благобытия Он промьнплял и о религиозно–нравственном развитии языческого мира, был для него светом, которого никакая тьма не могла объять. Исторические судьбы всех языческих народов у Него в конце концов премудро рассчитаны на пробуждение в каждом из них потребности непосредственного общения с Живым Богом, Который, в сущности, недалек от нас, хотя мы этого до озарения благодатного и не замечаем (Деян. Απ. XIV, 16—17. XVII, 24, 26—28; Иоан. I, 4—5). Не отвергнутые совершенно Богом, язычники, однако, все же были отчуждены от жизни Божией (Ефес. IV, 18). И это отчуждение их от жизни Божией продолжалось до самого сошествия на землю Сына Божия, когда только они и вышли из сферы чисто космического промышления для вступления в новую, высшую сферу промышления благодатно–домостроительного.
Из сказанного видно, что рассматриваемые в свете целостного библейского мировоззрения имена божественные Jahveh и Elohim обозначают две особые сферы Божественного мироправления—regnum gratiae и regnum naturae. Исторически познание Бога в качестве Владыки природы, как доступное для всякого человека, не утратившего живое чувство Бога, бесспорно, характеризует Богопознание уже самых первых времен патриархального периода. Между тем познание Бога в свойстве Бога блйгодати, по ясному свидетельству Исх. VI, 3, начало прививаться к религиозному сознанию ветхозаветного человека лишь с наступлением синайского периода, в частности с выходом евреев из Египта. В таком ходе Богопознания сказывается педагогический характер откровения, сообразующегося с восприемлемостью человека. В силу этого же начала исторической педагогии, самое сотериологическое познание начинается не непосредственно за космическим. Но оба они посредствуются промежуточным познанием, постепенно вводящим религиозное сознание человека из сферы космической в сотериологическую. Это промежуточное познание есть познание Бога в свойстве El Schaddaj. В свойстве El Schaddaj Господь являлся только трем патриархам—Аврааму, Исааку и Иакову—ограничение, ясно свидетельствующее о посредствующем значении выраженной в этом имени деятельности Божественной.
El Schaddaj, собственно, значит: Бог всесильный или могущественный. Филологически, таким образом, имя это не выражает ничего нового сравнительно с Е1 и Elohim. Но не нужно забывать, что филологический анализ открывает нам лишь основную схему значения, без живого содержания. Для раскрытия последнего необходимо с филологической почвы перейти на почву библейского словоупотребления, и именно древнего, так как здесь всегда с большей яркостию выступает первоначальное значение имен. Богословское значение имени Е1 Schaddaj на основании употребления его в книге Бытия (Быт. XVII, 1. XXVIII, 3) можно формулировать таким образом. Божественные имена Elohim, El Schaddaj, Jahveh служат для обозначения трех ступеней ветхозаветного Богооткровения и Богопознания. Бог, как Творец мира, дал бытие природе и, как Промыслитель, непрестанно промышляет о ее существовании. Цель Божественного творчества и промышления заключается, однако, не в самой природе как таковой, а в основании на земле царства благодати. И вообще по свойству развития тварного бытия это устроение царства благодати не могло произойти в кратковременный перйод времени. Но особенно это стало невозможным после грехопадения, вследствие которого союз между природой и благодатию нарушился. Требовалось потому прежде самого начала устроения царства благодати некоторое предварительное подготовление природы для служения целям благодати. И когда это подготовление—в той мере, в какой оно необходимо было для божественного промышления, – осуществилось, положено было наконец начало и устроению самого царства благодати. Таковы главнейшие моменты ветхозаветного исторического домостроительного Божественного промышления о роде человеческом. И все они получили выражение в соответствующих именах Божественных. Выражаясь образно, можно именно сказать, что как Elohim Бог создал природную почву, как Е1 Schaddaj—мощно взбороздил ее и посеял на ней семя обетования, а как Бог Откровения—возрастил это семя до расцвета и плодоприношения. Завет с Ноем и потомством Ноя заключается во имя Elohim'a, так как представляет собою ближайшим образом восстановление нарушенных потопом творческих порядков. Завет с патриархами—Авраамом, Исааком и Иаковом ставится во имя El Schaddaj, так как имеет в виду подготовление поврежденной и преходящей природы для основоположения в ней нового, святого и заключающего в себе зачаток вечной жизни царства благодати. А завет с целым израильским народом утверждается уже именем Бога Откровения, так как существенное его содержание составляет самое основоположение и осуществление царства благодати до последнего его завершения в царстве славы». [830]830
Ibid., 72—75.
[Закрыть]
Таково содержание второй Главы исследования архим. Феофана. Что касается пятой главы, где дан анализ употребления тетраграммы и других имен Божиих в Библии, то для нас она тоже имеет некоторый смысл. Я не буду говорить о различных теориях (излагаемых у Феофана), связывающих вопрос о происхождении ветхозаветных книг с вопросом об употреблении этих имен в тех или иных книгах [831]831
Ibid., 168—179.
[Закрыть]. Но очень интересно, как вышеприведенная характеристика тетраграммы и имени Элогим оправдывается на фактическом употреблении их в разных контекстах. Здесь Феофаном рассмотрены все основные тексты Ветхого Завета. Для нас достаточно лишь несколько примеров, начиная с книги Бытия.
«С I, 1 до И, 4 у бытописателя [832]832
Т. е. в Книге Бытия.
[Закрыть]излагается история происхождения мира, которая, как характеризующая творческую деятельность божественную, есть история общебожественного свойства, и потому здесь употребляется имя Elohim. Имя Иегова выступает у бытописателя лишь со II, 4, так как, собственно, отсюда начинается история человечества, к которой и может только в данном случае относиться деятельность божественная домостроительная. До падения прародителей Иегова здесь (II, 4—25) является как Бог живой, любвеобильный, заботящийся о благополучии первых людей; а после падения (III, 8—24)—как Бог правосудный, карающий грех, и в то же время как Бог милостивый, дающий людям надежду на будущее спасение. Перед Иеговой проходит и последующая история падшего человечества. Он видит братоубийство Каина и карает его (IV); видит растление допотопного человечества на земле, которое за это и присуждает к истреблению потопом (VI—VII). Он же после потопа превратному направлению жизни нового человечества, выразившемуся в строении башни Вавилонской полагает предел чрез смешение языка (XI, 1—9). Везде здесь употребляется имя Иегова, так как дело идет об истории человека, над которой назирает око Бога, промышляющего о спасении человека.
Но как для обозначения особенного провиденциально–исторического отношения Бога к человеку здесь употреблено имя Иегова, так имя Elohim служит здесь для характеристики творческого и общепромыслительного отношения Божия ко всему миру. Мы видели, что уже в рассказе о творении мира и человека вполне основательно с указанной точки зрения Бог является как Elohim. Но особенно ясно можно проследить характер имени Elohim как означающего общепромыслительную деятельность божественную в отличие от провиденциально–исторической в истории потопа в связи с последующим за ним послепотопным благословением. В этой истории (VI, 9—IX, 17) употребляются два имени божественных Иегова й Elohim попеременно. Употребление их здесь обращает особенно внимание экзегетов и положительного, и отрицательного направления. Критика находит для себя здесь одно из самых убедительных мест в пользу теории записей. Но с указанной точки зрения употребление имен в значительной мере становится понятным и без критических предположений. Прежде всего в возвещении божественном Ною, имевшем место до потопа и относительно последнего, ясно можно различить два особых обращения. В первом из них (VI, 12—22) дается общее распоряжение о мерах, необходимых для сохранения от потопа как Ноя с семейством, так и представителей мира животных, следовательно, всего живущего на земле. В этом отделе действует Elohim, очевидно, как Владыка, промышляющий о сохранении всей твари. Во втором обращении (VII, 1—5) дается новое распоряжение Ною уже от лица Иеговы. Выбор имени в данном случае обусловливается тем, что новое распоряжение божественное касается не всего живущего на земле, но специально Ноя с его семейством, являющегося здесь в качестве носителя высших традиций человеческой истории. Здесь Бог праведный, надзирающий за ходом человеческой истории, повелевает Ною войти с семейством в Ковчег, так как Он увидел его праведным в роде сем (VII, 1). Правда, сюда же присоединяется еще распоряжение о сохранении зверей. Но это уже не общепромыслительное распоряжение Elohim'a, пекущегося о сохранении всякой жизни на земле. Здесь берутся во внимание, собственно, только звери чистые, т. е. такие, которые предназначались специально для жертвенного употребления в теократическом культе (ср. VIII, 20). Ной исполняет это повеление Иеговы (VIII, 5). Если затем дважды (VIII, 9, 15) говорится об исполнении Ноем того, что заповедал ему Elohim, то употребление имени Elohim здесь обусловливается тем, что в обоих этих местах речь идет об исполнении общего божественного распоряжения о введении в ковчег и людей, и всех зверей, как чистых, так и нечистых в смысле VI, 22 (VII, 14—15). После того как Ной вошел в ковчег, за ним затворяет дверь Иегова (VII, 16). Последнее действие у бытописателя приписывается Иегове, а не Elohim'y, поскольку в нем он усматривает действие Бога милостивого, любвеобильного, в силу Своей любви нисходящего к людям ради их спасения. При описании конца потопа (гл. VIII) сначала имеются в виду все живые существа, бывшие с Ноем в ковчеге. Поэтому вполне естественно употребляется имя Elohim, когда говорится, что Elohim вспомнил Ноя и всех зверей, которые были с ним в ковчеге, и навел Elohim ветер на землю (VIII, 1), точно так же, когда вода спала, Elohim повелел выйти Ною из ковчега со всем семейством и со всеми зверями (VIII, 15). Но затем, по выходе из ковчега, Ной создает жертвенник Иегове, на котором приносит Ему жертву (VIII, 20). Иегова принимает эту жертву Ноя и дает обещание не наводить более потопа на землю (VIII, 21—22). Здесь употреблено имя Иегова, так как имеется в виду отметить молитвенное обращение Ноя к живому, личному Богу Откровения и ответ на него со стороны Бога как Строителя именно человеческой истории, входящего потому в живое общение с человеком в целях провиденциально–сотериологических. Но в гл. IX уже Elohim переносит творческое благословение на Ноя и его сыновей (IX, 1—4), обеспечивает сохранение и увеличение рода человеческого запрещением смертоубийств и заключает завет в лице Ноя со всем его потомством, что Он не будет более уничтожать потопом все живые существа мира (IX, 5—17). Все это делает Elohim, так как этот завет не относится ко спасению человечества прямо, а только к поддержанию его естественной жизни наряду со всеми прочими тварями и, следовательно, есть акт не домостроительного промышления божественного, но общего промысла, устрояющего естественный порядок мировой жизни. Таким образом, у бытописателя весьма последовательно выдерживается основной характер имен Иегова и Elohim в изложении первой стадии божественно–сотериологической деятельности в мире». [833]833
Ibid., 183—186.
[Закрыть]
На этом можно закончить изложение интересующих нас рассуждений из работы архим. Феофана. Однако то, что я здесь привел, будучи важно для моего исследования, не есть центр самого труда. В этом труде много очень ценных филологических соображений, имеющих отнюдь не просто чисто абстрактно–научное значение. Такова, напр., вся первая глава или ряд «приложений». Но было бы совсем неуместно излагать здесь все эти филологические разыскания.
По поводу изложенного анализа тетраграммы я сделал бы только одно замечание. При всей глубине, обстоятельности и верности общебиблейскому вероучению анализа тетраграммы у Феофана бросается в глаза отсутствие у него специально философской точки зрения на предмет. Тетраграмма обрисована как результат некоего недифференцированного религиозного сознания, несмотря на то что под нею кроется также и весьма определенная философская конструкция. Нельзя ссылаться на то, что Библия есть религиозная литература, а не философский трактат. Ведь исследования библейской «теологии» очень обычны. Если можно на основании библейских текстов строить целое учение об ангелах, если можно говорить о космологических и антропологических представлениях Библии, то, конечно, можно построить совершенно точное философское учение и о тетраграмме, систематизируя и интерпретируя многочисленные тексты, сюда относящиеся. Феофан совершенно не ставил себе такой задачи, почему все его исследование носит или чисто филологический, или опытт но–оелигиозный характер, но не философский и, пожалуй, не вполне и богословский. Кроме того, и в религиозном отношении задача здесь весьма сужена. Тетраграмма трактуется как обозначение Божества, причем вся сила ударения поставлена именно на самом Божестве, на том предмете, который этой тетраграммой обозначается. В Библии же это является только одной стороной дела. Тут огромную роль играет самое обозначение, которое к тому же едва ли имеет только буквенную природу. Тетраграмма есть некое премирное явление Божертва, сходное, напр., с Шехиной (Славой) или Светом существа Божия. Интересно уже не только с философской, но и с историко–религиозной точки зрения (на которой стоит сам Феофан) узнать, в каком же отношении так понимаемая тетраграмма находится к существу Божию. Это—огромный вопрос. И огромное количество Библий, которыми исследователь располагает на эту тему, способно дать самый точный ответ на этот вопрос. К сожалению, все это отсутствует в исследовании Феофана. Тетраграмма взята у него слишком с пассивной стороны, со стороны знака и обозначения, почему и оказалась невыявленной ее собственная онтологическая природа как в себе, так и в отношении к существу Божию. В остальном же труд Феофана—образец филологического анализа ветхозаветных текстов.
6. Остальные русские исследования в области библейского учения об именах носят почти исключительно филологический характер. Таковы: М. Малицкий. Собственные имена у древних евреев. СПб., 1883 (=Христ. чтение. 1882. I—И. 1883. II.); Погорельский. Еврейские имена собственные. СПб., 1893; Вит. Лебедев. Библейские собственные имена в их религиозно–историческом значении. Петрогр., 1916. Из них труд Малицкого списан с ткниги ЕЪ. Nestle. Die Israelitischen Eigennamen nach ihrer religionsgeschichtliche Bedeutung. Haarlem, 1876 (см.: В. Лебедеву стр. 17). Большей широтой обладает исследование В. Лебедева, который на основании анализа собственных имен, содержащих те или другие моменты имен божественных, хочет дать основные черты библейского представления о Боге. В результате получается довольно внушительный по величине и по значению список свойств Божиих, усматриваемых в этих именах, за пределы чего, однако, В. Лебедев и не думает идти. Имена рассматриваются у него, как и у Феофана, в своей статической и логической значимости; и тут нет никакой живой стихии самого имени как имени, нет даже и мысли об активном и живом взаимоотношении, с одной стороны, имени и именуемого, с другой—имени и именующего.








