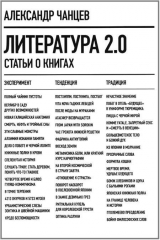
Текст книги "Литература 2.0"
Автор книги: Александр Чанцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц)
Сверхвитальные герои, в которых «изворотливость» и «подвижность» (социальную мобильность, как сказали бы сейчас) специально воспитывали, отнюдь не должны иметь проблем, находясь под гнетом реальности. А социальность (выступавшая для Адорно в цитируемой книге о проблемах морали синонимом реальности), нашедшая воплощение и сконцентрированная в озвученных героями теориях заговора, действительно отменяет себя. Таким образом, состояние героев никак нельзя охарактеризовать как гетерономное и подчиненное, они оказываются ничем не скованными. Герои повести, как становится ясно по ходу сюжета, это люди нового поколения, не только не обладающие памятью о советском репрессивном опыте, но и нацеленные на создание нового общества, которое они и могут созидать в соответствии с новыми, собственными (отчасти – заложенными их учителем-«шестидесятником») «категориями морального». Но, обладая сверх своих многочисленных талантов способностью к эмуляции (то есть полной адаптации к разным ролям наподобие хамелеонов), они предпочитают эмулировать под сложившуюся ситуацию. Как частную (убийства в их среде), так и общую, в стране, которую один из героев формулирует следующим образом: «…в конечном счете вообще нет разницы между властью и ее врагами. Они не просто одинаковое говно – они ОДНО И ТО ЖЕ ГОВНО…» (В этой фразе, если отвлечься от основной темы этой рецензии, заостренно выражена черта сознания пост-тоталитарного человека: вера не в конкретных политиков и не в конкретную идеологию, а в идею политики и идеологии вообще, убежденность в том, что любая общественная деятельность корыстна, неминуемо «пиарит» какие-либо силы. Склонность эта представляется порочной в своей основе, так как парализует саму возможность любого общественного действия.)
Поэтому в конечном итоге талантливые герои становятся машинами убийства, уничтожая себя с завидной скоростью и результативностью. И поворот детективного сюжета в самом финале повести (сюжет можно понять и так, что герои были введены в заблуждение по поводу того, что кто-то убивал их одноклассников, а будто бы убитые одноклассники – с известия об их «убийстве» и начинается действие – инициируют собственное расследование, тем самым замыкая действие в порочный круг), вроде бы намекающий на тотальную мнимость всех измышлений героев, не отменяет сути – сам новый человек, сколь бы талантлив, образован и т. д. он ни был, оказывается в принципе невозможен в ныне существующей российской реальности…
В небольшой повести «Новая жизнь», представляющей собой «дописанный» до размеров повести рассказ из журнала «Афиша»[229]229
В подборке «10 святочных историй» (в нее включены также тексты Эдуарда Лимонова, Олега Зайончковского, Анны Старобинец, Оксаны Робски и др.) (Афиша. 2005. 19 декабря – 1 января [2006]. № 167 (http://www.afisha.ru/article/1639/)).
[Закрыть], сюжет опять напоминает детектив, а главным подозреваемым становится еще один эмулятор (подражатель) – человек, у которого в конце каждого года начинается в подлинном смысле новая жизнь: в ином городе, в иной семье, с иной работой. В одной из своих «реинкарнаций» герой зарезал женщину, в другой – расследует исчезновение своей предыдущей «реинкарнации»: теперь он – журналист телепрограммы «Я жду».
Реальная телепрограмма «Жди меня» обещает изменение жизни для ее участников (обретение давно потерянных родственников, супругов или друзей). На изменение жизни всячески намекает и хрологическая «привязка» происходящего: все исчезновения героя случаются под Новый год, в Новый год происходит и действие повести.
Но бегство в другую жизнь оборачивается смертью. Не только потому, что гибнут жертвы и в конце концов сам герой. Важнее то, что герой хотел умереть: как выясняется, он легко мог скрыться от преследующего его мстителя на машине, затаиться в неизвестной ему квартире или просто сопротивляться, имея при себе заряженный пистолет, которым он и не подумал воспользоваться. «Может, он и не хотел вовсе от вас убежать?» – высказывает совершенно справедливое подозрение проводящая журналистское расследование героиня. Может быть, так же хотели быть убитыми жизнестойкие персонажи из предыдущей повести, с которыми героя-эмулятора «Новой жизни» роднит то, что в своем последнем воплощении он был вполне успешен – любимая работа, семья, достаток, позитивные жизненные взгляды… Но даже через это позитивное мировидение героя («Олег не любил – и никогда не искал в хорошем подвоха. Он действительно полагал, что если сейчас хорошо, то дальше будет еще лучше <…> этого „хорошо“ для себя и для своих он умел последовательно добиваться и совершенно не собирался терять достигнутого…») со всей жуткой ясностью проступает осознание того, что «нет ничего проще, чем пропасть в России. <…> Всё здесь было необязательным и взаимозаменяемым – и все (по крайней мере, жили с таким впечатлением) (пунктуация авторская. – А.Ч.). Всё здесь могло, как морок, в любой момент обернуться всем, распасться, бесследно исчезнуть. Раствориться в грязно-белом пространстве, трясущемся за поездным окном, в обморочном студенистом рассвете, смешаться с заснеженными свалками, заросшими канавами, исписанными заборами, недостроенными гаражами…». «Оборотничество» героя становится метафорой этой всеобщей «взаимозаменяемости», а личная успешность, благополучие и нацеленность на успех, как и у героев «Чучхе», подавляются той реальностью, которую никому не под силу изменить…
В последней повести книги – «Люфт», – написанной Алексеем Евдокимовым уже в одиночку[230]230
Евдокимов выпустил «сольные» романы «Тик» (СПб.: Амфора, 2007) и «Ноль-ноль» (М.: Эксмо, 2008).
[Закрыть], детективная составляющая еще более условна: «подставленный» персонаж пытается разыскать настоящих убийц приписываемой ему жертвы, а также выяснить причины убийства, в котором каким-то образом замешан и нынешний премьер российского правительства, что отсылает нас к образу политика Голышева из первой повести. Однако детективный компонент, как и собственно сюжет, уступает место тому, что можно было бы назвать прямым – или, точнее, прямолинейным – высказыванием, точнее, памфлетом, воспроизводящим общие места современной журналистики: «…Первый президент, при всем своем алкоголизме, жлобстве, обкомовском самодурстве и общей омерзительности соблюдавший хоть какие-то властно-общественные конвенции и считавший нужным чтить хотя бы ряд внешних приличий…» – и так далее в том же духе. Вместо намеков из первых двух повестей основой текста становится публицистическая инвектива. Автор клеймит произвол милиции, беспредел в армии, разгул неонацизма, антигуманность властной элиты. Достается даже «гламурной» столичной прессе и самой Москве с ее «буржуйским» населением.
В отличие от первых повестей в «Люфте» дается и некоторое объяснение беспросветности отечественной жизни. Частное, по мнению Евдокимова, опять становится заложником социального: «…что-то, безусловно, менялось вокруг – что-то трудноуловимое, но чрезвычайно существенное. Реальность странно окостеневала – и люди вместе с ней. <…> Оказалось ни с того ни с сего, что у нас СТАБИЛЬНОСТЬ: которую одни (в зависимости от декларированной степени свободомыслия) объясняли мудрым властным руководством, другие – высокими ценами на экспортируемую нефть… Это, однако, никак не умеряло сосущей тоскливой жути, которой по-прежнему (и даже острее – может, по контрасту с объявленным благолепием) веяло от всего вокруг <…>. Только если прежде откровенная отвратность российского бытия пусть никого ни к чему не побуждала, но хотя бы воспринималась как нечто безусловно плохое, то теперь, ни на йоту не облагороженное, бытие это стало, по-моему, всех устраивать»[231]231
О корреляции роста благосостояния и уменьшения политической активности россиян (особенно среднего класса) размышляет не только Алексей Евдокимов: «Остается один большой вопрос: почему российский средний класс, одетый в Mango, ездящий на Ford, отдыхающий в Египте, не становится политически активнее? Кое-кто полагает, что русские слишком наслаждаются сравнительной стабильностью и процветанием, которые принесли годы путинского правления, чтобы протестовать против сопутствующего уничтожения политической свободы и свободы СМИ» (Buckley N. From shock therapy to consumer cure: Russia’s middle class starts spending // Financial Times. 2006. October, 31 [http://www.ft.eom/cms/s/65775c66-6884-11db-90ac-0000779e2340.html]). Перевод см. на сайте lnopressa.ru: http://www.inopressa.rU/ft/2006/10/31/16:10:24/class. Впрочем, после пресловутого «кризиса» стоило бы ждать обратных процессов, но они присутствуют пока только в литературе («Р.А.Б.» С. Минаева (2009) про неудавшееся восстание клерков), да и то в незначительной степени…
[Закрыть].
Мысль о том, что столь же мрачная ситуация еще чуть раньше воспринималась отрицательно, а в последние годы, в эпоху объявленной стабильности и высоких цен на нефть, никому даже не кажется чудовищной, представляется автору наиболее важной, акцентируется еще раз, ближе к финалу: «…мне никогда не нравилось то, что творится вокруг, но еще вчера у меня была возможность кое-как выживать в этой реальности, оставаясь собой… <…> Допускала хоть какие-то альтернативы. <…> Был какой-то минимальный ЛЮФТ. То есть буквально – воздух… зазор… Теперь – нет». Стоит, впрочем, поинтересоваться: а была ли ситуация такой уж мрачной, если в ней «соблюдались хоть какие-то конвенции», которые ныне не соблюдаются?
Рецепт борьбы с наступающей стагнацией так же привычен, как и инвективы в адрес этой ситуации: необходимо «сохранение лица», попытки индивидуальной борьбы. Но итог абсолютно безрадостен: стремление «оставаться самому неким инвариантом относительно происходящего» заканчиваются тем, что «рано или поздно, причем скорее рано», это придет «в противоречие с физическим существованием».
«Физическим несуществованием» заканчиваются эти попытки и для героев (сами инвективы в адрес новороссийской реальности произносятся от лица двух героев – осужденного за убийство и от имени его жертвы; в последнем случае цитируются записи в его «Живом журнале»). В конце повести оказывается, что «убийца» безумен и мог в своем состоянии парафренического синдрома выдумать все происходившее и, соответственно, все говорившееся. Однако это – только повод для того, чтобы описать новейшую российскую действительность через мнимое ее отрицание.
В выписке из больничного дела героя значится, что среди прочих его «фантастических конфабуляций» (то есть «вымышленных психически больным событий, принимающих форму воспоминаний») «встречались описания чудовищных по жестокости террористических актов, якобы имевших место в действительности: например, захват сепаратистами театра во время спектакля с последующей гибелью множества заложников или даже захват школы во время празднования 1 сентября, мучительство и убийство детей…». Бред персонажа, признанного больным, следует воспринимать как правду о больной реальности. Или, быть может, окружающая нас реальность, по мнению Евдокимова, может быть только порождением помраченного сознания, соединившего в себе память убийцы с памятью жертвы. Если говорить о литературных истоках этого сюжета, то представление агрессивного общества больным в психиатрической лечебнице как личного наваждения восходит к роману Пелевина «Чапаев и Пустота», а через него – к «Мастеру и Маргарите» Булгакова[232]232
Кроме того, невольно это отсылает к истории преследований советских диссидентов, когда «бредом» объявлялись их рассказы о несправедливостях и притеснениях советского режима.
[Закрыть].
Детальное описание катастрофической реальности – отнюдь не прерогатива и не «художественное открытие» Гарроса и Евдокимова. Достаточно вспомнить такие произведения о российской vita nova, как «Эвакуатор» Дмитрия Быкова[233]233
А сюжет более раннего романа Быкова «Оправдание» – о том, что репрессии 1930-х в действительности были способом подготовить «сверхлюдей» из заключенных («сверхстрану должны строить сверхчеловеки» [Быков Д. Оправдание. М.: Вагриус, 2005. С. 65]), – явно связан с идеей эзотерического создания нового человека.
[Закрыть] (и подхватывающий его темы роман того же автора «ЖД») или «2017» Ольги Славниковой, в которых – при всех идеологических и эстетических различиях – нынешняя российская ситуация изображается как совершенно беспросветная. Отличие же здесь одно, но существенное. В названных романах ситуация (скорее всего, чтобы отчасти абстрагироваться от нее и тем самым изобразить ее незавидные перспективы) экстраполируется в недалекое, но все же будущее, помещается в условно-фантастическую обстановку. Сборник же «Чучхе», кажется, ближе всего из существующих на данный момент произведений к высказыванию о современности. Главными, неотвязными оппонентами Гарроса и Евдокимова в споре о современности оказываются либералы-«шестидесятники» в лице братьев Стругацких.
Вопросы о том, как готовить детей к непредсказуемому будущему, и о том, как возможна солидарность, Гаррос и Евдокимов отвергают – но продолжают спорить. Потому, что эти вопросы все-таки уже поставлены – не только в философии, но и в литературе. И остаются актуальными до сих пор, пусть наше представление об обществе и стало иным, чем во времена «Гадких лебедей»).
3. После моды на Мураками[*]*
Опубликовано в: НЛО. 2004. № 69. Одну из первых попыток обстоятельно рассмотреть «феномен Мураками», а также рецепцию японской литературы в России наших дней см. в: Касаткина Т. Русский читатель над японским романом // Новый мир. 2001. № 4.
[Закрыть]
Он пил зеленый чай из бумажного макдональдсовского стаканчика…
Нил Стивенсон. Алмазный век
Хотелось съездить в модный город, в модную страну, хотя уже в России было понятно, что это абсолютный симулякр, абсолютная имитация несуществующего. Это то, как представляют себе Японию ее любители в Москве.
Интервью Виктора Ерофеева(из книги А. Куланова «Тайва. Разговоры о Японии. Разговоры о России»)
Читал недавно Мураками, «Охота на овец»,
И вспомнил сейчас проблемы главного героя.
Какие, на хуй, овцы, это же просто пиздец —
Достаточно разок взглянуть на окно такое!
Андрей Родионов
Японская литература в России нового века
Японская литература в России всегда занимала место, более заметное по сравнению с другими азиатскими литературами. И если в советские времена переводы из современных японских писателей публиковались наряду с переводами авторов из других стран азиатско-тихоокеанского региона (прежде всего китайских – например, Лао Шэ), то в последние годы ни о каком «равноправии» говорить не приходится. Японская литература переводится сейчас с такой интенсивностью, о которой никакой японист еще не мог и мечтать лет десять назад, к тому же темпы эти растут (в издательских планах крупнейших издательств постоянно встречаются японские имена). С переводами китайской литературы дело обстоит гораздо хуже – точнее, с переводами современной литературы. Ибо со старыми, классическими текстами все обстоит хорошо: памятники древней и средневековой китайской словесности переиздаются довольно регулярно. Но вот из новейших произведений не переводится почти ничего. Не издан по-русски даже нобелевский лауреат Гао Синьцзян[235]235
До сих пор едва ли не единичный прорыв – публикация стихотворений китайского политэмигранта-авангардиста Ян Ляня в журнале «Иностранная литература» № 1 за 2004 год в блистательном переводе Ильи Смирнова (который вообще-то переводит в основном древнекитайские тексты). Остальные китайские тексты приходят к нам «опосредованно» – с европейских языков переводятся китайские авторы, живущие в Европе и пишущие на европейских языках.
[Закрыть]. Познакомиться с современной корейской литературой у российского читателя нет и вовсе никакой возможности – из изданий последних лет мне приходит на ум лишь перевод одного графоманского романа, инициированный самим автором-корейцем, а также «Лирика» Кима Соволя, классика первой половины XX века[236]236
Со времени публикации статьи ситуация значительным образом не изменилась – выход отдельных памятников корейской литературы в издательстве «Гиперион» (серия «Золотой фонд корейской литературы» пока насчитывает лишь 3 книги) и некоторых других изданий носят буквально случайный характер.
[Закрыть]. Есть все основания сожалеть о таком «перекосе» в отечественной переводческой деятельности, а также предполагать, что если Китай и Корея развиваются сейчас гораздо динамичнее, чем Япония, уже десятилетие пребывающая в состоянии экономического кризиса, и вообще демонстрируют больше признаков энергичного развития и витальности (при том, что в Китае сохраняется авторитарный политический режим), то и литература их должна быть весьма любопытна.
О не только экономических, но и прочих перспективах Китая и Кореи можно судить и по отражению этих стран в литературе. Китай (или Внутренняя Монголия, входящая ныне в состав Китая) так или иначе упомянут в произведениях самых успешных российских писателей последних лет – Леонида Юзефовича, Виктора Пелевина, Павла Крусанова, Владимира Сорокина и Дмитрия Липскерова. Китай присутствует именно в тех произведениях, в которых чуть раньше наверняка присутствовала бы Япония, служившая во второй половине XX века фантастам (и не только) удачной иллюстрацией их футуристических прогнозов. В альтернативной истории Хольма ван Зайчика отправной точкой становится объединение Руси, Золотой Орды и Китая, якобы произошедшее в XIII веке, а в киберпанковском романе «Нет» Линор Горалик и Сергея Кузнецова в будущем через 60 лет все разговаривают на китайском[237]237
Произведение русской литературы, в котором была бы упомянута Корея, мне вспоминается только одно – повесть Павла Быкова «Бокс» (Быков П. Бокс. М.: Грейта, 2003).
[Закрыть]. Еще интереснее картина, складывающаяся в западной фантастике: если в книгах классика киберпанка Уильяма Гибсона «Нейромант» (1983) и «Идору»[238]238
Это название, закрепившееся в российской критике, – результат неправильной транскрипции: Гибсон имел в виду японское слово «айдору» (кумир, культовый персонаж) – кальку с английского «idol». Название этого романа Гибсона – «Idoru» – было передано по-русски как «идору».
[Закрыть] (1996) действие происходит в Токио будущего, то у его последователя Нила Стивенсона, писателя гораздо более футуристического, «технократического» и более «навороченного», которого тот же Гибсон назвал «самым крутым фантастом Америки», в романе «Алмазный век» (1995) действие перенесено в Китай (при этом, правда, говорится, что «нанотехнологическая Поднебесная далеко отстала от Ниппона и Атлантиды»).
У Стивенсона можно найти точную метафору для того, как синтез культур Востока и Запада может быть воспринят в Китае: «Юн – внешнее проявление чего-либо. Ди – внутренняя сущность. Технология – юн конкретного ди, принадлежащего, – тут доктор запнулся и с заметным усилием ушел от обидных слов вроде „варвар“ или „заморский дьявол“, – Западу, а потому для нас неприемлемого. Столетия с Опиумных войн мы пытались вобрать юн технологии, не принимая западного ди. Но это невозможно. Как нельзя было открыть порты, не получив опиумной заразы, нельзя открыть себя западной технологии и не впитать западных идей, губительных для нашего общества. Итог – столетия хаоса»[239]239
Стивенсон Н. Алмазный век, или Букварь для благородных девиц / Пер. с англ. Е. Доброхотовой-Майковой. М.: Издательство ACT; Ермак, 2004. С. 410.
[Закрыть].
Пока у нас почти нет возможности узнать о положении дел в китайской и корейской литературе последних десятилетий[240]240
С ментальностью современных китайцев и (южных) корейцев можно познакомиться через их кинематограф, не менее популярный в России в последние годы, чем японский (фильмы китайских режиссеров Чжана Имоу, Чена Кайге, Вонга Карвая и других, корейских – Ким Ки Дука и Пак Чхан Ука). Тем загадочнее тот факт, что наши издатели не испытывают ровным счетом никакого желания инициировать переводы современных китайских и корейских авторов.
[Закрыть], хотелось бы подумать о причинах такой сугубой популярности японской литературы в нашей стране.
Причины этой популярности кажутся на первый взгляд столь же загадочными, как сама Япония и ее литература, повествующая о любовании первым снегом, о прыгающих в пруд лягушках и сожженных древних храмах. И попытки проанализировать их уводят нас скорее в область культурологических сопоставлений, чем в область непосредственного филологического анализа.
Не углубляясь в хорошо изученную историю первых контактов между Россией и Японией (использование потерпевшего кораблекрушения японца Дэмбэя в 1705 году для обучения русских японскому языку в основанной тогда же японской школе, пребывание в Японии И. А. Гончарова, описание страны Головниным в книге «Приключения капитана флота В. Головнина в плену у японцев в 1811,1812,1813 годах», изданной в 1816 году, посещение Японии автором «Петербургских трущоб» В. В. Крестовским в 1880–1881 годах[241]241
Его страноведческие наблюдения см.: Крестовский В. В дальних водах и странах: В 2 т. М.: Век, 2007. О фигуре Крестовского: Алпатов В. Ларец с потерянным ключом: Русские писатели в Японии и о Японии // Ex Libris НЗ. 2005.3 ноября (http://exlibris.ng.ru/kafedra/2005-11–03/3_larets.html).
[Закрыть], учреждение кафедры японского языка в Санкт-Петербургском университете в 1989 году и т. д.), выделим три периода интереса к Японии и ее литературе, приходящиеся на прошлый век.
Первый период, как ни парадоксально, пришелся на годы после русско-японской войны. Вместе с волной шовинизма в российском обществе пробудился интерес к стране, неожиданно показавшей в военных действиях такие блистательные результаты. В журналах «Нива» и «Русское богатство» публиковались первые страноведческие статьи и переводы японской литературы. Интерес к японской культуре принимал подчас достаточно любопытные формы: так, Сергей Эйзенштейн изучал японский язык, а специфику своего монтажного метода объяснял, в частности, влиянием иероглифической визуальности. Мейерхольд интересовался японским театром Кабуки; гастроли Кабуки в 1920-х годах в России вообще вызвали большой интерес (напомним, что тогда же японским театром заинтересовались Антонен Арто и другие европейские интеллектуалы). Борис Пильняк, склонный ко всякого рода экзотике, от дальних культур до диалектных слов, опубликовал книгу «Корни японского солнца» (1927)[242]242
См.: Чанцев А. Русские вершки и японские корешки [Рец. на кн.: Пильняк Б. Корни японского солнца. Савелли Д. Борис Пильняк в Японии: 1926. М.: Три квадрата, 2004] // НЛО. 2005. № 76.
[Закрыть].
На первые десятилетия прошлого века приходится начало деятельности ведущих российских японоведов – Н. А. Невского (1892–1938) и Н. И. Конрада (1891–1970). Невский, побывавший в Японии в 1912–1925 годах и позже преподававший в Ленинградском университете, оставил первые фундаментальные работы в области японского языкознания, а также этнографии и этнологии. Конрад, кроме переводов японской классики и статей по истории японской литературы, воспитал целое поколение русских японистов.
Второй период интереса к японской литературе приходится на 1960–1970-е годы. Именно в эти годы были переведены Кобо Абэ, Рюносукэ Акутагава, Кэндзабуро Оэ, Ясунари Кавабата, Ясуси Иноуэ и др. И так же, как в первый период «катализатором» интереса к литературе был «внелитературный» факт – поражение в русско-японской войне, – так и здесь уместно вспомнить не собственно литературные факторы. Восприятие японской литературы во многом уже было подготовлено японским кинематографом (культурную «экспансию» сразу по двум фронтам – литературному и кинематографическому – мы наблюдаем и в наши дни, когда самыми знаковыми японскими именами стали имена писателя Харуки Мураками и актера и режиссера Такэси Китано), а именно успехом Акиры Куросавы. Можно предположить, что на активные переводы японских авторов идеологические власти смотрели тогда довольно терпимо по двум причинам.
Во-первых, японские авторы по собственной воле много и охотно признавались во влиянии на них русской классики (лестен был и тот факт, что японская литература нового времени – после Реставрации Мэйдзи – вообще возникла во многом под влиянием переводов Толстого, Тургенева, Пушкина, Гоголя и др.). Во-вторых, близок властям был и социальный пафос японских авторов – антибуржуазный, симпатизирующий русскому революционному движению у Акутагавы, левый и нонконформистский по отношению к капиталистическому обществу у Оэ и отчасти Абэ. Эти факторы, конечно, не должны были автоматически обеспечивать внимательное восприятие японской литературы со стороны неодураченных читателей. Японская литература вполне могла бы занять ту же, достаточно пыльную, нишу, что и переводы из прокоммунистически настроенных и дружественных Советскому Союзу вьетнамских, африканских и прочих авторов. Однако рецепция новой японской литературы состоялась, а ее восприятие в интеллектуальной, в том числе и в нонконформистски настроенной среде, оказалось очень плодотворным. Объясняется этот успех не только тем, что переводили первоклассных авторов (это – условие главное, но, рискну предположить, недостаточное), но и своеобразным сплавом экзотического и общезначимого, что отличает новую японскую литературу. Советские власти относились к изданию японских авторов, кажется, равнодушно-снисходительно, зато нонконформистская интеллигенция нашла в творчестве послевоенных писателей аналоги собственным настроениям. Напряженный психологизм и интимная доверительность Кавабаты, Оэ или Абэ воспринимались цензурой и иными идеологическими контролерами как признак «художественной ценности» текста. Однако для советского читателя именно эта сосредоточенная интимность и подспудный или открыто описанный трагизм одиночества оказались подлинным открытием, причем это открытие помогало решить сугубо советские психологические проблемы.
Интеллектуалы побежденной Японии и интеллигенты в победившем СССР оказались в сходном положении: традиционная культура воспринималась как развалины, ее восприятие стало проблемой; героические идеалы дискредитированы, и на развалинах нужно заново выстраивать, заново обретать важнейшие жизненные смыслы. Для такого строительства и японским, и советским интеллектуалам необходимо было новое осмысление личности – личности одинокой, растерянной, ищущей понимание во враждебном мире. Это породило интимный тон многих японских произведений, вызывающий сочувственное отношение у российских читателей (и находящий аналоги у неподцензурных авторов, – таких, как, например, Евгений Харитонов). Яростный пацифизм японских авторов[243]243
Исключение составляет Юкио Мисима, которого в 1960-е годы и не переводили.
[Закрыть] советскими властями приветствовался как проявление антимилитаризма и протеста против «американской военщины», но интеллигенцией воспринимался иначе: как и люди на Западе, советские интеллигенты в 1950-е – начале 1960-х искренне боялись атомной войны, но не доверяли и официальной патриотической риторике. Японцы, опомнившиеся от гипноза имперской идеологии и потрясенные ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, оказались в сходной ситуации, только у них была возможность заявить в литературе о своем состоянии, а у советских интеллигентов, за редчайшими исключениями[244]244
Примеры таких открытий были, кажется, только в неподцензурной литературе – ср., например, стихотворение Станислава Красовицкого «Когда ученик в пионерском ли галстуке, девочка…» (1957): «Кто знает, быть может – молчат доктора на безлюдье, / стоят в кабинетах шкафы, застекленные твердью,/ в них тонкие жала ракет, серебристых орудий, / самою землей напоенные легкою смертью…»
[Закрыть], – нет. Понятно, что новейшая японская литература в СССР в этой ситуации оказалась как нельзя кстати.
Если в произведениях писателей нашего времени, повествующих о космополитических реалиях нынешней Японии, граница между национальным и общедоступным проходит внутри самого произведения, достаточно условна и размыта, если вообще есть, то среди переводившихся в 60–70-е авторов были те, кто, с точки зрения официальной советской критики, «отвечал» за сугубо национальное, и те, кто развивал космополитический дискурс. Так, Кавабата (начинавший, кстати, под влиянием европейского модернизма – он активно сотрудничал с японскими неосенсуалистами[245]245
Группа японских писателей во главе с авангардистом Риити Ёкомицу, объединившихся в 1920–1930-е годы вокруг журнала «Бунгэй дзидай». Под влиянием активных в те годы переводов на японский Пруста и Джойса призывали заменить обычный нарратив техникой «потока сознания», выработать новый язык («объявить войну родному языку», по выражению Ёкомицу) и сосредоточиться на описании внутренних переживаний героев.
[Закрыть], а его «Кристаллическая фантазия» 1930 года написана в стилистике «потока сознания») полностью национален, его книги полны полюбившейся русскому читателю японской экзотики («путь чая» в «Тысяче журавлей»[246]246
Существующий в русском перевод этого названия как «Тысячекрылый журавль» нельзя признать удовлетворительным, так как вместо обозначения традиционного узора на платке-фуросики возникает некий сюрреалистический образ.
[Закрыть], описание игры на музыкальном инструменте биве в «Шуме гор» и т. д.). К полюсу «космополитов» относится Абэ, который переносил на японский материал – достаточно условный, если вспомнить ту же яму из «Женщины в песках», – идеи французского экзистенциализма. В этом, возможно, еще одна причина популярности японцев у русских читателей того времени – познакомиться с модными европейскими идеями было зачастую трудно по первоисточникам. Акутагава[247]247
Акутагава – писатель первой половины XX века, а Абэ и Кавабата – середины XX века, но все трое пришли к советскому читателю именно в 1960-е годы и поэтому могут быть сопоставлены.
[Закрыть] находится где-то посредине между этими двумя полюсами – он с равным успехом делал «ремейки» как средневековых японских легенд, так и «Шинели» Гоголя.
В те же годы активно переводились японская поэзия и японский фольклор. Над этими переводами работали тогда лучшие отечественные японисты – вспомним хотя бы блистательные переводы Веры Марковой, – не загнанные к тому же, в отличие от сегодняшней практики, издателями в жесткие временные рамки. Забегая вперед, скажу, что процесс этот в дальнейшем замедлился, сначала из-за общего состояния книжного рынка и экономических факторов, а потом из-за популярности именно японской прозы. Сказки и поэзия в 1990-е переводились мало. Правда, буквально в последние годы ситуация изменилась: вышло сразу два сборника японских «кайданов» (рассказов о привидениях и прочей нечисти), публикуются сказки (в частности, в серии «Золотой фонд японской литературы») и новые переводы поэзии (сборник современной японской поэзии «Странный ветер» 2003 года и «Японская поэзия Серебряного века: танка, хайку, киндайси» в переводе А. Долина в 2004 году). Однако всенародная любовь к японской поэзии зародилась уже тогда, – в 1960–1970-е годы[248]248
Можно найти и более ранние следы увлечения хайку, хоть и не столь повсеместного: хайку писали В. Брюсов (в сборнике «Сны человечества») и Н. Гумилев («Вот девушка с газельими глазами / Выходит замуж за американца, / Зачем Колумб Америку открыл?»). Хотя у Гумилева более сильны китайские мотивы, см.: Улокина О. Тема Востока в творчестве Н. С. Гумилева (http://www.silverage.ru/poets/ulokina_gumil.html). Мода на Японию, что интересно, приходила тогда в Россию с двух сторон – из Европы (художники-«мирискусники») и даже из самой Японии (русскоязычная работа М. Ямагути «Импрессионизм как господствующее направление японской поэзии» была довольно известна в соответствующих кругах).
[Закрыть], чтобы в наши дни оформиться в особое направление русской поэзии (см. «российский альманах поэзии хайку» «Тритон», печатающий русских поэтов, работающих в этой технике, переводы с японского и исследования западной поэзии хайку, или недавно появившийся «альманах поэзии хайку» «Хайкумена», а также сборники так называемых танкеток[249]249
Названный по аналогии с танка, этот жанр и по формальным признакам напоминает своего японского прародителя: это медитативный поэтический текст из шести слогов, разделенный на две строчки (3+3 слога либо 2+4).
[Закрыть]) и принять такие формы массового интереса, как специальные сайты в Интернете для любителей попрактиковаться в сочинении танка и хайку, конкурс газеты «Аргументы и факты» на лучшее подражание японской поэзии и т. д. Впрочем, явление это не специфическое для России, поскольку международная субкультура хайку – большое и уже давнее явление. В наши дни в литературоведении уже существуют первые исследования этого специфического явления[250]250
См., например: Кузьмин Д. Рецепция хайку в русской и американской поэтической традиции // Компаративистика: современная теория и практика. Самара, 2005; Суида Дж. Хайку в Северной Америке / Пер. с англ. Д. Кузьмина // Тритон: Альманах хайку. Вып. 2; см. также блок материалов «Литература в стиле бонсай» в: НЛО. 1999. № 39.
[Закрыть].
Что же касается японской драмы, то на русском лучше представлена классика Но и Кабуки, чем пьесы современных драматургов, – что вполне объяснимо. Соответствующие сборники советских времен из-за идеологически ангажированного подбора авторов ныне с трудом поддаются какому-либо объяснению, а из изданий последних лет стоит упомянуть сборники «Японская драматургия»[251]251
Японская драматургия / Сост. И. Жукова. М.: Искусство, 1998.
[Закрыть], раздел «Современный театр» в антологии «Японский театр»[252]252
Японский театр / Сост. и вступ. ст. Г. Чхартишвили. СПб.: Северо-Запад, 1997.
[Закрыть] и 1-й том «Современной японской драматургии»[253]253
Современная японская драматургия. М.: Серебряные нити, 2004.
[Закрыть]. Картина сравнительно благополучна: современная корейская драма известна лишь узкому кругу специалистов.
Третий, самый плодотворный период увлечения японской литературой начался в начале 90-х и продолжается по сей день. Не будем говорить о таких внелитературных факторах, во многом подготовивших этот интерес, как популярность японских единоборств в перестроечные годы, увлечение дзен-буддизмом среди интеллектуалов[254]254
Увлечение дзеном, начавшееся еще в 1970-е годы (ср. в песне Майка Науменко конца 1970-х «Сладкая N» о разговорах в ленинградской богемной компании: «И кто-то, как всегда, гнал мне о тарелках, / И кто-то, как всегда, проповедовал дзен…»), как и кинематографом, относится, пожалуй, к самым первым контактам с японской культурой в СССР в Новейшее время.
[Закрыть], японский кинематограф[255]255
Стоит вспомнить только названия тех фильмов, что шли у нас на момент написания этой статьи в 2004 году: японские фильмы «Дзатоити» (в более распространенном, но неправильном написании – «Затойчи», а то и вообще «Запнчи») Такэси Китано и «Проклятие» Такаси Симицу, а также несколько весьма кассовых фильмов о Японии – «Трудности перевода» Софии Копполы, первая часть дилогии «Убить Билла» Квентина Тарантино, «Последний самурай» Эдварда Цвика…
[Закрыть], японская мода, японские мультфильмы анимэ, комиксы манга и японская кухня: во-первых, все это происходит буквально на наших глазах, во-вторых, пришло это к нам во многом не из самой Японии, а в обход, через Европу и Америку. Так, давно прошедшее в Европе и Америке увлечение дзеном пришло к нам именно оттуда, в виде переведенных с английского книг Судзуки, как и японские рестораны, в меню которых упорно значатся американизированные суши и сашими[256]256
А иногда и вообще роллы вместо того и другого. О дальнейшей «русификации» этого блюда свидетельствует образ «суши „Столичные“» в сатире С. Минаева «Р.А.Б.» (М.: ACT; Астрель, 2009). В этой книге, буквально напичканной японскими аллюзиями (не всегда, кстати, верными – «саёнара» там используется как приветствие, а не прощание…), упоминается еще и «союз корпоративных самураев».
[Закрыть] вместо суси и сасими в принятой в нашей японистике системе транскрибирования.
Новый всплеск интереса к японской литературе на этот раз подготовили книги Юкио Мисимы, переведенные Григорием Чхартишвили[257]257
Он же, как известно, Б. Акунин.
[Закрыть]. Эстетика этого автора – страстное увлечение всем западным в начале его творчества, не менее страстное, доходящее до ксенофобии, увлечение всем национальным в конце, его экстравагантная кончина посредством архаичного сэппуку (то, что обычно называется харакири), а также его необычная эстетическая система, главными компонентами в которой выступали Красота и Смерть, – необычна даже для самих японцев, но российский читатель, и так ждавший, видимо, от японцев всяческих странностей, принял его весьма увлеченно. Любопытно отметить, что одним из первых читателей Мисимы был Эдуард Лимонов, который узнал его в период эмиграции по английским переводам (поэтому у Лимонова Мисима часто фигурирует как Мишима). Чтение это оказалось для Лимонова достаточно продуктивным – так, во многих его произведениях упомянут Мишима, а в книге «Священные монстры», посвященной так или иначе вдохновившим Лимонова культурным персонажам, Мисиме посвящена отдельная глава. Кроме Мисимы часто упоминается у Лимонова и вдохновлявший Мисиму в его националистический период Цунэтомо Ямамото, автор трактата «Хагакурэ», содержащего основы кодекса бусидо (средневекового кодекса этики и поведения самураев), к которому сам Мисима написал предисловие. Рецепция Мисимы Лимоновым оказалась плодотворной не только в творчестве – тему смерти, молодости, самоубийства, сексуальности и др. Лимонов развивает под влиянием Мисимы, зачастую перенося идеи Мисимы в собственный текст в их первоначальном, нетронутом виде (когда говорит о желании умереть молодым, восхищается красотой молодых солдат или выбирает из «Хагакурэ» те же цитаты, что когда-то использовал и Мисима, – как, например, «Путь самурая есть смерть»), но и в плане собственной биографии: имеется в виду идея создания собственной биографии, философия self-made man[258]258
«Лимонов – национальный герой… Он – Личность, какой в русской литературе не было и нет» (Могутин Я. 30 интервью. СПб.: Лимбус-пресс, 2001. С. 22).
[Закрыть]. Так, известная фраза Дональда Кина про Мисиму «Лучшим произведением Мисимы был он сам» в несколько измененном виде прозвучала по поводу и Лимонова: «Пожалуй, именно Лимонов довел до формального совершенства имиджевую политику писателя»[259]259
Голынко-Вольфсон Д. Империя сытых анархистов // НЛО. 2003. № 64. С. 175.
[Закрыть], в более категоричном виде – у Михаила Шемякина: «Мне кажется, что Лимонову все до фени. Кроме себя»[260]260
Интервью газете «Комсомольская правда» от 19 октября 1993 г.
[Закрыть]. Разница в мифотворчестве двух писателей лишь в одном – Мисима со своей «личной армией» «Общество щита» решился на настоящее восстание и не менее настоящее самоубийство, Лимонов же со своими нацболами (НБП, кстати, весьма похожа на «Общество щита» Мисимы – она тоже состоит в основном из молодежи, настоящим политическим действиям предпочитает демонстративные акции и, по сути, является «свитой» своего вождя) решился лишь на декларацию восстания, которое было предусмотрительно предотвращено арестом и тюремным заключением, заменившим для него необходимость кровопролития. Любопытно, кстати, что радикально патриотический и имперский пафос поздних произведений Мисимы был воспринят у нас сначала Лимоновым, другие же сторонники ультраправых имперских идей (такие, как Александр Проханов, Павел Крусанов, С. Шаргунов и др.) узнали его скорее с подачи того же Лимонова. Кстати, в самой Японии Мисима проходит по такому же разряду «неудобных писателей», как и Лимонов у нас, а простые читатели, опять-таки как и русские при вопросе о Лимонове, скорее вспомнят политические эскапады Мисимы, чем его творчество[261]261
По личному опыту могу сказать: обычно японские студенты на вопрос о том, какие произведения Мисимы они читали, вспоминают в большинстве случаев классический «Золотой храм» и достаточно маргинальный для самого Мисимы роман «Музыка» (скорее всего, в силу его эротического содержания – главная героиня никак не может, как она говорит, «услышать музыку», т. е. испытать оргазм).
[Закрыть]. Чтобы закончить с Мисимой[262]262
Более подробно о сюжете Мисима – Лимонов см.: Чанцев А. Бунт красоты. Эстетика Юкио Мисимы и Эдуарда Лимонова. М.: Аграф, 2009.
[Закрыть], отмечу, что в последние годы наконец-то вышел перевод финальной тетралогии Мисимы «Море изобилия», без перевода которой Мисима как мыслитель вряд ли мог быть адекватно прочитан в России – как, скажем, Томас Манн, если бы у нас были переведены «Будденброки», но не «Иосиф и его братья».






