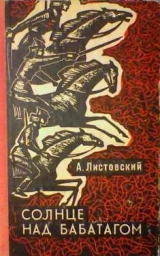
Текст книги "Солнце над Бабатагом"
Автор книги: Александр Листовский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
– Его в Амударью столкнули, – заметил командир полка, улыбаясь.
– Вот, вот, холодный душ принял. Это ему мозги вправит на место. Надеюсь, больше к нам не полезет, – сказал, смеясь, Окулич. – Ну что ж, по коням! – приказал он, взглянув на командира полка. – Будем преследовать.
Окулич крепко пожал руку Бочкареву и, пожелав выздоровления Лихареву, направился к лошади.
Вскоре полк потянулся шагом вдоль Сурхана. Потом в рядах взяли рысью, и поднявшаяся пыль скрыла колонну…
10
Легучий отряд Кудряшова после тяжелого похода в горы возвращался в Юрчи.
Ведя лошадей в поводу, бойцы спускались с перевала Елантуш. Внизу, в широкой котловине, виднелись сады кишлака Санг-Гардак.
Еще вчера вечером местный житель привез Кудряшову бумагу из штаба полка с сообщением о тяжелом ранении Лихарева. Начальник штаба писал, что командир дивизии приказал Кудряшову прибыть с отрядом в Юрчи.
Возвращение в тыловую часть полка, или тылчасть, как ее называли, всегда воспринималось бойцами с большой радостью.
Наконец-то можно было вымыться в бане, выспаться, сняв с себя все до белья, а не в обнимку с винтовкой, как люди спали в походах, вдоволь напиться воды, посидеть в чайхане. Возвращения в тылчасть ждали, как земли обетованной, но часто бывало, что вместо отдыха отряды, только успев покормить лошадей, тут же выступали в новый поход…
А пока люди, подавленные духотой и усталостью, двигались, опустив сожженные солнцем лица и шеи.
Лошади, сплошь покрытые потеками ссохшегося с пылью серого пота, шли, устало волоча задние ноги.
Кастрыко после случая с Пардой был переведен в 3-й эскадрон и находился в голове своего взвода.
«Санг-Гордак, – думал он, посматривая с высвты на кишлак. – Определенно, это название имеет в своем корне что-то французское. И Регар тоже… и Дюшамбе. Должно быть, тут до переселения народов жили в древности галлы… У кого бы спросить?» Но спросить было не у кого: комиссар полка Федин лежал в Юрчах больной малярией, а Кудряшов вряд ли бы ответил на этот вопрос.
Отряд вошел в кишлак. Был объявлен малый привал. Кастрыко взял с собой взводного переводчика Темир-Булата, похожего на девушку молодого красноармейца, и вошел вместе с ним в ближайший двор.
У глинобитной кибитки посреди двора мальчик лет пятнадцати строгал оглоблю для омача.
– Катык бар? – спросил Кастрыко по-узбекски.
Мальчик сказал что-то в ответ.
– Что он говорит? – спросил Кастрыко Темир-Булата.
– Говорит, бедные люди. Ничего у них нет.
– Старая песня! Пусть даст что-нибудь. Скажи, я есть хочу.
Переводчик стал что-то объяснять мальчику.
Тот пожал плечами, плеснул в деревянную чашку воды из кувшина и, достав из поясного платка сухой шарик овечьего сыра, растер его в чашке рукой.
– Вот, пожалуйста, все, что у меня есть, – произнес он по-узбекски, протягивая чашку Кастрыко.
– Это ты кому? Мне?! – проговорил тот, задыхаясь. – Грязной лапой?! Ты что, ошалел?! Ах ты, негодяй!
Кастрыко схватил чашку и со словами «Ешь сам, сукип сын!» плотно надел чашку на голову мальчика. Белая жижа потекла по испуганному лицу.
– Ну, наелся? Сыт? – спрашивал он. – Я тебя, подлец, научу, как угощать! Экий сволочь народ!..
Кастрыко направился в глубь двора, где бежал кишлачный арык, и увидел трепетавший в воде привязанный к берегу бараний бурдюк.
– Темир! – позвал он.
Переводчик подошел, неодобрительно глядя на него.
– Что это? – спросил Кастрыко.
– Бурдюк с катыком, – ответил переводчик.
– Что ж он, сволочь, обманывал!
Кастрыко выволок бурдюк на траву, выхватил шашку и разрубил бурдюк пополам. Наружу хлынул густой душистый катык.
Но не успел Кастрыко вложить клинок в ножны, как выбежавшая из кибитки немолодая, но еще красивая женщина обрушилась на него с яростным криком.
– Падарсаг! Чи кор мекунди? Хаммаша мегири?! – кричала она, размахивая руками и приседая, совсем как русская баба. – Шумо дуст не! Кудаккохоям чи мехиранд?
– Что она говорит? – спросил Кастрыко.
– Нехорошо говорит. Собака твой отец, говорит, – переводил Темир-Булат со скрытым злорадством, – Последнее забрали! Вы, говорит, не друзья, а враги! Чем я теперь детей буду кормить? Подлый ты человек, говорит.
– Замолчи! – крикнул Кастрыко на женщину, – Не надо мне твоего катыка! Подавись им сама!
Услышав на дороге конский топот, он вложил клинок в ножны и пошел со двора, провожаемый проклятьями женщины…
К двенадцати часам следующего дня отряд Кудряшова с песнями вошел в Юрчи. В эскадронах готовились к отдыху. В рядах слышались шутки, смех, веселые разговоры. Но не успели люди спешиться и развести лошадей по конюшням, как подошедший к Кудряшову начальник штаба, вечно озабоченный молодой еще человек, вручил ему приказ командира дивизии. Надлежало немедленно выставить сильные гарнизоны в Бабатаге. Поэтому Кудряшов распорядился лошадей не расседлывать и через три часа быть готовыми к выступлению в горы.
– На тебе! – говорили бойцы. – Вот и помылись!
Отдав распоряжения, Кудряшов решил в первую очередь навестить Лихарева. Но находившийся в лазарете полковой врач Косой сказал ему, что командир бригады все еще находится без сознания. Тогда Кудряшов направился к Федину.
Он застал комиссара лежащим на койке под двумя ватными одеялами. Федин за это время так осунулся и почернел, что командиру полка стоило большого труда удержаться от восклицания и спокойно сказать:
– Ну, ты совсем молодцом стал, Андрей Трофимович! Поправляешься?
– Да ничего… Как будто лучше немного, – заговорил Федин тихим прерывистым голосом. – Ну, рассказывай, как там у тебя.
Кудряшов сказал, что прошел с летучим отрядом почти все Байсунские горы, но встретиться с басмачами ему не пришлось. По полученным сведениям, все мелкие шайки ушли на левобережье Вахша под начало Ибрагим-бека. Конечно, поход зря не прошел. В кишлаках на месте стоянок проведены митинги, а также оказана помощь дехканам медицинским обслуживанием, починкой мостов и дорог.
Федин рассказал, как во время отсутствия Кудряшова его одолели дехкане просьбами помочь им избавиться от кабанов, расплодившихся в неимоверном количестве и уничтожающих сады и посевы. Он посылал несколько человек из хозяйственной команды, но помощь эта не принесла никаких результатов, потому что среди них не оказалось охотников.
– Попробуем создать охотничью команду, – предложил Кудряшов. – Отберем хороших стрелков… Это будет трудно, конечно, – тут же оговорился он. – Больше половины полка больны малярией. Каждый здоровый боец на учете.
В дверь постучали. Вошел начальник штаба и вместе с ним два старика.
– Опять насчет кабанов, – сказал Федин вполголоса.
Он не ошибся. Старики назвались жителями кишлака Люкки, что в пятнадцати верстах от Юрчей. Один из них, с пышной белой бородой, стал рассказывать, что уже в продолжении многих лет возделывает фруктовый сад, считающийся лучшим в округе. Он вырастил даже финиковые пальмы. Но кабаны совсем обнаглели. Вчера, когда он работал в винограднике, в сад проник огромный секач-одинец. Увидев старика, кабан бросился на него.
Старик не растерялся и, схватив кол, нанес удар по рылу хищника. Все же кабан сильно ранил его в ногу.
Рассказывая это, старик, приподняв полу халата, показал глубокую рану, присыпанную жженой кошмой.
Ему пришлось спасаться по лесенке в летний шалаш, сооруженный на дереве. Но секач оказался только разведчиком. Вскоре в сад проникло целое стадо диких свиней с поросятами. Они принялись пожирать виноград, уничтожая плоды долгих трудов.
У другого старика кабаны съели весь посев джугары, и теперь он с семьей был обречен на голодное существование.
Федин, очень сильный по натуре человек, не мог переносить чужих слез, и теперь, видя плачущих старых людей, помочь которым он ничем не мог, только сильно сжал зубы и перевел взгляд на Кудряшова, словно прося у него поддержки.
Кудряшов обещал старикам, что полк сделает все возможное, чтобы уничтожить диких животных, и распорядился отвести пострадавшего в лазарет для оказания ему медицинской помощи.
– Прямо сам готов взять винтовку и пойти бить этих проклятых свиней, – сказал Федин, когда они остались одни, – Короче говоря, надо принимать какие-то решительные меры.
– И откуда их столько расплодилось? – подумал вслух Кудряшов.
– Басмачи. Только одни басмачи виноваты, – сказал комиссар, – Басмачи выкачали все оружие, ранее находившееся в кишлаках, и дехкане лишились возможности защищать свои посевы…
Кастрыко сидел в чайхане у Андрюшки. Андрюшка был молодой глуховатый таджик из кишлака Люкки, он не говорил, а кричал. Собственно, имя его было Али-джан, но кто-то из штабных командиров окрестил его Андрюшкой. Это имя так хорошо привилось к нему, что иначе его и не звали. Андрюшка проявил большие способности в изучении русского языка. Первой фразой, которой научили его штабные, была: «Поесть, попить, покурить – дело хорошее». Он отлично варил русский борщ. Это обстоятельство привело к тому, что почти все командиры, ранее посещавшие чайханщика Гайбуллу, постепенно перекочевали к нему.
– Налей еще чашку, – сказал Кастрыко.
– Чего ты шепчешь? – крикнул Андрюшка так, словно Кастрыко был шагов за сто от него. – Или ты говорить не умеешь? Громче, громче давай! Что я – глухой?!
Он принял пустую посудину из рук Кастрыко, налил ее до краев и, поставив перед командиром, с обычной улыбкой на красном скуластом лице произнес:
– Поесть, попить, покурить – дело хорошее?
Кастрыко, собственно, было не до Андрюшки. Он наблюдал за дервишем в рваном халате, который с упорной назойливостью вымаливал подаяние у сидевшего поодаль начальника клуба, человека средних лет, с чисто выбритым, актерским лицом.
Каждый раз при посещении чайханы Кастрыко видел этого дервиша, и его поражало, что глаза юродивого иногда принимали совершенно осмысленное выражение, останавливаясь на нем настороженно-испытующим взглядом.
Получив мелкую монетку от начальника клуба, дервиш, закатывая белые глаза и бормоча что-то, подошел вплотную к Кастрыко.
– Что тебе нужно? – сказал тот сердито. – Не мешай! Поди прочь отсюда! Ну, кому говорю?
На страшном лице юродивого мелькнула улыбка. Понижая голос до шепота, он сказал по-английски:
– Наконец-то я вас узнал, Доктенек!.. Осторожно. Не подавайте вида… Я буду ждать вас за мечетью… На нас смотрят. Дайте монету.
Преодолевая охватившую его нервную дрожь, ирландец бросил дервишу серебряный полтинник.
Юродивый схватил монету и, зажав ее в кулаке, направился вниз по пустынному в это время базару.
– Что, разбогатели, товарищ командир? – спросил начальник клуба, наблюдавший всю эту картину. – Смотрите, так пробросаетесь!
– А ну его!.. – сказал Кастрыко. – Отвратительная физиономия. Видеть не могу. И должно быть, прокаженный. Весь аппетит перебил.
Он отставил чашку, расплатился с Андрюшкой и вышел из чайханы. Дервиш ждал на условленном месте.
– Послушайте, вы плохой разведчик, Томас! – обрушился он на него. – Какого черта, сэр, вы отпустили себе эту бородку! Она меня с ума свела! Я все приглядывался и думал, вы это или не вы!
– Позвольте, – перебил Доктенек. – Я не знаю, с кем говорю.
– Не знаете?.. Впрочем, я, конечно, тоже оброс. Вспомните в Кабуле в прошлом году. От кого вы получили документы на имя Кастрыко?
– А-а!
– Ну то-то… Шоу-саиб давно ждет вас.
– Где он?
– У Ибрагим-бека. Когда вы сможете выехать?
– Сегодня мы уходим в Бабатаг, и, пожалуй, это удобный случай.
– Конечно! По дороге вы отстанете. На переправа в Джиликуле вас будет ждать наш человек. Он сопроводит вас к Шоу-саибу. Ну, прощайте, Томас. Нам надо спешить. Желаю вам счастливо добраться…
Дервиш согнулся и, тяжело опираясь на посох, направился по пыльной дороге.
11
Известие о трагической гибели Абду-Фатто быстро пронеслось по всему Присурханью. И если Ибрагим-бек хотел его смертью устрашить население, то достиг совершенно обратного. В кишлаках поднялся глухой ропот. Дехкане жалели этого честного, справедливого человека, и хотя с опаской, но выражали сомнение в правильности действий Ибрагим-бека.
Разгром кишлаков Джар-Тепе и Карлюка, где осталась нетронутым только имущество баев, помощь населению со стороны Красной Армии и, наконец, неудачи Ибрагим-бека в борьбе с новой властью заставили задуматься многих людей, которых басмачи долгой время обманывали.
Даже в басмаческих отрядах некоторые нукеры шептались по ночам между собой и затихали при появлении курбаши.
Среди женщин тоже шли разговоры.
– Хорошие люди эти русские солдаты, – говорил Сайромхон. – Пошел мой сынок гулять, вечером приходит. Я спрашиваю: «Где был?» – «У кизиласкеров, – отвечает, – в гостях. Чай с сахаром пил». Вот они какие люди. А если встретишься с солдатом, так он тут же на другую сторону переходит и даже не смотрит…
На рассвете августовского дня пять молодых джигитов, сидевших на рослых, покрытых потом и пылью лошадях, были остановлены патрулями при въезде в Юрчи.
– Кто такие? – спросил старший патрульный, подозрительно оглядывая всадников.
– Мы приехали к большому командиру, – сказал Ташмурад, сын Назар-ака.
– Зачем?
– Проведите нас к нему, и мы скажем, зачем мы приехали, – твердо сказал Ташмурад.
Бочкарев уже привык ничему не удивляться в Бухаре, и когда Ташмурад, сняв с седла хурджуны, вытряхнул из них голову, он спокойно спросил:
– Кто это?
– Мустафакул-бек, – сказал гоноша.
С этого дня Ташмурад и его четыре товарища, отказавшись разойтись по домам, остались служить в 61-м полку.
Месяц находился Лихарев между жизнью и смертью. В редкие минуты прояснения сознания он неизменно видел Маринку. Она сидела у его койки, опустив глаза в книжку. Но однажды он не увидел Маринки. На ее месте сидела чужая незнакомая девушка с черными косами, падавшими на грудь. Она, так же как и Маринка, опустив голову, что-то читала. Лихарев видел ее пухлые, чуть шевелившиеся розовые губы. «Кто это? – подумал он. – Какая чудная девушка! Откуда она?»
Послышались шаги. Девушка подмяла голову и встретилась глазами с восторженным взглядом Лихарева. Растерявшись, она на минуту закрыла лицо рукой, но тут же переборола смущение и с благоговейной преданностью и любовью посмотрела на раненого. На ее нежном лице засветилась улыбка.
В комнату вошла Маринка. Она остановилась и с радостным изумлением переводила глаза с Лолы на Лихарева. Ее поразила происшедшая без нее перемена.
– Ну, как вы себя чувствуете; товарищ комбриг? – спросила она, приближаясь к нему.
– Хорошо… Хорошо, – твердо повторил Лихарев, – А Житов как? Где он?
– Житов? Давно в строю… Ой, как я рада! Как я рада за вас, товарищ комбриг! – воскликнула Маринка. Она нагнулась над ним, прижав руки к груди. – Нет, нет, не шевелитесь, пожалуйста, – продолжала она, заметив, что Лихарев сделал движение. – Вам нельзя шевелиться.
Лихарев поморщился, вдруг ощутив в бедре острую боль.
– Что, в кость? – опросил он с досадой.
– Да, но врач говорил, что срастается правильно.
– Сестра, скажите, у нас в том бою большие потери?
– Нет, несколько раненых. Вы один – тяжело.
– Ах, сестра! Если бы вы знали, как мне надоело лежать! – сказал Лихарев, провожая глазами черноволосую девушку, которая тихо выходила из комнаты.
– Потерпите, товарищ комбриг, теперь уж немного осталось, – ласково проговорила Маринка. Она подвинула себе табуретку и присела около Лихарева.
– Кто эта девушка? – спросил он.
– Лола.
– Лола? Какая Лола?
– Дочь Абду-Фатто. А что, правда, хорошая девушка, товарищ комбриг?
На похудевшем лице Лихарева появилось выражение крайнего удивления. Он поднял руку к забинтованной голове, видимо обдумывая вопрос, поразивший его.
– Но как же она попала сюда?
– Мы с ней познакомились.
– Хорошо. Но как отец мог отпустить ее к нам?.. Ничего не понимаю. И без чадры. И в русском платье.
– Это я ей подарила.
– Странно все-таки… А как поживает Фатто?
– Он болен, товарищ комбриг, – ответила Маринка, вся вспыхнув.
– Болен? Чем?
– Папатач…
– Так ее зовут Лолой? – спросил Лихарев.
– Да.
«Лола – горный тюльпан, – мысленно перевел он. – Да, действительно эта девушка нежна, как цветок».
В комнату вошел доктор Косой.
– Ну вот! Ну вот мы и поправляемся! – заговорил он с улыбкой. Он подошел к Лихареву, измерил пульс, – Очень хорошо, – продолжал Косой, опустив руку. – Ну, товарищ комбриг, от души поздравляю, У вас великолепное сердце. Откровенно говорю, вряд ли кто другой выжил бы на вашем месте.
– Сердечно благодарю вас доктор.
– Меня не за что, товарищ комбриг, Вот кого благодарите, – указал Косой на Маринку. – Целый месяц около вас просидела почти без сна. Молодец девушка!
– Теперь все обстоит благополучно, – подтвердил Косой. – На днях снимем повязку с головы. А с ногой придется подождать… Вы меня извините, товарищ комбриг. У меня сейчас операция.
– Пожалуйста, доктор, я вас не держу, – сказал Лихарев.
Косой поспешно вышел из комнаты.
Взяв руку Маринки, Лихарев крепко пожал ее.
– Благодарю вас, сестричка, – ласково сказал он, привлекая ее к себе и целуя.
Они не слышали, как в дверях кто-то ахнул.
Лола стояла у порога, опустив руки, с побледневшим лицом. У ног ее лежали, рассыпавшись, чайные розы…
Лола постояла, тихо прикрыла дверь и пошла вдоль дувала. «Ну да, конечно, он любит ее, – с горечью думала девушка. – Она русская и такая красивая, а что я для него?!»
Лола почувствовала, как спазм сжал ей горло; к ее глазам прихлынули слезы, но она из гордости сдерживала их, и они камнем ложились на сердце.
Она вошла в свою комнату, где жила вместе с Маринкой, бросилась на кровать и зарыдала…
Теперь, когда Лихарев пришел в полное сознание, он хотел поскорее узнать обо всем случившемся за это время в бригаде. Маринка рассказывала, ловя на себе ревнивые взгляды Мухтара и Алеши, которые пришли навестить комбрига, узнав, что ему лучше.
Лихарев спросил, как обстоит дело с постройкой театра, и очень обрадовался, узнав, что театр уже строится, а руководит работой трубач Климов, оказавшийся прекрасным плотником.
Увлекшись разговором, Маринка, не замечала, что Климов, стоявший в дверях, делает ей какие-то знаки. Лихарев первый увидел это.
– Сестра, вас зовут, – сказал он.
Маринка поднялась и подошла к двери.
– Слышь, дочка, – зашептал Климов, – верно, нашему комбригу лучше?
– Да. А что вы хотели, Василий. Прокопыч?
– А вот, – трубач подал ей костыли, которые до этого держал за спиной, – для товарища комбрига. Сам делал.
– Хорошо, спасибо… А кто это здесь цветы набросал?
– Не знаю, не видел. Дочка, там ребята интересуются, скоро ли наш комбриг встанет?
– Теперь скоро. Недели через две.
– Вот хорошо. Так ты это передай и скажи: Климов, мол, делал.
– Обязательно. Можете быть спокойны, Василий Прокопыч.
– Ну, то-то же.
Трубач кивнул Маринке и пошел по улице. Ему хотелось поделиться с товарищами радостной вестью. Он решил первым долгом зайти к Кузьмичу и, кстати, попросить у него мази.
Но лекпома в кибитке не оказалось. На дверях висел замок. Зная, где находится ключ, Климов открыл дверь и вошел в комнату. Посредине стоял сколоченный из жердей стол с двумя табуретками. Койка, застланная ватным одеялом, и небольшой шкафчик завершали убранство комнаты. На стене висело схотничье ружье. «А на что ему ружье? – подумал трубач. – Может, на охоту собрался?..»
Не зная, чем заняться до прихода приятеля, Климов стал искать в шкафчике мазь. Тут были всевозможные склянки, бутылки и баночки с такими затейливыми названиями на сигнатурках, что трубач только сердито сопел и отмахивался. Он уже хотел было закрыть дверцу, как вдруг его внимание привлекла стоявшая в глубине большая бутылка.
Он взял бутылку, повертел ее в руках и уставился на этикетку.
– «Туркспирт», – прочел Климов, не веря глазам. – Ух ты, пес! – воскликнул трубач. – Ай да Федор Кузьмич! Ну погоди, пусть только придет! Заставлю его угостить. Выпьем за здоровье нашего комбрига.
Он осторожно поставил бутылку на место.
За стеной послышался тихий жалобный визг.
Климов сразу же сообразил, что скулят запертые в соседней кибитке собаки. Он вышел из комнаты, раздумывая, постоял на пороге и решил посмотреть на собак.
Сквозь щелку были видны в темноте только три пары мерцающих глаз.
Сняв деревянный засов, трубач распахнул двери.
– А ну, братцы, выходи на прогулку! – крикнул он весело.
Собаки выскочили из кибитки, набросились на трубача и, облизав ему руки, губы и усы, принялись носиться по кругу. Здесь были серый, с могучей грудью, лобастый Мишка, рыжий Бек и белый Снежок.
– Ну ладно! Хватит! Довольно! – покрикивал Климов. – Слышите? Кому говорю? Залезай обратно! А то хозяин вернется, попадет мне за вас.
Но собаки не проявляли ни малейшего желания возвращаться в заточение. В приливе восторга они с громким лаем носились как угорелые.
– Ну и пес с вами, – решил трубач. – Гуляйте на здоровье. «Но что же это Федор Кузьмич не идет?» – подумал он с досадой. Он вошел в комнату и, покашливая, остановился у шкафчика. Искушение было так велико, что трубач уже протянул руку к дверце, но тут же отдернул ее.
Известно, что человек, когда захочет, всегда найдет себе оправдание. Так и Климов, немного подумав, он решительно достал бутылку, налил мензурку и коротким движением смахнул содержимое в рот.
– О-о! Вот это да! – с довольным видом воскликнул он, шумно выпуская воздух через усы. – А ведь верно говорится: рюмочку выпьешь – другим человеком станешь. А другой человек тоже не без греха – сам выпить хочет, – сказал он, повторяя прием.
Он сел за стол, поставив бутылку перед собой.
– А, Михаил! Почет и уважение, – сказал трубач, посмотрев на пса, который вошел в комнату и присел у койки напротив него. – Ты что же один? А твои товарищи где?
Мишка улыбнулся и, как показалось трубачу, с осуждающим видом вильнул хвостом.
– Что, осуждаешь? – заговорил Климов, хмелея. – Напрасно, песик, старика грех осуждать. Это которого молодого – пожалуйста. А мне скоро и тово – помирать… И, между прочим, она, водочка, вошла мне в потребность души, – сказал он, подливая в мензурку.
Подходя к своей кибитке, Кузьмич услышал, как чей-то хриплый голос пел разудалую песню:
…Справа повзводно сидеть молодцами, Не горячить понапрасну коней…
«Кто это?»– с тревогой подумал лекпом, теперь уже ясно слыша, что поют в его кибитке. Он открыл дверь и вошел в комнату.
Климов сидел за столом, расположившись как дома. Перед ним стояла наполовину пустая бутылка.
Кузьмич глянул на этикетку и ахнул.
– Василий Прокопыч! Что же это такое? А? Я вас спрашиваю? – крикнул он трагическим голосом.
Климов отмахнулся, стукнул по столу кулаком и грянул в ответ Преображенский марш:
Знают турки нас и шведы…
– Василий Прокопыч, я вам говорю! – весь побагровев, крикнул лекпом, ударяя кулаком по столу. – Что это вы безобразничаете? Совести у вас нет! Почти весь запас выпили! А я к Новому году берег! – Он взял бутылку, убрал ее в шкафик, и тут на голову Климова посыпался целый град нравоучений. Кузьмич пообещал ему белую горячку, разрыв сердца и паралич.
Высказав все это, лекпом несколько успокоился, но Климов сам подлил масла в огонь. Он расправил усы и сказал, что такой замечательной штуки в жизни не пил.
– Анахорет! – выругался Кузьмич, использовав подслушанное где-то слово и не понимая смысла его.
При этом слове весь хмель вылетел из головы трубача.
– Как?! Чего?! Как вы сказали?! – зловещим шепотом спросил старик, поднимаясь из-за стола.
– Анахорет вы… собачий! Вот вы кто! – крикнул лекпом, быстро оглянувшись на дверь.
– Анахорет? Собачий? Да я вас за такие ваши слова в лепешку расшибу!
В просвете дверей появился Ладыгин.
– Что тут за шум? – опросил он, оглядывая обоих приятелей.
– Да как же, товарищ командир! – сказал Климов с обидой. Он показал на лекпома. – Такие слова выражает. Анахорет, говорит, извиняюсь, собачий!
– Вы что, пьяны?
– Никак нет. Ни в одном глазе.
– Так что же у вас тут произошло, товарищ лекпом? – снова обратился Иван Ильич к Кузьмичу.
– Да вроде ничего особенного, товарищ командир. Так, поспорили малость.
– Нехорошо. Старые люди, а на весь кишлак крик подняли. Смотрите, чтоб больше не слышал.
– Слушаемся, товарищ командир, – сказал Климов покорно. – Он был поражен великодушием друга, и его терзали угрызения совести.
– Чье это ружье? – спросил Ладыгин.
– Товарища военкома Седова, – ответил Кузьмич. – Выпросил у него уток пострелять.
– Вы что, один собираетесь?
– Нет.
– Ну добре. Только, как пойдете, дежурного предупредите, чтобы не получилось напрасной тревоги… Ну, смотрите, друзья, больше не шуметь и не ссориться.
Ладыгин вышел из комнаты.
– Федор Кузьмич, а комбриг-то наш поправляется, – начал Климов, пытаясь завязать разговор.
– Мне это известно, – сказал хмуро Кузьмич. Он стал молча перебирать свои склянки и банки.
«Свинья, как есть свинья, – думал Климов, испытывая жгучее чувство раскаяния. – И как это меня угораздило, старого черта? Такой душевности человек, а я жаловался на него командиру».
– Федор Кузьмич, – заговорил он, теребя усы. – Федор Кузьмич, вы сердитесь? Простите, голубчик. Я, как получку получу, отдам вам за эту бутылочку.
– Да не надо мне ваших денег, Василий Прокопыч! Дело не в деньгах, а в совести человека. Факт. Нельзя своевольничать… А если вы думаете, мне для вас спирта жалко, так это, факт, неверно. Мне не спирта жалко, а за сердце ваше опасаюсь. Оно у вас, как овечий хвост, дрожит, перебои дает. Вам пить много нельзя, ведь вы… – Лекпом оборвал на полуслове и повернулся к окну.
Снаружи послышался приближающийся неистовый лай. Потом в окно влетел взъерошенный рыжий клубок и с размаху шлепнулся на глиняный пол. Собаки, заливаясь лаем, прыгали под окном.
– Федор Кузьмич, глядите, кот ваш подох, – сказал Климов. Он показал на лежавшего без движения рыжего кота.
– Зачем подох? Он не подох, – заметил Кузьмич, поднимая кота и приникая ухом к его пушистому брюху. – Обморок у него. Собаки напугали.
– Обморок? Да разве у котов может быть обморок?
– Факт. Сколько хотите. Сейчас ему валерьяночки дам, и все будет в порядке.
Кузьмич накапал в рюмку валерьяновых капель, добавил воды и влил коту в рот.
– А кто же это моих собак выпустил? – спросил он, выпрямляясь и подозрительно косясь на товарища.
– Я выпустил, Федор Кузьмич, – сознался Климов, не глядя на него. – Жалко ведь. Они у вас, как каторжные, в потемках сидят.
– Иначе нельзя. Дисциплина. Я же их дрессирую. У меня все по часам, – сказал лекпом с важным видом.
Он вышел, загнал собак на место и, возвратившись, предложил Климову пойти вместе с ним на охоту.
На это трубач ответил, что был бы очень рад поохотиться, но ему надо идти строить театр.
– Вы же сами знаете, Федор Кузьмич, – говорил он, – мы работаем с раннего утра до жары, а как жар спадет, снова трудимся до вечера. Как же я пойду с вами? Я военкому, товарищу Бочкареву, слово дал окончить работу к пятнадцатому сентября. Всего две недели осталось.
Тогда лекпом пригласил трубача зайти вечером поужинать, потому что он старый охотник и, конечно, собьет пару уток или гусей.
Хотя Климов имел основания сомневаться в том, что Кузьмич когда-либо охотился прежде, однако он не без удовольствия принял приглашение и, ласково взглянув на шкафик, удалился…
Кузьмич взял с собой на охоту чайханщика Гайбуллу. Он договорился с ним заранее. Гайбулла попросил Кузьмича показать ему ружье, которое почему-то называл берданкой. Осматривая ружье, он причмокивал языком и приговаривал:
– Ай-яй-яй! Якши бирдянка! Коп якши! Много ли давал?
Стоимость ружья ввергла старика в величайшее изумление.
– Сту двасать пьять рубля! Ай-яй-яй! А сажень трисать бьет?
– Дальше. Куда там тридцать! – сказал Кузьмич уверенно, хотя сам не знал, на какое расстояние оно бьет, потому что первый раз в жизни выходил на охоту.
Они вышли за кишлак и направились по тропинке, протоптанной среди камышей. Впереди, подняв обрубок хвоста, бежал Мишка. Он надменно посматривал по сторонам, словно сознавал всю важность исполняемых им обязанностей.
Перед ними постепенно расступались могучие дебри камышей. На далеких открытых плесах темнели шевелившиеся под солнцем стан диких уток и гусей. То и дело из-под их ног тяжело взлетали фазаны. Но едва Кузьмич успевал вскинуть ружье, как они скрывались среди камышей.
– Мана, мана! – зашептал Гайбулла, схватив лекпома за руку. Он показывал вперед, где на острове среди болота, громко курлыкая, отплясывали друг перед другом два журавля. Они всхлопывали крыльями и неловко подпрыгивали на узловатых и длинных, как жерди, ногах, вертя большими носами.
– Айда, пажаласта, из бирдянка стреляй, – задыхающимся от волнения голосом шептал Гайбулла.
– Зачем я их буду стрелять? – возразил Кузьмич. – Мы их не едим. А зря бить жалко.
Вдруг он вздрогнул и чуть было не выронил ружье. Рядом с ним с визгом выскочил из кустов молодой кабан.
– Мана чушка! Стреляй!!! – не своим голосом заорал Гайбулла.
Лекпом быстро прицелился, выпалил и промахнулся. Гайбулла с осуждающим видом покачал головой.
– Ай-яй-яй, – сказал он, – твой бирдянка мало-мало плохо стреляй…
Вблизи поднялась большая стая гусей. Кузьмич снова прицелился и выстрелил из второго ствола. Ему показалось, что один гусь начал падать, но потом выправился и полетел, заметно отставая от стан.
– Падай! Падай! – яростно кричал Кузьмич, грозя кулаком. – Я же тебя убил! Падай, черт тебя забодай! – Лекпом бросился за гусем и тут же увяз по пояс в трясине.
– Мало-мало ходит нету, – говорил Гайбулла, помогая ему выкарабкаться на твердое место. – Надо дорогу знайт хорошо, тогда можно ходит.
Но гусь действительно падал. Мишка, словно одержимый, понесся за ним, не слушая воплей не поспевавшего за ним Гайбуллы, который, подобрав полы халата, побежал по тропинке. Кузьмич тоже направился было за ними, но сапоги от налипшей на них грязи стали пудовыми, и он, тяжело дыша, остановился.
В эту минуту тонкие стебли раздвинулись, и сильная рука, схватив Кузьмича за воротник гимнастерки, увлекла его в камыши. Потом послышался сдавленный крик, шум борьбы, и все смолкло…
Поздним вечером Лихарев, отпустив сидевшего у него доктора, сказал Маринке, что чувствует себя совсем хорошо, и она тоже может идти отдыхать. Возможно, что он говорил это с тайной надеждой снова увидеть Лолу, которая, может быть, придет на смену Маринке, хотя он и не был в этом твердо уверен, так как уже знал, что Лола только два-три раза случайно подменяла сестру.
Пожелав ему спокойной ночи и напомнив дежурному санитару, чтобы он почаще наведывался к командиру бригады, Маринка ушла.
Лихарев остался один. Он лежал, закинув руки, и старался спокойно обдумать услышанное сегодня. Доктор Косой рассказал ему об исчезновении командира взвода Кастрыко, о работе, проведенной в разграбленных и сожженных басмачами кишлаках. Кудряшов и Федин с отрядом не только помогли дехканам полностью восстановить селение, но, кроме того, выделили им лошадей из числа забракованных.






