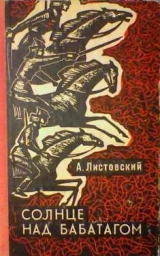
Текст книги "Солнце над Бабатагом"
Автор книги: Александр Листовский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
– Благородный народ, – заметил Кудряшов.
– А что это Федина не видно? – спросил Бочкарев, оглядываясь на командира полка.
– Поехал обоз посмотреть…
Солнце садилось. В ущелье постепенно темнело. Вдали, на снеговой вершине, сверкнул последний солнечный луч и сразу угас. Тени все больше густели. Отроги гор сливались в неясно черневшую массу. Заблестели звезды. Млечный Путь серебристой полосой протянулся по темно-зеленому, небу.
Лихарев полез в карман за портсигаром, но в эту минуту впереди, где шла головная застава, блеснул огонек и сухой звук выстрела прокатился в горах.
Тревожное оживление прошло по колонне. Этот выстрел напомнил, что каждый шаг бригады видит и сторожит невидимый враг, а горы таят не ясную еще опасность.
Напряжение, овладевшее людьми, передалось лошадям. Без понуждения всадников они пошпли быстрее, тем мягким пружинистым шагом, с которого так легко перейти сразу в галоп.
По ущелью часто рассыпались выстрелы. Торопливо застучал пулемет.
На похудевшее в походе лицо Лихарева легло озабоченное выражение. Вытянув шею, он пристально смотрел в ту сторону, оттуда слышались выстрелы; стараясь разглядеть что-либо в темноте, но впереди ничего не было видно. Тогда он подозвал Кудряшова; приказал ему вести колонну, а сам с Бочкаревым поскакал к заставе.
Еще при первом выстреле Вихров, ехавший и рядом с Седовым, весь как-то внутренне подобрался. «Ага; началось, – подумал он. – Вот и проверка молодым бойцам. Посмотрим, как они себя покажут». Его охватило желание пришпорить Гудала и умчаться вперед, туда, где щелкали выстрелы, но, хорошо зная, Что ничего того делать не надо было, он только проверил, хорошо ли выходит шашка из: ножен, и расстегнул кобуру. Перестрелка затихла. От головы колонны, все приближаясь, слышался отчетливый, в три такта, стук копыт скачущей лошади. Подъехал начальник штаба с приказом командира полка не растягиваться, а идти в хвосте первого эскадрона. Ладыгин спросил, кто стрелял. Начальник штаба сказал, что стреляли в разъезде, который попал на засаду, И один боец ранен. Предупредив еще раз, чтобы бойцы не растягивались, начальник штаба поскакал навстречу идущему в глубине третьему эскадрону.
У поворота ущелья неясно чернели фигуры бойцов: Подъехав ближе. Вихров увидел, что они склонились над лежащим человеком. До его слуха донеслись слабые стоны и голос Лихарева: «Ничего, ничего: Потерпи, дружок, теперь лучше будет…»
– Иван Ильич, от какого эскадрона разъезд? – спросил Седой.
– От первого. А что?
– Значит, кто-то из моих бойцов ранен, – сказал Петр Дмитриевич с озабоченными нотками в голосе. Он придержал лошадь, повернул в сторону и исчез, словно растаяв во мраке.
Ладыгин знал, что Седов во время зимней стоянки занимался с молодыми бойцами первого эскадрона, и его нисколько не удивило, что Петр Дмитриевич до сих пор считает этот эскадрон своим.
Колонна продолжала движение.
Позади Ладыгина послышались тихие голоса. Он прислушался.
– А по мне, Федор Кузьмич, лучше наповал, чем в живот, – сипло сказал один из бойцов.
– Факт! – авторитетно подхватил другой. – В живот – гиблое дело. Куда ему теперь деваться? Надо бы ему сейчас в госпиталь, да эту, как ее там, тампонацию наложить. А здесь что? Эвон глушь какая. Одни горы, черт их забодай. Какая же здесь может быть тампонация? – авторитетно повторил он последнее слово.
Голоса смолкли.
Месяц зашел за гору. Совсем потемнело. Ночные шумы постепенно смолкали. Затих стрекот кузнечиков. Умолкли птицы. И только глухой конский топот, изредка перебиваемый фырканьем лошадей, мерно катился по ущелью.
Чем дальше шла бригада, тем выше поднималась она в горы. Дорога шла зигзагами, поднимаясь вверх к перевалу.
Короткая ночь кончалась. Небо начинало светлеть. Проступали не ясные еще контуры гор.
Вихров с, волнующем нетерпением посматривал вперед. Ему, как и многим, казалось, что там, за черневшим в высоте перевалом, откроется, наконец, та таинственная страна, Восточная Бухара, о которой он столько слышал во время стоянки в Каттакургане… Но едва колонна выходила на перевал, как впереди появлялись новые горы, все более крутые и неприступные.
На одном из привалов Седов догнал эскадрон.
– Ну как? – спросил Ладыгин.
– Врач говорит, жив останется, – весело сказал Петр Дмитриевич, – А в общем; говорит, редкий случай. Кишки не задеты.
– Куда вы его поместили?
– В обозе. И ведь экий, отчаянный! Сам виноват. Без команды вперед бросился… Минуточку, Иван Ильич. Вихров, у кого вода есть? Дайте глоточек.
– А вон у Крутухи возьми. У него запасная фляжка, – сказал Ладыгин.
Седов взял флягу у ординарца, напился и вытер усы.
– Как там обоз? Не видал? – спросил Ладыгин.
– Еле ползет. Гляди, круча какая. Да, пришлось сестру Марину посадить к нам на повозку. Она верхом ехать не может.
– А что с ней случилось? – тревожно спросил Вихров.
– Ногу раненую зашибла. И главное, еду, вижу кто-то идет, прихрамывает. Пригляделся – Марина Васильевна! Еле уговорил сесть. Говорит, лошадям и так тяжело.
– Чудная девушка, – тихо заметил Ладыгин.
– Да. А у нас трофей, – сказал Петр Дмитриевич.
– Какой трофей, товарищ военком? – поинтересовался Крутуха.
– Жеребца взяли у басмачей. Ну, прямо лев! Загляденье!
– А у меня беда с конем, – сказал Иван Ильич.
– Что такое?
– Да не годится он для гор. Англичанин. Ему бы только на скачки… Смотри, как дрожит. Весь согнулся… А в прошлом году, как в Гилян шли, чуть было в пропасть не сорвался…
У перевала послышалась команда. Колонна тронулась.
Пройдя еще несколько верст, бригада вышла на плоскогорье и остановилась на большой привал.
Рассветало. Впереди, в широкой расщелине, горели лучи не видимого еще солнца.
На горизонте, где розоватые облака, словно дымясь, клубились в голубом небе, внезапно брызнули снопы багровых лучей и, заливая золотисто-алым сиянием вершины ближайших гор, показался пламенеющий шар солнца.
Над ним, в глубине, на фоне густой еще синевы, постепенно возникали вверху белые шапки снеговых гор.
В закрытой скалами долине, где расположились на отдых бригада, пока еще лежала глубокая тень.
Солнце поднималось все выше, туман таял, открывая перед глазами Вихрова величавую панораму гор, словно бы награможденных величайшим землетрясением.
Бесшумно падавшие водопады, похожие на кусочки ваты, сверкали где-то вверху, а под ними раскинулись зеленые просторы альпийских лугов.
Эта картина захватила и ошеломила Вихрова. Он впервые видел первобытную, дикую, но могучую природу. Над горами стояла торжественная тишина, и ему казалось, что все вокруг объято заколдованным сном.
Нигде не было заметно движения, и только одинокая желтая бабочка тихо порхала с цветка на цветок в высокой, по пояс, траве. Цветов было много. Тут были синие, голубые и лиловые колокольчики, серебристые эдельвейсы, герань, алые маки и похожие На хризантемы альпийские гвоздики.
А дальше, в конце долины, где горы подступали к дороге, высились два исполинских острых утеса. Как гигантские часовые, стояли они близ отвесной скалы, словно сторожа вход в раскинувшуюся за горами страну.
Когда-то по этим местам, сверкая блестящими латами, прошли грозные отряды Александра Македонского, спустя века на маленьких косматых лошадях пронеслась конница Чингисхана, а вслед за ней прохромал, стуча железной пяткой, жестокий Тамерлан.
Все это уже давным-давно кануло в прошлое, вечным напоминанием о котором были только два утеса – древний памятник Железных Ворот.
Вихров посмотрел по сторонам. Всюду, куда бы он ни смотрел, громоздились горы. Серебристо-серые и лиловые, меловые и известковые – все только горы и горы, без, конца и без края. Глядя на них, он почти физически ощутил глубокую оторванность от привычного ему мира. Это тяжелое и тоскливое чувство в первую минуту так подавило Вихрова, что у него невольно зашевелились мрачные мысли. Но когда он вновь посмотрел перед собой и увидел ярко светившее солнце и, главное, бойцов, спавших неподалеку от пасущихся лошадей, мысли эти тотчас оставили его, и он даже рассердился на себя за минутную душевную слабость.
– Какая красота, товарищ командир! – тихо сказал Суржиков.
Вихров оглянулся. Взобравшись, на скалу, Суржиков смотрел на горную панораму.
– Почему не спите? – удивился Вихров.
– Да разве заснешь, когда картина такая? – Суржиков показал вдаль. – У нас, на Тереке, тоже есть красивые места, но таких я еще не видал.
– Вы стихи случайно не пишете? – спросил Вихров.
– Стихи? – на сухощавом лице Суржикова появилось удивление. – Нет, не приходилось. А что?
– Да так. Ну, пойдем спать…
Вихров спустился с камня и направился в эскадрон.
На повозке, вытянув больную ногу и чуть приоткрыв рот, крепко спала Маринка. Тут же у колес лежал черный, как цыган, ездовой Грищук. Это был прижившийся в полку пожилой человек, славившийся неизменным спокойствием. Он лежал на спине, выставив начинающую седеть курчавую бороду.
Вихров прошел дальше и, найдя Кондратенко, расположился подле него.
Солнце перевалило за полдень. Кашевары давно раздали обед. Бойцы копошились у седел. Кто разминал подсохший потник, кто осматривал ковку.
Около повозок хозяйственной части горячился, размахивал руками маленький безусый квартирмейстер Осташов. На его левом плече, как гусарский ментик, висел коротенький полушубок, который он носил и лето и зиму. Наступая на окружавших его фуражиров, Осташов обычной скороговоркой сердито выкрикивал:
– Да-с! Да-с! Я же сказал вам, что ни одного фунта больше не дам. Будьте уверены, да-с!.. Да вы что? Учить меня собрались? Я на польском фронте десять суток полком командовал, да-с! За это десять суток под арестом сидел, да-с! Я, братцы, ученый… Нет, нет, и не приставайте, ничего больше не дам!
– Ты – что расшумелся? – спокойно спросил Федин, подходя и пытливо глядя на квартирмейстера.
– Да как же, товарищ комиссар, – быстро заговорил Осташов, – Я вчера им по десять фунтов ячменя выдал на лошадь, а они еще просят. Вот приедем в Дербент – пожалуйста.
– В Дербент? А ты смотрел на карте, по какой круче к Дербенту спускаться?
– Нет, не смотрел, – нерешительно сказал Осташов.
– То-то же! Так ты посмотри, – посоветовал Федин, – Самому будет лучше, если брички пойдут налегке. А? Как ты полагаешь?
Осташов быстрым движением сбил фуражку на лоб.
– А ведь верно, товарищ комиссар, – произнес он с виноватой улыбкой. – Как же это я не догадался?
– Вот вы всегда так, молодые люди… Зерно выдай. Я и то хотел поговорить с командиром полка, чтобы весь фураж раздать во вьюки… А вы, товарищи, предупредите бойцов, – продолжал Федин, оглядев фуражиров. – Скажите, чтобы кормили по норме. Смотрите, я проверю. В общем – под вашу ответственность.
– Будьте спокойны, товарищ комиссар, – сказал тонким голосом фуражир Пейпа. – Все будет в порядке.
Федин доверительно взял Осташова под руку и отвел его в сторону.
– Я хочу сказать тебе несколько слов, – заговорил комиссар, внимательно глядя в лицо Осташова своими светлыми глазами. – Короче говоря, ответь мне на вопрос: почему ты постоянно кричишь? Разве ты не умеешь спокойно говорить?
– Так, товарищ комиссар, вторую ночь не сплю. Ну, погорячился немного.
– Это не оправдание, – сказал Федин, нахмурившись. – Так вот запомни, – продолжал он, машинально застегивая пуговицу на воротнике Осташова. – Крик в отношениях с подчиненными – это прежде всего невыдержанность. Да. А командир не может быть невыдержанным, Кричит тот, кто не уверен в себе. Ясно?
– Ясно, товарищ комиссар.
– А на переутомление сваливать не надо. Возьми в пример нашего командира бригады. Он работает гораздо больше тебя, а ты слышал, чтобы он хоть раз на кого-нибудь крикнул?.. Нет? Ну смотри, брат. В общем, возьми себя в руки. Иначе поссоримся. Вот.
Федин достал портсигар.
– Закуривай, – предложил он Осташову.
Квартирмейстер взял папиросу.
Федин тоже закурил, кивнул Осташову и пошел к костру, возле которого сидели бойцы.
Лихарев, склонившись над развернутой картой, промерял спичкой дальнейший маршрут, До Юрчей и Регара, где должны были расположиться полки, оставалось около двухсот верст, но по трудности пути, как думал Лихарев, они стоили всех пятисот. На этом переходе бригаде предстоял крутой спуск в глубокую котловину. Но наиболее тяжелым участком дороги была Долина Смерти. Там предстояло пройти за один переход в сильную жару почти шестьдесят верст без воды.
«Так вот как мы поступим, – решил Лихарев. – Сделаем дневку в Байсуне и со свежими силами проскочим долину», – Он бросил спичку и, услышав шаги, поднял голову.
– Товарищ комбриг, чай будете пить? – спросил Алеша.
Он нагнулся и поставил жестяной чайничек около бурки.
– Да. Только сначала приведи лошадь, что ночью взяли. Хочу посмотреть.
– Ты что? – спросил проснувшийся Бочкарев. Он приподнялся на локте и, вынув платок, вытер мокрое от пота лицо. – Смотри, как припекает, – проговорил он, убирая платок. – Ну, это еще пустяки. А вот спустимся с гор, так совсем жарко будет.
– Гляди, ведет, – показал Бочкарев. – Эх, ну и красавец конь!
Алеша подводил крупного золотистого жеребца, крепко держа его под уздцы. Рядом с ним шел Мухтар.
Жеребец высоко нес голову, гордо ступая тонкими упругими ногами. На его широкой груди катались клубки крепких мускулов.
Алеша подвел его и сильной рукой разом поставил перед Лихаревым. Жеребец с храпом раздувал розовые ноздри, косился на незнакомых людей, принюхивался и тревожно перебирал ногами.
– Еще не привык. Дух от нас другой, – заметил Алеша. – Ну и варнак! Уже один недоуздок порвал. Чисто беда!
– А ну, попробуй его рысью, – сказал Лихарев.
Алеша освободил повод, но жеребец с силой рванулся, взвился на дыбы и, хищно оскалив зубы и распушив хвост, заходил на задних ногах.
– Буцефал! – с восторгом сказал Бочкарев.
– Хорош, хорош, – приговаривал Лихарев. – Обрати внимание, какие копыта.
– А ноги? А щея?
– Зверь, а не конь, – подтвердил Лихарев. – Бойцы обычно зовут таких змеем. Посмотри, какая могучая грудь… Видимо, на нем ездил какой-нибудь курбаши… Ишь, что разделывает!
– Хорошая лошадь, – сказал Мухтар.
Лихарев обошел вокруг жеребца, который, высоко вскидывая переднюю ногу, рыл землю копытом.
– Попробуем определить его породу, – сказал Лихарев, – Это не карабаир, не иомуд и не ахалтекинец… По-моему, это чистокровный персидский аргамак. И по формам и по масти подходит. Да, несомненно, это персидская лошадь, – повторил Лихарев с твердой уверенностью. – Древние историки и поэты писали о ней так: «Быстрая, как олень, смелая и сильная, как лев, пылкая и выносливая лошадь солнечно-золотистой масти или цвета утренней зари…» Положим, я читал» в каком-то романе о вороных аргамаках, – заметил Лихарев, усмехнувшись, – ну ладно, пусть сие лежит на совести автора. Аргамаки бывают только золотистые… – Лихарев приблизился к жеребцу, нагнулся, поднял его переднюю ногу и осмотрел ковку.
– Ты себе его возьмешь? – спросил Бочкарев.
– Нет. Я своего рыжего ни на кого не променяю. У меня есть предложение.
– Ну?
– Давай отдадим его самому старому в бригаде буденовцу. Кто у нас самый старый по службе?
Бочкарев, поморщив лоб, прикинул что-то в уме.
– Самый старый? – повторил он, – У нас есть ветеран, служивший еще в партизанском отряде Буденного.
– Кто?
– Командир второго эскадрона 61-го полка товарищ Ладыгин, Иван Ильич, – сказал Бочкарев.
– Вот и великолепно, – подхватил Лихарев. – У Ладыгина, кстати, английская лошадь, на которой ездить здесь все равно не придется.
Лихарев позвал адъютанта и приказал ему вызвать Ладыгина. Тем временем вокруг жеребца собралась пестрая группа джигитов. Обступив его, они щупали ноги, трогали спину, обнимали, приплясывали перед ним и, размахивая руками, шумно переговаривались, обсуждая достоинства лошади. Один из джигитов, совсем еще молодой и показавшийся Лихареву знакомым, бесцеремонно полез в рот жеребцу посмотреть его зубы.
– Ну как? Хороша лошадь? – спросил по-узбекски Лихарев молодого джигита.
– Оченн карош, – ответил джигит.
Лихарев с любопытством посмотрел на него.
– Откуда ты знаешь русский язык? – спросил он с удивлением.
– Так это же Парда, – пояснил Бочкарев. – Он второй год в полку.
– Парда? – Лихарев внимательно посмотрел на молодого локайца, стараясь запомнить его. – А-а, так вот он какой! Молодец! Слышал о вашем геройстве.
Подошедший Ладыгин отчетливо доложил о прибытии.
– Так вот, Иван Ильич, – обратился к нему Лихарев. – Комиссар бригады и я решили сделать вам подарок, как отличному командиру. Примите от нас эту лошадь, – он показал на волновавшегося жеребца, которого крепко держал Алеша.
– Товарищ комбриг! Мне?! – спросил Ладыгин, не веря своим ушам и краснея. Еще подходя, он опытным глазом знатока определил и оценил достоинства лошади. – Да нет, товарищ комбриг… Такой конь!.. Да нет, что вы! Вы себе его возьмите…
– Вопрос решен, товарищ Ладыгин, – твердо сказал Лихарев. – Алеша, передай лошадь командиру зскадрона.
– Ну спасибо.!. Ну прямо даже не знаю, как вас благодарить. Такого коня! – говорил Иван Ильич, принимая поводья. Лицо его выражало неудержимую радость, от волнения он даже чуть пошатнулся, крепко взяв жеребца под уздцы.
– Рекомендую назвать его Тур-Айгыром, – сказал Лихарев.
– Тур-Айгыром? А что это значит, товарищ комбриг? – поинтересовался Ладыгин.
– Был такой жеребец. Он славился выносливостью, быстротой хода, а главное – преданностью хозяину.
– А ведь и верно – ласковый, – заметил Алеша.
Иван Ильич, не зная, что и ответить, повел жеребца в эскадрон.
Лихарев и Бочкарев проводили долгим взглядом Ладыгина и, улыбаясь, посмотрели один на другого.
– Смотри, Кто идет, – сказал Бочкарев.
Неслышно ступая Худыми босыми ногами, к ним подходил высокий старик. Его почти нагая, словно высушенная солнцем фигура, прикрытая накинутой на голое тело овчиной, ветхая чалма и длинный, выше головы, загнутый посох в руке были так колоритны, что казалось, он только что сошел с пожелтевших страниц старинной книги.
Рядом с ним спокойно шла белая овчарка с обрубленным хвостом и ушами.
– А я знаю его, – сказал Лихарев. – Это местный пастух. В прошлом году он провел мой полк по таким местам, где, кроме него, не ступала нога человека.
Старик не спеша подошел, величавым движением провел по начинавшей желтеть бороде и молча, с достоинством поклонился, приложив руку к груди.
Лихарев сказал пастуху что-то. Лицо старика оживилось. Строгими глазами он пристально посмотрел в лицо Лихареву, несколько раз подряд кивнул головой и, придерживая посох обеими руками, медленно опустился на корточки.
Лихарев присел против него.
Они начали разговаривать.
Бочкарев заметил, что лицо Лихарева стало озабоченным. Когда же пастух понизил голос до шепота, Лихарев с досадой покачал головой.
Потом старик поднялся, позвал собаку и медленно удалился.
– Насколько я понял, он сказал мало хорошего, – заметил Бочкарев.
– Да, – сказал Лихарев. – Ибрагим-бек беспощадно расправляется со всеми, кто как-либо помогал нам в прошлом году. Множество людей казнено. Головы их возят по кишлакам для устрашения народа. Главари басмачей насильно заставляют население клясться, на коране не помогать нам… Очень плохо, что нашим частям пришлось уйти из Восточной Бухары после разгрома Энвер-паши.
– А почему вы ушли?
– Год был неурожайный. Кормить бойцов было нечем. А доставлять сюда продовольствие и фураж по торным дорогам невозможно. Бот и пришлось выбирать; или обречь народ на голод, или уйти. – Лихарев взглянул на часы. – Ну, скоро пора двигаться, – сказал он. – Давай, Павел Степанович, попьем чайку на дорогу…
Повозки тарахтели по каменистой дороге. Ездовые понукали, покрикивали на уставших лошадей.
– Я, хорошая моя, медицину очень даже уважаю, – говорил ездовой Грищук, обращая свое бородатое, с большим носом лицо к сидевшей рядом Маринке. – Если б не медицина, то я бы давным-давно пропал. Да. Меня бешеный пес покусал. Полканом звали… Ах, чтоб ты сдох, дармоед! – вдруг вскрикнул Грищук, опуская кнут на левую в паре лошадь. – Обратите внимание, сестрица, до чего несознательный этот конь! Ну никак не тянет, притворяется. И потеет для виду. Уж такой хитрющий.
– А как же вас все-таки, собака-то покусала? – спросила Маринка, желая продолжить начатый ездовым рассказ.
– Как покусала? Да очень просто. В восемнадцатом году получил я отпуск по ранению. Я сам тульский житель, деревни Дедилово. Может, слыхали? Ну, приезжаю. А хозяйства у меня всего одна хата и этот самый Полкан… Жену-то я еще в ту войну схоронил. Пошел до брата. Давай, говорю, моего Полкана, все не так скучно мне будет. Ну, пожил с неделю. Только смотрю, пес корму не жрет. Что такое? А тут брат ко мне зашел. Я и говорю, «Полкан, мол, заболел. А он насмешничает. «Эх, – говорит, – беда какая! Корму собачка не ест. Облопалась, вот и не жрет, доктора пригласи, он лекарство ей даст». Пошутил он так и ушел, а дело-то, хорощая моя, и впрямь-таки плохо вышло. Смотрю, мой Полкан совсем странный стал. То визжать начинает, то бродит по хате всю ночь, углы обнюхивает, то лежит целые сутки… И вот раз ночью как взвоет он не своим голосом. Я аж привскочил! А ночь такая лунная… Гляжу, что такое? Стоит посередь хаты какая-то чужая собака. И до чего страшная: шерсть дыбом, голова вниз, с языка слюна, а в глазах пламя горит… Не сразу я и признал в ней Полкана, «Полканушка, – говорю, – что с тобой?» А он как кинется на меня, да – за ноги. И давай их грызть, и давай!.. Ну, тут я догадался, и со всей силы его кулаком по голове! Перевернулся он и пал мертвый. Но уже поздно: ноги-то у меня как есть все покусанные, и кровь бежит. Я схватился – и до брата. А он говорит: «Плохо дело: пес-то ведь бешеный». Ну, тут одну бабку позвали. Теперь-то я соображаю, что это одна морока, но тогда я недопонял:. Да… Приходит та самая бабка и давай меня лечить. Чего лучше: и про море-окиян, и про остров про Буян, и про змею лютую толковала над-ковшиком. И давала мне ту воду пить. А потом с уголька брызгала. Сделала она все это с полным усердием и говорит: «Теперь беспременно будешь здоровый». Взяла сто рублей и пошла.
– Какая же это медицина? – сказала, смеясь, Маринка.
– А вот погодите. – Грищук обещающе посмотрел на нее и продолжал: – Встал я наутро, и тут мне в голову ударило, что все это морока одна. Взял палку и в больницу пошел. От нас двадцать верст больница та. И, понимаете, хорошая моя, в аккурат угадал. Только прихожу, а доктор куда-то собрался. Уж в телеге сидит. Я ему тут все как есть выложил. А он говорит: «Молодец, Грищук, что дурману не поддался. Значит, ты есть сознательный человек». Тут меня, раба божьего, разом в Москву в больницу, где укушенных лечат. Там и вылечили… А ну, сестрица, я слезу, гляди, как круто, – сказал Грищук. Он привстал и ловко выскочил из повозки.
– Я тоже сойду, – сказала Маринка. Она двинула Ногой, но вдруг болезненно вскрикнула, схватившись за стенки повозки.
– Куда? Сиди! – прикрикнул Грищук, строго взглянув на нее.
У перевала стоял сплошной гул. Лошади выбивались из сил: низко опустив головы, с налитыми кровью глазами, они скользили подковами, часто останавливались и шумно водили потными, запавшими боками.
– А ну, берись веселей.! – бодро распоряжался Харламов. – Дуй до горы, а в гору наймем,!.. Ну, орлы, взяли! Поше-е-ел!
Бойцы подхватывали, кто за колесо, кто под кузов, и с дружным криком выкатывали повозки на перевал.
– Немедленно слазь! А ну, слазь к чертовой матери! – зло крикнул Харламов, приметив в одной из повозок голову схоронившегося под брезентом человека. Голова зашевелилась, и показался заспанный писарь Терещко.
– Чего шумишь, старшина? – спросил он сердито.
– Вылазь, говорю! – багровея, крикнул Харламов.
– А может, я больной?
– Вылазь! Знаем мы вас, симулянтов! А ну!
– В чем дело? – спросил Седов, подходя к ним и оглядывая повозку.
Да как же, товарищ военком, – запальчиво заговорил старшина. – Кони падают, а этот вот в бричке барином едет. Я ему шумлю – вылезай, а он, стало быть, еще отговаривается – больной, мол!
– Слезайте, – коротко сказал Седов.
– Ну что ж, и слезу, – согласился Терешко. Он легко выскочил из повозки, постоял, посмотрел, сказал: – Хуже нет, как в гору, – и полез на перевал.
Солнце садилось. С перевала открывался широкий вид на лежавшую под ногами горную панораму.
Обгоняя повозки, прошел рысью 2-й эскадрон, ранее оставленный Кудряшовым в помощь обозу.
– Ладней крепи тормоза! – крикнул, проезжая мимо, Харламов.
Ездовые подвязывали цепи к задним колесам, в последний раз проверяли упряжку.
Впереди прозвучала команда. Обоз Тронулся, оставляя большую дистанцию между повозками.
– Ну, сестрица, поехали, – спокойно сказал Грищук. – Господи благослови…
Он тронул вожжи. Бричка покатилась, подпрыгивая на каменистых неровностях. Быстро темнело. Но еще были видны бесконечные петли спускавшейся в глубокую котловину узкой дороги.
Засмотревшись на закат, Маринка не сразу заметила под ногами бездну. Она похолодела, увидев, что колеса катились почти по самому краю обрыва. «Ну вот, – подумала девушка. – Того и гляди, разобьемся, а я не ответила на последнее Митино письмо». Но ей вдруг стало стыдно. «Едут же другие, – подумала она, – и, конечно, Никто не боится. А разве я трусиха? Нет. Значит, и я не должна бояться…»
Солнце померкло. Из глубины ущелья повеяло холодом. С каждым поворотом горы сходились теснее, дорога становилась круче, и Маринке временами казалось, что передняя повозка проваливается в глубокую узкую штольню…
Месяц вышел над перевалом, залив окрестности призрачным светом. Всюду чернели пропасти, поднимались хребты и острые пики.
Клочья тумана цеплялись за выступы скал, принимая очертания скорченных окаменевших людей и чудовищ. Маринка старалась не смотреть на сбегавшую к Дербенту каменистыми кручами бездну.
Спуск продолжался уже более часа. Внезапно за поворотом, где глубоко внизу слышался глухой рев потока, замигали огни. Они то вспыхивали, то угасали.
– А хорошо, сестрица, что ночью спускаемся, – заметил все время молчавший Грищук, – днем было бы куда страшнее. Как вы считаете?
– Конечно, – согласилась Маринка. – Ой, что это? – тревожно спросила она, чувствуя, как повозка вдруг быстро покатилась под гору.
– Тпру! Тпру! – вскрикнул Грищук. Он уперся ногами в подножку, откинулся назад и натянул вожжи, стараясь, остановить лошадей.
При свете месяца Маринка увидела, как передняя повозка переехала висящий над пропастью мостик.
– Тпру! Тиру! – кричал Грищук. – Тпру, окаянные!
Повозка влетела на шатавшийся из стороны в сторону бревенчатый мостик и, скользнув по самому краю, выкатилась на плоскогорье. Дорога сразу расширилась…
– Ой, – переведя дух, проговорила Маринка, – а я думала, упадем!
Грищук взглянул на побледневшее лицо девушки.
– Что вы, хорошая моя? Разве можно? Тут убьешься, – сказал он спокойно, кивнув в сторону пропасти. – Нате, подержите вожжи. Я посмотрю, что такое случилось. – Он слез с повозки и стал возиться где-то у задних колес. – Ну да, – сказал: он, – цепь лопнула. И, скажи, как она лопнула?
– Это кто? Грищук? – спросил из тьмы голос Харламова.
– Он самый.
– Ну, как у тебя?
– Порядок.
– Снимай цепь. Здесь ровное место.
Грищук снял цепь и прыгнул в повозку. Лошади тронулись. Вскоре показались глинобитные стены и черневшие купы деревьев. Обоз въехал в Дербент.
7
Две смуглые девушки в цветных рубашках до пят сидели на террасе, устланной темно-красным ковром, и вышивали пестрое сюзане. Третья, молодая женщина с поблекшим лицом, присев на корточки и позванивая висевшей на груди завеской монет, быстро вертела ручку поставленной на пол швейной машины.
Несмотря на сильный зной, в небольшом уютном дворике, обнесенном высокими глинобитными стенами, было прохладно. Столетний развесистый тут, абрикосовые деревья и разросшиеся кусты чайных роз отбрасывали густую тень на террасу. Едва слышно журчал проложенный через двор арычек.
– Какая ты счастливая, Лолахон! – нарушая молчание, сказала красивая девушка в голубой тюбетейке.
Лола подняла на подругу черные с желтоватыми белками большие глаза. На ее тонком лице с небольшим правильным носом и мягко очерченным круглым, чуть раздвоенным подбородком появилось удивление.
– Почему ты считаешь, Олям-биби, что я счастливая? – спросила Она.
– Не только я, Сайромхон тоже так думает, – сказала Олям-биби, показывая на молодую женщину, которая шила на швейной машинке..
– В чем же мое счастье, Сайромхон? – спросила Лола.
– В твоем отце, джанечка, – с легкой Грустью сказала Сайромхон. – Я знаю, он-не продаст тебя старику, как сделали со мной… Ох, девушки, не знаю, как и жить дальше, – помолчав, продолжала она. – Всем известно, что лучшей вышивальщицы, чем я, нет во всем Присурханье, а мой Рахманкул – ленишься, говорит. Я ли ленюсь? Дотемна сижу за работой. За месяц вышила три сюзане, а ему все мало… Старой клячей называет. А мне всего двадцать лет. Разве я виновата, что он загубил мою красоту? Разве я виновата, что так рано состарилась? Теперь вот из Ходжа-Малика девочку купил, на меня и остальных жен даже не смотрит, а только ругается и палкой грозится. Разве это жизнь, девушки? – Сайромхон замолчала. На ее глаза навернулись крупные слезы.
– Хорошо жить богатому человеку, – заметила Олям-биби.
– Не надо мне богатого и старого, дай мне хоть бедного, да молодого! – со слезами воскликнула Сайромхон.
– Я слышала, в Регаре одна девушка зарезалась.
– Из-за чего? – спросила Олям-биби.
– Тоже за старика выдали… А у нее, говорят, молодой жених был…
– Отец рассказывал, что в России совсем по-другому Живут, – заговорила. Лола, подбирая под себя босые ноги с розовыми пятками. – Там женщин не покупают и не продают, а если кто друг другу понравился, то и поженятся.
– Счастливые русские женщины, – вздохнула Сайромхон.
Они замолчали;
«Да, меня отец не продаст старику», – подумала Лола. При воспоминании об отце в ее больших лучистых глазах промелькнула любовь и грусть. Последнее время старый Абду-Фатто начал прихварывать, и Лола тревожилась за отца. Абду-Фатто с утра ушел на базар. Сейчас, судя по солнцу, было далеко за полдень: а его все не было, и это очень беспокоило девушку.
Абду-Фатто был любим не только дочерью, но и дехканами. После Октябрьской революции он возвратился из России, где находился на тыловых работах. После этого он переехал в Бухару и вскоре был назначен судьей Юрчинского района, так как был грамотный. На этой должности он и заслужил общее уважение дехкан, потому что, не в пример другим судьям, никогда не брал приношений и судил беспристрастно, не считаясь с тем, бай это был или простой чайрикер. За это Абду-Фатто попал в немилость и был смещен денауским беком Нигматуллой. После того он стал жить, небольшим доходом с возделанного им фруктового сада. Потеряв в прошлом году залеченную знахарем жену, Абду-Фатто больше не женился, а занялся образованием единственной дочери, которую очень любил, и мало-помалу передавал ей весь свой небольшой запас знаний.






