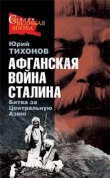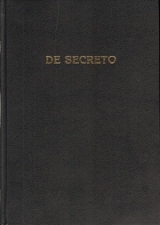
Текст книги "De Secreto / О Секрете"
Автор книги: Александр Островский
Соавторы: Дмитрий Перетолчин,Юрий Емельянов,Андрей Фурсов,Константин Черемных,Кирилл Фурсов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 54 (всего у книги 68 страниц)
3. Спрос на патологию
«В деревне никто не сходит с ума», – утверждал Иосиф Бродский и был неправ. В русской культуре юродивый – фигура совсем не обязательно городского быта, а образы колдуний в фольклоре традиционно помещаются в сельский ландшафт. В деревне душевнобольной заметнее, чем в городе, и его поведение больше контрастирует с бытовой моралью. Особенно поведение «одержимой бесом» женщины – в силу тех особенностей, о которых писали сотрудники Крымского мединститута.
Психотическая патология встречается в любой среде и местности. Другое дело, что предметом всеобщего внимания оказываются известные люди и их окружение. Кроме того, в силу комплекса биологических и генетических причин болезнь приумножается в благородных фамилиях или изолированных религиозных или этнических популяциях. И, кроме того, психическая патология «ходит вместе» с творческими, да и не только творческими талантами. Отсюда появилось меткое французское определение шизофрении как «болезни королей и поэтов».
О взаимодействии таланта и душевной болезни первым из крупных психиатров написал Чезаре (Йезекиэль) Ломброзо, более известный как основоположник криминологической антропологии. Период 1860–1920 гг., когда на фоне упадка монархий на мировую сцену вышли фигуры и движения ниспровергателей, а философия и психология обогатилась новыми яркими и необычными авторитетами, давал много пищи для размышлений. Тем более что этот период обозначился не только прогрессом индустриальной цивилизации, но и стремительным развитием прессы.
Революционная публицистика издевалась над странностями монархов, цепляясь за каждый повод. Охранители устоев, напротив, стремились изобразить больными ниспровергателей. С развитием газетной индустрии критик уравнялся в статусе с художником слова – чему в России способствовал Некрасов, поставивший литературный памятник Добролюбову.
Но ни революционеры, ни философы, ни критики, бросившие вызов консервативным ценностям и классическому художественному творчеству, сколь бы ни вдохновлялись независимостью от влияния на их разум «сверху», со стороны государства и церкви, ничего не могли поделать с «влиянием изнутри». Психозы узников – декабриста Батенькова, землевольцев Ишутина и Худякова, народовольцев Конашевича и Арончика – ещё можно было, на уровне представлений того времени, списать на эффект тяжёлой неволи. Однако самоубийство в депрессии короля литературной критики Дмитрия Писарева в эту интерпретацию не укладывалось. Как и внезапный конец карьеры его коллеги Варфоломея Зайцева, замкнувшегося в себе и ушедшего в монастырь.
«Наконец-то ушло это наваждение», – говорила Наталия Александровна Герцен, когда у неё завершился приступ галлюциноза – и вместе с ним страсть к террористу Сергею Нечаеву. Тяжёлый непрерывно текущий психоз у сына Николая Гавриловича Чернышевского описан в романе Владимира Набокова «Дар».
Сами русские просвещенцы, заимствовавшие взгляд на мир у немецких агностиков и британских эмпирицистов (Локк был вначале кальвинистом, затем социнианцем; Дарвин был атеистом во втором поколении), были склонны объяснять душевные болезни результатом банальных внешних воздействий на гомеостаз организма. Писарев, страдавший биполярным аффективным психозом, маниакальную фазу не считал болезнью, хотя осознавал, что с ним происходит что-то необычное («опрокинув в уме своем всякие Казбеки и Монбланы, я представлялся самому себе каким-то титаном, Прометеем, похитившим священный огонь»), В этом состоянии, которое у него не дошло до крайней степени возбуждения, он «опрокидывал в себя» Аристотеля и строчил бесконечный доклад о судьбе человека. За манией, в которой он и перестал быть христианином, пришла затяжная депрессия, причём с выраженным ипохондрическим элементом; в отличие от чистого меланхолика он испытывал резко выраженный, физиологический страх смерти. В это состоянии, по его самоописанию, его взгляд на мир достиг предельного скептицизма и одновременно он зафиксировался на собственном здоровье, считая причиной болезни неправильный режим в предыдущий период (когда он, как всегда бывает в мании, неделями не спал) и неправильное питание. Чтобы выйти из тягостного состояния, когда «даже свет и темнота, луна и солнце на небе казались мне декорациями и входили в состав общей громадной мистификации» (этот феномен именуется деперсонализацией), он практиковал различные диеты. Самоубийство он совершил на пике второй по счёту депрессии, когда к острой тревоге, в которой он не находил себе места, присоединился бред преследования.
Биологам-натуралистам, фотографически точно описанным Тургеневым в образе Базарова, была свойственна рациональная, вульгарно физиологическая интерпретация как здоровых, как и болезненных движений души, которая сама по себе воспринималась ими как разновидность физиологического отправления. Эра Просвещения развернула интерес учёных от человека к окружающему миру, что отождествлялось с прогрессом – при том, что понимание человеческой природы и мотивов человека, в том числе и собственных, упростилось до примитивности, скатилось на уровень ньютоновской механики. В то же время открытия, сделанные в точных науках, повышают как самомнение, так и убеждённость в неограниченных возможностях человека, который кажется более могущественным, чем Творец. И более того, ни в каких высших силах «над собою» не нуждается: они мешают, досаждают, строят препятствия к исследованиям, не дают сворачивать познавательные «Казбеки и Монбланы».
«Новые люди», о которых упоминают Достоевский и Толстой, формируют мыслительную среду, отвергающую вместе с «ненужным» Творцом духовную иерархию, поскольку открытия идут вразрез с поверхностно понятым Священным Писанием. Чем дальше, тем привычнее душевные движения объясняются законами физики и ещё не развитой физиологии. Законы термодинамики вторгаются как в романистику, так и в психологию; сложнейшие психопатологические феномены объясняются простым замедлением или ускорением нейрональных связей. Эмпирицистская психология внедряется в чужое пространство, а свой интерпретативный аппарат заимствует из законов термодинамики.
Открытие генов и элементарных частиц имплицитно подрывает картину теистической предопределённости: и человек, и Создатель знают, что ничего не знают, частицы создают равновесие сами по себе, закон сохранения и превращения энергии определяет всё сущее, от движений планет до движений души.
В так называемом Серебряном веке идеалы империи расходятся с интересами монархий – они становятся замшелым препятствием, как и землевладельческий класс. Монархические семьи уступают во влиянии финансистам, они внедряются в геополитику, ставя под контроль своих частных интересов и дипломатию, и генералитет. Idee fixe всех держав становится покорение Востока, a idee fixe востребованных и тиражируемых философов – идея сверхчеловека, «отменяющая» заповеди авраамических богословий.
Самый яркий выразитель идеи сверхчеловека Фридрих Ницше к концу жизни своим неадекватным поведением раскрывает тайну собственного антихристианства. Когда он три дня не выходит из гостиничного номера и никого туда не впускает, забеспокоившиеся коллеги просят портье открыть дверь запасным ключом снаружи. За дверью творится ужасное: стены измазаны экскрементами философа, а сам он, совершенно голый, вопрошает с перекошенным от гнева лицом: «Как вы смели потревожить Бога?»
Но Ницше не рухнул с пьедестала. Конъюнктура времени, именуемого декадансом, сложилась. Элиты зациклены на сверхъестественном; в то же самые крайние патологии воспринимаются как результат простых внешних воздействий. Именно в этот период складывается представление о том, что психиатром, что будто бы равнозначно психологу, может быть любой обыватель, изучивший курс физики.
В то же время массовая пресса, жаждущая прибыли, удовлетворяет спрос обывателя, а обывательское сознание тянется к аномалиям. На глазах у потеснённых и приниженных церквей то, что считалось грехом, возводится в массовый культ. Все познавательные запреты отменены, и в то же время пустота на месте авторитетов жаждет заполнения. Для творческих личностей с психическими аномалиями создается беспрецедентно благоприятная среда.
«Серебряный век» характеризуется беспрецедентным контрастом сред. Идея сверхчеловека, вдохновляющая военачальников, парадоксально сочетается с интеллектуальной властью аномальных лиц – хрупких, изломанных, вычурных персонажей, которые в предшествующий период имели бы репутацию маргиналов от науки, искусства, литературы – неучей, пасквилянтов, графоманов, извращенцев. Более того, эти же модные маргиналы легко принимают разные вариации идеи сверхчеловека, как и идеи сверхнации, чему способствует разрыв не только между обществом и религией, но и между политикой и религией. Это бросается в глаза в равной степени в русской и немецкой культурах, и две империи становятся заложниками расчётливого англо-американского целеполагания.
В канун Первой мировой войны субкультура столиц преодолевает культуру наций, поскольку пресса ищет тиражи. Это время царствования не государей, а журналистов. Императорские фамилии преследуют борзописцы, не упуская случая уличить коронованных особ в неадекватности. Охранительное мышление пытается отвечать той же монетой. Университетскую профессуру рвут на части, выкручивая руки: с нами или против нас? Прогрессист или мракобес? А в это время высшие круги, принимающие решения, как старое дерево, разъедает насквозь агентура, торгующая мистикой.
Вместе с религиозной моралью массовая аудитория утрачивает способность к критике к собственным действиям, даже к простой саморефлексии. Идолами становятся интеллектуалы, идеологи и мнимые провидцы, которых не только инквизиция, но и любая имперская власть (кроме британской начиная с XVIII века) изолировала бы от общества. Модно богохульство, и точно так же модна тяга к самоубийству (культовая фигура поэзии – Семён Надсон). В числе кумиров урбанистической популяции – как клинические парафренные больные («мегаломаньяки»), типажи вроде Ницше, отрицающие Творца по той причине, что отождествляют с Творцом самих себя, так и хронические меланхолики-ипохондрики, у которых картина мира сформирована восприятием окружающего как мёртвой декорации или машины, уничтожающей человека (типаж Льва Шестова, затем Франца Кафки).
Забегая вперёд, заметим, что опыт манипуляции массами через моду на патологию в начале XX века будет осмыслен и поставлен на службу геополитическими манипуляторами, чтобы многократно воспроизводиться для подрыва государств изнутри через деструкцию традиционных обществ. Подобно тому, как в рядах террористической «Народной воли», основные кадры которой под британской опекой были рекрутированы герценовским кружком – составной частью транснационального сообщества сокрушителей континентальных империй, критическую массу агитаторов составляли патологические личности с предрасположенностью к шизофрении, диссидентство 1970-80-х гг. будет состоять преимущественно из «естественных изгоев», со скачкой реформаторских идей и сниженной мотивацией самосохранения – как пятеро из восьми участников упомянутой демонстрации 1968 г., как множество активистов НТС, СМОТ, «Мемориала», Демократического союза, кружков националистов и отказников. Тот же стереотип станет путеводным при выборе активистов китайской (особенно тибетской) оппозиции и «арабской весны». Вышеописанные типажи парафренных больных будут востребованы для руководства массовыми сектами – «Фалуньгун», «Аум Синрике», а депрессивные ипохондрики, как из академических, так и из общественных структур, станут идеальными пропагандистами экологических фобий.
Начало XX века, таким образом, – период великого эксперимента с колоссальными ставками, когда большими игроками финансового мира впервые в равной мере высоко востребована как психическая неадекватность самодержцев, которых закономерно окружают маги и парапсихологи, так и затуманивание сознания критической массы творческой, научной, чиновной, военно-разведывательной и, наконец, богословской интеллигенции.
В Серебряный век гуманитариям труднее всего: неокантианство, смешиваясь с оккультизмом, ищет и находит благоприятную среду для обитания и размножения, довлея над творческими кругами и над литературой. Башня Вячеслава Иванова становится центром культа, источником сокровенных знаний, мерилом престижа. Он притягивает одновременно либералов и консерваторов, которых объединяет нечто «по ту сторону». Pathos здесь, несомненно, присутствует (например, старший брат Мережковского болен злокачественной шизофренией). И более того, импульсы pathos не подавляются, а культивируются, в том числе в сексуальных извращениях, больше мотивированных культом, чем врождёнными особенностями сферы влечений.
Этим дышит эпоха. Столицы из центров государственных стратегий становятся центрами тиражирования разврата, поощрённого учёным сословием. «Пришла проблема пола, румяная фефёла, и ржёт навеселе», – писал Саша Чёрный. Откуда пришла? Из столицы империи Габсбургов Вены, где финансовый капитал впервые подчинил себе монархические интересы. Оттуда же придёт нацизм.
4. Пленник мысленного шара
В 1993 г. увидело свет исследование Александра Марковича Эткинда «Эрос невозможного» (10) об истории психоанализа в Советской России. Автор неравнодушен к предмету, он оплакивал судьбу центральноевропейского учения, в чужой цивилизационной обстановке и в особом времени трансформированном, но так и не признанном.
Нетрудно было догадаться, что пересмотр истории начала XX века, начавшийся в период перестройки с реабилитации «левых и правых уклонистов» в ВКП(б), докатился в постперестройку до реабилитации психоанализа и для попытки его самоутверждения в политике. Так оно и случилось: первым указом Бориса Ельцина после выборов 1996 г. был указ о поддержке психоанализа. Но триумф был недолговечным: в практической политтехнологи монополию перехватило нейролингвистическое программирование – синтез учения И.П. Павлова с гипнозом, которым Фрейд не пользовался, а в системе медицинской помощи лечение, требующее одновременно временных, финансовых и непосредственно психологических затрат, не могло быть востребовано реальным рынком середины 1990-х гг., когда размножившиеся было частные клиники для среднего класса потеряли пациентов и в большинстве обанкротились. По той простой и известной причине, что в период борьбы за выживание количество неврозов сокращается. А психозы, статистика которых неподвластна войнам и революциям, остались в сфере государственной медицины.
Упования на возрождение психоанализа и его экспансию в новой России до среднезападного уровня исходило, судя по аргументам Эткинда, из того, что на смену идеологическому и культурному диктату наконец пришёл диктат «постмодернизма, признающий множественность, эклектичность и неслиянность сознаний как основной принцип современной жизни, возвращающейся от “систем” и “измов” к “здравому смыслу”». Так тогда виделось из Парижа.
Однако труд Эткинда, утратив отраслевую актуальность, интересен и сегодня. Диалектическое отрицание отрицания (Ельциным – Горбачева) ввело новые краски в только что обелённые и приукрашенные образы партийных и литературнотеатральных жертв репрессий. Всё оказалось не просто сложно, а ещё сложнее. Эткинд с самозабвенным художественным нарциссизмом расставлял точки над i, возвышая себя столь же последовательно, как Катаев, но не над современниками, а над ушедшими учителями. И в итоге, вопреки собственному подчёркнутому антисталинизму, не только объяснил, но и оправдал логику сталинских решений, воспринимаемых как репрессии учёного сословия. А помимо этого, вопреки столь же подчёркнутому еврейскому комплексу, убедительно и профессионально раскрыл всю противоречивость отношений между германской и еврейской культурами в Европе после Первой мировой войны, открывая путь к самым разным новым интерпретациям.
Эткинд напомнил о многих деталях истории советской науки, которые даже в новое время было не принято обсуждать. Например, о том, что классик детской психиатрии Лев Семенович Выготский не только состоял в Российском психоаналитическом обществе, но и считал, что психоанализ вполне совместим с учением Павлова об условных рефлексах. Это документируется цитатой из совместной работы Л.С. Выготского и А.Р. Лурия (1925): «У нас в России фрейдизм пользуется исключительным вниманием не только в научных кругах, но и у широкого читателя. В настоящее время почти все работы Фрейда переведены на русский язык и вышли в свет. На наших глазах в России начинает складываться новое и оригинальное течение в психоанализе, которое пытается осуществить синтез фрейдизма и марксизма при помощи учения об условных рефлексах». Таким образом, Выготский видел в павловианстве удобное связующее звено между марксизмом и фрейдизмом. Отсюда (спасибо Эткинду) становится понятно, что Леонид Рубинштейн не терпел Выготского не по причине личного соперничества, а по идеологическим мотивам: сам он приложил огромные усилия к тому, чтобы создать телеологическую концепцию развития человека «в обход» павловианства и проистекающей из него теории отражения.
Как далее документирует Эткинд, идея совмещения психоанализа с павловианством была близка Л.Д. Троцкому (цитата из Жана Марти: «Наиболее серьёзной фигурой, стоявшей за событиями, был Лев Троцкий, имевший специальные причины для поддержки психоанализа»). Программа педологии, оглашённая на 2-м Психоневрологическом съезде (1924) Ароном Залкиндом, в «Красной Нови» интерпретировалась так: «Социогенетическая биология в соединении с учением о рефлексах, при осторожном использовании ценнейшего ряда фрейдистских понятий и отдельных его экспериментальных методов, сильно обогатят био-марксистскую теорию и практику».
«Самым ценнейшим» фрейдистским понятием, очевидно, в этой практике была сублимация. А.Б. Залкинд прославился своими попытками регламентировать половую жизнь, став прототипом товарища Дисциплинера в опальной пьесе Сергея Третьякова «Хочу ребёнка». А.С. Макаренко рассказывал о том, как ему приходилось отбиваться от проверки чиновницы-педолога в связи с беременностью одной из воспитанниц его интерната. «Как, у вас девочки рожают детей? – «А что же они ещё могут рожать»? Однако ценность соединения «ценнейших понятий» с павловианством могло преследовать лишь одну цель – отчуждение детей от своих родителей, от родовой истории в процессе конструирования нового обобществленного человека.
«Уводя от исследования сексуального либидо в поиск иных движущих человеком сил, линия этих поисков была, пожалуй, противоположна мировому направлению развития психоанализа», – заключает Эткинд. И в том же тексте приводит поучительные примеры случаев, когда психоаналитики 1930-х гг. при оказании «помощи» политическим и культурным деятелям СССР добивались отнюдь не сублимации, отнюдь не отвлечения пациентов от их сексуальных проблем, а напротив, погружения в них с печальными последствиями. Это случай с Адольфом Иоффе, который покончил с собой; это случай с Михаилом Зощенко, которому досталось в специальном постановлении ВКП(б) за книгу «Перед восходом солнца», и наконец, с Сергеем Эйзенштейном, который не смог закончить фильм «Иван Грозный».
Впрочем, во всех трёх случаях психоаналитики оказываются как бы ни при чём: Иоффе якобы был психологически травмирован опалой Троцкого, Зощенко якобы не ожидал партийной критики, а Эйзенштейну психоанализ якобы не мешал, а помогал творить.
Однако, во-первых, никакая угроза ареста на момент суицида над Иоффе не витала, а классическая эндогенная депрессивная фаза, как и прежние, должна была спонтанно завершиться, и он её преодолел бы, не получи от психоаналитиков оценки, воспринятой как приговор. Зощенко страдал, говоря современным общепринятым языком, органическим поражением головного мозга со стойкими невротическими (!) психическими нарушениями. Он был фиксирован на нарушениях потенции в результате повреждения подкорковых структур (что бывает очень часто), и для его компенсации требовалась разъяснительная психотерапия и с ним, и с его родственниками, а для снятия фиксации был вполне уместен гипноз. Вместо этого психоаналитик Марголис разъяснял ему, что он страдает комплексом кастрации, а «вечный фетиш большого бюста женщины, так влекущий и так мучающий» его, «указывает путь к комплексу Эдипа и только к нему». После чего наша литература потеряла яркого сатирика, а получила литературного онаниста, копателя во вторичных переживаниях, переносимых на окружающих. Много ли мы от этого приобрели, как и сам Зощенко? Эткинд считает, что много. Но это его частная точка зрения.
О том, что происходило с несчастным Эйзенштейном, можно судить по специальному исследованию Оксаны Булгаковой (11). Он штудирует диссертацию Льва Выготского «Психология искусства», он изучает ранние работы Александра Лурия о сексуальных обрядах примитивных народов, пишет письма немецкому специалисту по нетрадиционным половым ориентациям Магнусу Гиршфельду, затем углубляется в оккультную литературу и в итоге садится за бесконечный путаный труд под названием «Метод», в который «пытается вместить теорию плазмы и теорию относительности Эйнштейна, аналитическую геометрию Декарта и мистику чисел пифагорейцев». Под влиянием Гиршфельда он переосмысливает диалектику, считая теперь, что она прямо связана с бисексуальностью, благо Гиршфельд ему подсказал, что Гегель был бисексуалом. Все названные выше разнородные учения, теории и понятия у него связываются через музыкальный ритм, который он ещё до «просвещения» успешно использовал в своих фильмах. Эту связь ему также подсказали: посещая в начале 1930-х гг. лекции лингвопалеонтолога Н.Я. Марра, он, по интерпретации Булгаковой, пришёл к прафеноменам техник репрезентации в их соединении с ритмом и движением.
Что заинтересовало Эйзенштейна у Марра после психоаналитических сеансов? Больше всего – «ступенчатая конструкция» в первобытном мышлении, а именно:
– амбивалентность в языке, позволяющая связать моторику и троп (метонимию, метафору, загадку) при опоре на магические практики: неназывание, переносное называние, ритуальные жесты заклятия и проч.;
– Мужское, Женское, бисексуальное как телесная форма выражения этой амбивалентности;
– выражение этой амбивалентности в характере (Джекилл и Хайд) и конкретной личности художника (Льюис Кэрролл и Чарльз Доджсон);
– выражение этой амбивалентности в “вечных” сюжетах (поиски отца).»
О. Булгакова также очень туманно поясняет, что лекции Марра ввели Эйзенштейна «в круг идей одного из наиболее влиятельных направлений в изучении мифов на основе теории имён. Подобно тому, как Марр искал соединения первичных корней с первичными смыслами, эта школа пыталась разгадать забытое значение имени бога, утрата которого приводит к иррациональности мифов (если найти первосмысл слова, можно понять, какое содержание скрыто в загадке бога)». В примечании рецензент называет имена представителей этого круга – Аби Варбург и Эрнст Кассирер.
Аби Варбург, родной брат соучредителя Федерального резервного банка Пауля-Морица (Пола) Варбурга, члена совета директоров Рейхсбанка (1933-38) Макса Варбурга и основателя международной организации еврейской помощи «Джойнт» Феликса Варбурга, на несколько лет раньше Эйзенштейна совершал «паломничество» в Мексику для изучения древних цивилизаций. В центре интересов Аби в течение многих лет была античная (дохристианская) составляющая культуры эпохи Возрождения. Его интересовало дионисийское начало и сексуальная символика в греческой и римской архитектуре, а затем в живописи Возрождения, из которого и возник проект «Атласа Мнемозины». У Аби были сложные переживания идентификации: он говорил о себе, что по рождению он еврей, по воспитанию немец, а по духу флорентиец (семейство происходило из Италии). В 1919 г. Варбург госпитализировался в психиатрическую клинику, что подобострастные биографы объясняют «душевной травмой» либо от ужасов Первой мировой, либо от страха перед антисемитами (хотя из вышеприведенного самоопределения следует, что еврейскими комплексами он не страдал, как, очевидно, и его братья). Первое, что сделал Аби Варбург после выхода из клиники, – выступил с лекцией об истории культа змеи и его отображения в архитектуре. Это был год мюнхенского путча.
Так или иначе, Эйзенштейна одновременно лечили и индоктринировали. Продуктом того и другого стал замысел повествования «в форме шара», с целью тотальной семиотизации мира. Проект такого масштаба достоин и большого художника, и особого времени, постоянно ставящего сверхзадачи. Однако семиотизируемый мир включает не только реальность. Из Мексики он привозит описание василады – гротескного юмора, связанного с наркотическим состоянием. При этом он заранее подготовлен к наблюдению транса, поскольку доброжелатели снабдили его книгой троцкистки Аниты Бреннер, где о ней упоминается, а супруг Бреннер, французский мистик Жан Шарло, пишет его портрет. Его обхаживают, как «вратаря республики» из книги Льва Кассиля.
О. Булгакова удивляется тому, что в черновиках Эйзенштейна нет ссылок на Русских философов, кроме широко популяризированного на Западе Розанова. Но ведь он общается преимущественно с иностранцами, такие возможности для него не ограничены. Он читает Маутнера – и ему уже не интересен Бахтин.
Другое дело, что его тянут с собой в Среднюю Азию Выготский и Лурия, рассчитывая изучить местные племена по схеме мексиканских, – но экспедицию не разрешают. Дочь Лурия потом пояснит, что замысел истолковали как фашистский – исходящий из посылки о неразвитости изучаемых народов.
Он хочет обобщить свой художественный опыт, а вокруг ходит толпа советчиков, принуждающая из этого обобщения сделать «общую теорию всего» и сбоку обязательно привязать наркотический бантик.
Конспект книги уже содержит выдержки из Маркса и Сталина. Он доходит до упоминания диалектики. И тут – понеслось.
«Диалектика есть проекция в сознание (в философскую концепцию) бисексуальности нашего строения. Легенды о разделении полов. Бисексуальность, как пережиточная форма – воспоминание имевшего места явления (в Ребре и выделении Евы) бисексуальности…
«Наиболее архаический тип, близкий к сексуально-недифференцированным праотцам, деление Ад[ама] и Евы, существа Платона, история Лилит и скрепленности спинами первых людей (по Каббале) и потому более близкий к “единству с вселенной”, более близкий к вегетативным явлениям. Сюда же войдёт многое из дородовой биологической драмы по [Charles Stockard] “The Physical Basis of Personality”. Напр[имер] вопрос Twins [близнецов] – одного пола, ибо возникают в одном яйце. […] Гений – вообще человек, ощущающий диалектический ход вселенной и способный включаться в него. Бисексуальность, как физиологическая предпосылка должна быть у creative dialectics…»
Бахтин, начавший с тезиса о первичности языка перед мышлением, тоже доходит до «сексуально недифференцированных праотцев», до андрогина – что Эткинд связывает с прямым влиянием Вячеслава Иванова, приводя цитату: «Как мыслитель и как личность Вяч. Иванов имел колоссальное влияние… Все его современники – только поэты, он же был и учителем».
Эйзенштейну не нужен Иванов: его свели с «учителями учителей». Но он их не просто эпигонски повторяет, считая безусловные авторитетами: он включает их аргументы в собственный концепт. Правда, при этом оказывается, что ход рассуждений понятен лишь ему одному.
«Книга Эйзенштейна поражает дидактичностъю основной (“универсальной”) концепции и разноголосием языков, монтажом фрагментов “чужого ” материала, который оформляется контекстом как “свой”», – замечает Михаил Ямпольский. «Теоретические фрагменты, “цитаты", присвоены Эйзенштейном и преобразованы в симптомы его собственной болезни. Всё начинается с его собственных интимных проблем и возвращается к этим проблемам. Он страдает от слабости воли, которая проявляет себя в сексуальных подавлениях, но воля сама есть продукт торможения в рефлексологических терминах. Найти глубинную схожесть между волей и рефлексологическим автоматизмом не только теоретическая, но и терапевтическая необходимость. Весь проект теоретизирования создается эйзенштейновской болезнью. И регулируется схожестями и несхожестями, корнями, уходящими в его личный опыт».
О. Булгакова бросается на защиту гения: «На попытки избавиться от невроза, депрессии и сомнений указывают уже первые эйзенштейновские записи – “My Art in Life”. Но теорию как терапевтический анализ, кажется, ещё никто не писал».
Действительно, у больного эндогенной (или иной) депрессией, как и у невротика, самоанализ не разовьётся в универсальную концепцию, доходящую до философских и религиозных абстракций. Депрессивный больной или невротик при самых больших стараниях рационализировать или мистифицировать происходящее с ним не продемонстрирует в своем ходе мыслей бросающихся в глаза сбоев логики, являющих собой ассоциацию по поверхностному сходству. Сама же Булгакова признает, что трактат представляет собой «запутанную сеть гипертекста, который развивается не линеарно и принуждает менять уровни в направлении часто непредсказуемых ассоциаций».
Невозможно себе представить, чтобы Эйзенштейн, в подлиннике читавший Гегеля, знал только один закон диалектики – о единстве и борьбе противоположностей и не понимал суть диалектики – рождение нового качества, а не противодействие двух вечных начал. Чтобы свести воедино Гегеля, Николая Кузанского и андрогин, недостаточно одной склонности к высокому абстрагированию. То, что заметил Ямпольский, представляет собой описанное всеми классиками-психиатрами структурное расстройство мышления, из-за которого логика автора убедительна лишь для самого автора, а читатель (почитатель, как Булгакова) в лучшем случае восторгается формой и элементами содержания.
Такая логика называется паралогикой, и она свойственна «болезни королей и поэтов», а вовсе не депрессии и неврозу. Жалобы астенического характера, с которыми больной шизофренией приходит к врачу, включаются одними авторами в первичную негативную симптоматику, другими (со ссылкой на нейрофизиологические исследования) – в раннюю продуктивную.
Это был не невроз и не депрессия. Несчастный Эйзенштейн ошибся адресом: он пришёл не к психиатру, а к психоаналитику, и тот, произвольно интерпретируя психотические симптомы как невротические комплексы, декомпенсировал больного, направив его сохранный творческий потенциал в русло бесплодных, ходящих по кругу рассуждений. А заодно свёл одновременно с психологами, возводящими извращения в норму, и с искусствоведом – братом банкира, формировавшим культурный облик нацистской Германии (арийская мистика, римский стиль министерских зданий, греческий – стадионов и т. д.).