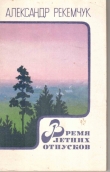Текст книги "Избранные произведения в двух томах. Том 2"
Автор книги: Александр Рекемчук
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 40 страниц)
– А когда будешь уезжать, – сказала Верочка Николаю, – ты эту квартиру отдай кому-нибудь. Кому нужно.
– Я ее райсовету отдам, – сказал Коля Бабушкин.
Лешка Ведмедь вышел на улицу проводить его. Вышел, не одеваясь, в чем был, – на улице заметно потеплело. Убывала зима. Толща снега оседала, снег делался ноздреватым, хрупким и, подтаивая, копил наверху всю собравшуюся за зиму, дотоле незаметную грязь.
– Ну, счастливо, – сказал Ведмедь.
– До встречи. На Порогах встретимся. – Николай пожал ему руку.
Лешка не торопился уходить. Николай тоже не торопился.
Опустив непокрытую голову – длинно свисли косицы волос, – Ведмедь стал ковырять каблуком сырой снег. Ковырял долго, наверное, ему хотелось поглубже сделать ямку. Потом сказал:
– Спасибо, что пришел. Я думал – не придешь… И еще за одно тебе спасибо. Там, на собрании. Когда голосовали насчет исключения… Я ведь заметил: ты руки не поднимал. Все подняли – исключить, а ты не поднял…
Коля Бабушкин тоже опустил голову. И тоже стал выбивать в снегу ямку.
Он не знал, что ответить на это. Он не решался сказать Лешке правду.
Тогда, на комсомольском собрании в тресте «Джегорстрой», он действительно не поднимал руки. Он присутствовал на этом собрании по поручению монтажной бригады как представитель завода. Но когда собрание голосовало за исключение Лешки Ведмедя из комсомола, Николай руки не поднял.
Он не имел права участвовать в голосовании, поскольку не состоял на учете в этой организации. У него не было права голоса.
И он не решался сказать об этом Ведмедю. Чтобы не отнимать у парня последнее.
Он не решился сказать, что, будь у него на собрании право голоса, он поднял бы руку.
Перво-наперво Николай отнес в районную санэпидстанцию заявление, чтобы в квартире, где он живет, извели мышей и разных насекомых.
И вот воскресным днем, когда он сидел дома, у окон остановился желтый пикап.
Постучавшись, в комнату вошли двое дюжих марсиан: в масках с дыхательными патрубками, в створчатых очках, глухих халатах, резиновых сапогах и перчатках.
Не тратя лишних слов, марсиане взялись за дело.
Один из них вооружился толстой трубой, на конце которой торчала тонкая трубка – вроде пулемета «максим», – и стал энергично толкать ручку насоса. Из трубки вырвалась струя коричневатой пыли. Вмиг потолок и стены покрылись густым налетом.
Другой, присев на корточки у плинтуса, начал запихивать в щели вязкую кашицу. Он отодвинул шкаф, переставил тумбочку, выволок на середину кровать – словом, потревожил всю мебель, какая только была в квартире. Действовал он уверенно и быстро, как будто ему заранее были известны все наперечет дыры и щели, которыми пользуется мышиное племя. И в каждую дыру, в каждую щель он, не жалеючи, вмазывал кашицу, а сверх еще присыпал порошком, – нате, мол, жрите, паралич вас разбей…
Напоследок марсиане положили на пол круглую шашку, подожгли фитиль: из четырех отверстий шашки повалил черный дым…
Сделав знак Николаю, чтобы он удалился, чтобы он погулял на улице, они собрали свои причиндалы и вышли следом, плотно притворив за собою дверь.
– Позвони в пожарную команду: пусть не волнуются, – посоветовал один, сняв очки и маску. – Дыма будет много.
– Назовите адрес и скажите, что делали дезинфекцию. Они нашу работу знают, – пояснил другой.
Марсиане сели в желтый пикап и уехали.
Спустя полчаса Коля Бабушкин приоткрыл дверь, осторожно заглянул в квартиру. Там был ад кромешный. Тьма. Ночь. Извиваясь и зыбясь, как змеи, слои дыма медленно потянулись навстречу.
Он хотел уже обратно захлопнуть дверь, как вдруг услыхал чих. Сдавленный, негромкий чих – там, в квартире…
Глотая копоть, Николай пробрался в кухню. На табуретке у стола, на своем обычном месте, возлежал кот Роман. И сердито чихал.
Ужас как он выглядел, этот кот, когда Николай, подцепив за жирный загривок, вынос его на улицу. Этот кот сделался похожим на абстрактную картину, которую Коля Бабушкин видел в одном журнале: она тоже была вся в черных пятнах, потеках и полосах, только что не царапалась и не мяукала.
Раскачав, Коля Бабушкин кинул его подальше во двор. Кот шлепнулся, приник к земле брюхом, лапами, хвостом, – замер. Прижав уши, он испуганно и злобно щурился на белый снег, на белый свет…
Он, должно быть, давно не видел белого света, этот заевшийся нерабочий кот. Наверное, сидя на табуретке в жарко натопленной комнате, он уже позабыл, что, кроме этой комнаты, есть еще иной – ослепительный, большой и неуютный – мир. Этот красивый, породистый кот, наверное, и кошки никогда не видал. Он, наверное, считал, что он один такой на свете – пушистый.
Николай пронзительно свистнул.
Кот Роман вздрогнул, ощерил мелкие зубы и, распластавшись, грациозно и хищно вынося вперед лапы, пополз прочь…
Коля Бабушкин вернулся домой, отворил форточки. Дым понемногу истекал. По стены были черны от копоти, шершавы от гексахлорановой пыли, которой не пожалели ребята из санэпидстанции.
Николай подумал, что теперь, когда всякую нечисть извели в одночасье, было бы не худо привести квартиру в порядок, побелить заново. Можно самому сделать – пустяк…
Дым истекал. Но в квартире держалась крепкая вонь. От вони закружилась голова, помутнело в глазах, сперло дыхание. Николай направился было к открытой форточке – глотнуть чистого воздуха, – но, не дойдя, повернулся и опрометью кинулся в уборную.
Там его вырвало.
Глава двенадцатая
Когда-нибудь джегорский парк будет славен, как сады Семирамиды. Тут уж много сделано для этого. Парк обнесен железной оградой, а вход увенчан каменной аркой. Вырыт пруд, посредине пруда насыпан остров, и на этом острове намечено поселить лебедей. Уже проложены лучевые аллеи, вдоль них расставлены скамьи и урны, высятся фонарные столбы. Есть танцевальная веранда, есть открытая эстрада-раковина.
Нет покамест только деревьев. Прежде в пойме Чути, где теперь расположен парк, была кое-какая растительность: ельник, ивняк, черемуха. Но все это, конечно, вырубили, когда расчищали строительную площадку под город.
А потом на вырубке заложили парк. «Пять тысяч саженцев», – как сообщала местная газета.
На Севере нельзя пересаживать взрослые деревья: они не выдерживают пересадки и быстро засыхают. Поэтому пришлось сажать молодняк – тощие прутики березы и рябины, от земли не видно. Эти прижились.
Но деревья растут куда медленней, чем города. И по сей день джегорский парк просматривается насквозь со всех сторон. Летом его слегка заволакивает зеленая дымка листвы, зимой – кружево инея. А осенью и весной, когда в парках вообще межсезонье, безвременье, когда и танцевальная веранда закрыта и концертная раковина пуста, тут совсем голо. Голо и слякотно.
Молодежи, однако, которая все тут сажала и строила, неохота ждать, пока вырастут деревья. И вечерами, в любую погоду, в любое время года, все скамейки парка заняты. На каждой скамье сидит парочка. Целуются.
Ирина вспомнила, как неделю назад она шла здесь с Черемныхом. Предстоял разговор тягостный, неизбежный и вместе с тем уже ненужный. Они свернули с улицы в парк и пошли по аллее, круша ногами мокрый снег.
Было темно – фонари не горели. На скамейке справа, почти слившись с теменью, застыли две безмолвные фигуры. Едва различимы лица – два бледных лица – запрокинутое и склоненное.
На скамейке слева – две темные фигуры, два бледных лица, запрокинутое и склоненное.
Бесконечная аллея. Скамьи справа и слева. Слившиеся фигуры. Сплетенные руки. Спекшиеся губы.
На Ирину и Черемныха эти, на скамейках, не обращали никакого внимания. А одна скамейка не обращала внимания на другую скамейку. Они были заняты лишь сами собой. Им ни до кого не было дела. Они были одни на свете.
Ирина и Черемных старались не смотреть по сторонам. В конце концов это нехорошо и стыдно – целоваться на скамейках у всех на виду. Они старались не замечать. Но – краем глаза – замечали, и, по какой-то совсем непонятной причине, хотелось смотреть.
Те, на скамейках, вероятно, нисколько не стыдились. Они были одни на свете. А эти, которые шли по аллее, испытывали неловкость и стыд. Не то чтобы друг перед другом – хуже, – перед этими целующимися парочками. Неловкость перерастала в глухую враждебность, но она уже относилась не к парочкам – хуже, – друг к другу…
Они отчужденно молчали. Потом Ирина высвободила руку из-под руки Черемныха, отделилась от него, ускорила шаг.
Фигуры на скамейках. Лица. Справа и слева.
Они шли мимо скамеек, как сквозь строй.
Промозглый ветер сек спину.
– Тебе холодно? – спросил Черемных, приноравливаясь к ее шагам.
– Нет, – ответила она.
И поежилась от этого воспоминания.
– Тебе холодно?
– Да, – ответила она.
Пестрая варежка проворно юркнула в рукав оленьей куртки Коли Бабушкина.
А нынче-то вовсе не холодно. Воздух клубится влагой, размывая в кисель городские огни. Голенастые березки увешаны мелкой дребеденью сосулек, с них частит капель, капли, падая, пронзают снег, и он весь в дырках, как сито…
Николай настороженно смотрит на Ирину, сидящую рядом с ним на сырой парковой скамье. Почему она все время молчит? Попробуй понять, о чем человек думает, когда молчит.
Ирина, уловив вопрос, коротко и сильно сжимает его руку – там, в рукаве. Но беспокойся, мол. Я хорошо думаю.
Она думает хорошо. Но, как многие женщины, чуть расчетливо.
Мужчина (если он настоящий мужчина) не способен здраво рассчитывать в любви. Он будет прежде всего стремиться завоевать, заполучить свою любовь. Наперекор всему, очертя голову. Он будет после раздумывать – что с ней делать, с этой добытой любовью? Будет позже чесать в затылке…
А женщина (если она и влюблена) умеет задуматься раньше. Прислушаться к себе. Присмотреться к нему. Оценить. Сравнить. Предположить… Даже опрометчивость ее обдуманна.
Ирина думает.
Странно, ее сейчас вовсе не заботит, кем может стать для нее этот ясноглазый юноша. Она сразу почуяла в нем то обыкновенное, что на поверку дороже необычного.
Ей покойно и радостно думать о нем.
Но особую радость – пусть не лишенную самолюбования – доставляет ей другая мысль. Кем она может стать для него? Ведь не секрет, что день ото дня он все больше восхищается ею. С той самой первой и очень забавной встречи в гостинице, у титана, когда он увидел ее и отвернулся, оробев…
– В гостинице титан починили? – спрашивает Ирина.
Николай настороженно смотрит на нее. Попробуй понять, о чем человек думает, когда говорит. Она же знает, что он съехал оттуда.
Ирина думает.
Черемных… Ей поначалу льстила его умудренность. Но как же это все-таки скучно – умудренность… Как досадно, если каждый твой шаг заранее угадан, если все, чем ты можешь одарить, ново лишь для тебя самой… Она взбунтовалась.
Нет, не это. Во всяком случае, не только это.
Она никогда не спрашивала его, был ли он женат. (А он не заговаривал об этом сам.) Она никогда не спрашивала, любил ли он. (А у него хватало такта не навязывать ей таких признаний.)
Но тот телеграфный серийный бланк с незабудочками решил многое.
Черемных в тот вечер отошел к окну, и оттуда поплыли пряди табачного дыма – тонкие и сизые, как седина…
Она убедилась в том, о чем догадывалась раньше: он носит в себе боль. Безразлично какую – ту, которую кто-то причинил ему, или ту, которую он сам причинил кому-то, – боль остается болью, от нее не избавишься. Она всегда поделена меж двоими.
И если ты – даже не зная ничего об этой боли, налегке, беззаботно и счастливо – войдешь в больное сердце, тебе тоже достанется в удел ее частица.
Так зачем же ей эта чужая боль?.. Когда еще вся жизнь впереди. Когда – кто знает? – может явиться и своя боль…
Ирина очень сильно – до боли – стискивает руку Николая, там, в рукаве. Он удивленно смотрит на нее.
Ирина думает.
Когда она еще была студенткой, ее подруга вышла замуж. За крупного архитектора, преподававшего в институте. За человека, который был значительно старше ее. О нет, она не «сделала партию», не «пристроилась» – она горячо полюбила его. Однажды, в минуту особой душевной близости – когда не остается невысказанного, – плача, она призналась Ирине, что боится лишь одного: вероятно, она переживет его…
Но боже, как оживлялась, как расцветала она – эта беззаветно любящая женщина, – когда в профессорском доме появлялись вместе с подругами по курсу дылдистые парни с инфантильными короткими челочками (мода), без галстуков (принципиально) и без денег (беспринципно).
С какой робкой почтительностью встречал и обхаживал этих парней знаменитый архитектор, и с каким ироническим непочтением прощали они ему его присутствие в собственном доме.
Счастливое право ровни. Горькое бесправье неровни. Так будет всегда.
Ирина думает.
Полно. Ни о чем она не думает. Она уже все передумала.
Ей просто очень нравится сидеть здесь – на этой сырой скамейке. В этом нелепом парке с воображаемыми деревьями. Ей очень нравится греть руку в мохнатом рукаве оленьей куртки. Ей очень хочется, чтобы он ее поцеловал. А он не смеет.
Что же касается Коли Бабушкина, то он уже целый час решает – не поцеловать ли ее? Потому что на всех скамейках, которые отсюда видны, целуются напропалую. А он вроде бы не смеет. И даже удивляется своей былой отваге: как он тогда, при первом знакомстве, на лютом морозе, когда они барахтались в снегу, хотел поцеловать ее ради смеха… А теперь не смеет. Или смеет?
– Поздно уже, – говорит Ирина, поднимаясь со скамьи. В голосе ее отчетливо звучит сожаление. – Мне ведь далеко. За реку…
По дороге Ирина думает о маме.
Мама наплакалась заранее – еще до ее отъезда в Джегор. А на вокзале она не плакала, лишь сказала внушительно и строго: «Не делай ошибок». Мама – учительница. «Постараюсь», – ответила Ирина.
Мамины страхи оказались напрасными. Это очень легко – не делать ошибок. Трудно другое: различить, что – ошибка, а что – нет…
Они идут по Меридианной улице. К мосту.
По дороге Коля Бабушкин размышляет. Не осмелиться ли? Не повернуть ли ее сейчас – за плечи, круто, к себе – и поцеловать?
Но в это время они подходят к свежесрубленному дому, в окнах которого полыхает, колышется свет (а все остальные окна на улице темны), из-за стен которого проникает наружу ладное и благостное пение (а вокруг тишина), у дверей которого теснятся люди (а вокруг безлюдье)…
– Что это? – интересуется Ирина.
– Ничего, – хмуро отвечает Николай.
– Нет, погоди. – Она останавливается. – Это церковь? Сегодня пасха…
– А ты откуда знаешь?
– Мне бабка сказала, у которой я живу… Пойдем посмотрим, – предлагает Ирина.
– Тоже невидаль… – Николай спешит пройти мимо.
Проходя мимо, он замечает в толпе десятника Волосатова, который смачно целуется с какой-то бабкой: «Христос воскрес!» Он замечает Волосатиху, которая, вытянув губы трубочкой, целуется с каким-то мужиком: «Воистину воскрес!..» Все подряд целуются.
Коля Бабушкин твердо решает сегодня не целоваться.
Глава тринадцатая
Взрыв. Взрыв. Взрыв.
Первый из этих взрывов Коля Бабушкин услыхал еще во сне. А во сне в нем были как два человека: одному человеку, допустим, снится какая-нибудь чушь, и он, в тревоге, уже готов проснуться, а другой человек его успокаивает, говорит: «Ты спи, спи. Рано еще… Это тебе снится. Просто снится. Взаправду ничего такого нет… Спи давай».
И первый человек спит дальше. И видит дальше свой сон.
Так вот, когда Коля Бабушкин услыхал во сне взрыв, первый человек хотел уже было проснуться, а второй человек ему сказал: «Спи давай… Это тебе снится военный сон. Про войну».
Известно, что самые долгие сны – под утро особенно – на самом деле длятся всего лишь несколько мгновений.
И в эти несколько мгновений – между двумя взрывами – Николай увидел сон.
Будто он лежит на земле, прижавшись к ней щекой, ухом, всем телом – словно стараясь слиться с землей. А земля еще дрожит, гудит от взрыва. Вот сейчас, сейчас опять – засвистит, забалабонит, застигнет, накроет… Почему-то веришь, что в тебя не попадет. То есть не веришь, что может попасть в тебя. Однако же и другие не верили. А попало. Вот сейчас – засвистит…
Но тихо. Совсем тихо.
Николай осторожно приподнял голову, глянул перед собой.
Космы черного дыма плывут наискосок по ветру. Мутно от пыли.
Земля изрыта, истерзана.
Что такое?..
Напротив, в ста шагах – из окопа ли, из воронки, – голова. Каска на голове вроде ночной посудины или же яичной скорлупы с тупого конца. Вот и плечи поднялись над бровкой, на них какие-то немыслимые погончики-шеврончики. Николай сроду не видел эдаких погончиков, эдакой каски…
А вот и руки высунулись. Лег на бровку куцый ствол карабина. Каска приникла к прицелу. В линзе сверкнул солнечный зайчик.
Николай сразу понял, какой это карабин.
«Ну, погоди!..»
Он быстро пригнул голову, выхватил из сумки гранату, на ощупь определив, какая это граната, размахнулся и – вздрогнула земля, кольнуло барабанные перепонки.
Он проснулся.
Еще дребезжало от взрыва оконное стекло. Еще ходил ходуном пол комнаты. А за стенкой, в соседней квартире – было слышно – плакал ребенок. Девочка, Иринкой зовут. Годик ей…
Николай проснулся. И впервые – не во сне, а наяву – те самые два человека все еще были в нем. Один, в тревоге, приподнялся с подушки. А другой сказал: «Спи, спи. Рано еще… Это – неправда. Это не может быть правдой. Раз уж тебе довелось проснуться, считай, что все в порядке и ничего такого нет…»
Взрыв. Дрогнул пол.
Николай метнулся к стене, вонзил вилку репродуктора.
– …два, три, четыре. Раз, два, три, четыре… Не задерживайте дыхание. Кому трудно, переходите на ходьбу… Раз, два…
В окно сочилась нестерпимая утренняя синева.
Взрыв. Тряхнуло раму.
Но Николай уже понял. Удивительно, как он сразу не догадался – проснувшись. Даже странно, что он об этом во сне не догадался, – можно было догадаться прямо во сне и спать дальше.
Ведь он уже не первый раз слыхал, как рвут на реке лед. Весной, в канун ледохода.
Его очень просто рвут. Долбят во льду лунки, закладывают аммонит, поджигают шнур и…
Взрыв. Взрыв. Взрыв.
Николай посмотрел на часы – половина седьмого. Можно бы еще поспать. Да уж ладно… Тем более что сегодня особенный день. Сегодня на Пороги пойдет караван автомашин, груженных керамзитовыми блоками. Как и обещал Черемных: первая партия блоков – туда. Как и было обещано: с музыкой, с флагами. Сегодня – особенный день.
Николай надел ковбойку поярче и пошел на завод.
А по дороге на завод он вспомнил, какой ему сон приснился нынче под утро. Вспомнил – и досадливо поморщился. Приснится же такое культурному человеку!
У керамзитового цеха уже стояла вереница грузовиков. Их капоты и крылья были утыканы флажками, а над кабиной головного плескался и щелкал на ветру кумачовый транспарант: «Привет строителям будущего города!» Кузова осели под тяжестью массивных, четко ограненных, сухо поблескивающих на солнце блоков.
А на трубах оркестра, дожидающегося в сторонке, пока ему прикажут играть, солнце горело так ярко и жгуче, что смотреть было невозможно. Николай засмотрелся все-таки на одну трубу – раззявленную, как сопло реактивного самолета, обвившую трубача, как удав. Он вспомнил, что Ирина посоветовала ему заняться музыкой. Чтобы он на чем-нибудь научился играть. Вот научиться бы на этой. Уж если играть, так играть.
– Здравствуй, тезка.
Николай обернулся.
Из украшенной флажками кабины самосвала смотрел на него водитель. Тот самый. Которого тоже Николаем звать. За которого Коля Бабушкин хлопотал в райисполкоме, а фамилию спросить забыл, и все хлопоты оказались впустую.
– Здравствуй, – обрадовался встрече Николай. – Мне как раз тебя надо спросить об одном: твоя как фамилия?
– Фамилия? – насторожился шофер. – А зачем?
Николай объяснил вкратце.
– А-а… – Скосив глаза, шофер задумчиво повертел в пальцах папиросу. – Ну, спасибо тебе. Только зря ты хлопотал. Теперь уж все это ни к чему…
Зажег. Пустил длинную струю дыма.
– Развелись мы с Нюркой.
– Брось, – не поверил Николай.
– Да вот так. Хоть брось, хоть подними. Теперь я отдельно живу.
– А она?
– Она тоже отдельно. Там, на старой квартире.
Шофер пристально глянул на Колю Бабушкина и, уловив в его глазах другой, невысказанный вопрос, ответил:
– Он тоже съехал… Он как только узнал про все это – сразу съехал с квартиры. Уволился из гаража. И куда-то дальше подался на Север… Его Геннадием звать.
– Выходит…
Шофер, щурясь от едкого дыма, искурил папиросу до мундштука, до самой «Явы» и кинул наземь.
– Выходит какая-то совсем непонятная петрушка, – сказал он глухо. – Может, я зря на них подумал? Может, у них ничего и не было?.. Я из-за всяких этих сомнений с Нюркой развелся, а сейчас у меня, понимаешь, опять начались сомнения – задним числом… Может, у них и не было ничего?
– А ты сходи к ней, к жене, – посоветовал Коля Бабушкин.
– Нет. Не пойду, – покачал головой шофер. – Теперь мне гордость не позволяет. Я, видишь ли, с детства очень гордый. И нервы у меня совсем расшатанные.
Он снова полез за папиросой, но на полпути остановился, спросил:
– Ты на Пороги нынче едешь? А то садись, вместе поедем. Как тогда.
– Нет, – ответил Коля Бабушкин, – я сегодня еще не могу ехать. У меня тут, в Джегоре, есть один нерешенный вопрос.
– Ну, тогда будь здоров.
– Постараюсь, – сказал Коля Бабушкин.
Почему-то в торжественный этот день все подряд стали интересоваться, когда же он, Коля Бабушкин, намерен возвращаться на Пороги.
Шел навстречу вдоль каравана груженых машин Василий Кириллович Черемных. Шел, как генерал вдоль строя, – широким победным шагом, на груди ордена, подбородок вправо. Только что руку не держал у козырька. И музыка покамест не играла.
Увидев Николая, он чуть сбавил размашистый шаг, подошел к нему и тут уж совсем по-штатски тряхнул за плечо, сказал:
– Поздравляю тебя, Николай.
Ну, Коля Бабушкин тоже не стал выгибать колесом грудь и орать: служу, дескать…
– Тебя тоже, – по-штатски ответил он.
Черемных улыбнулся, взлохматил пятерней свои черные с проседью кудри и, помявшись чуть, задал вопрос:
– Ты когда собираешься ехать на Пороги? Сегодня?
Просто удивительно, до чего вдруг всех стало интересовать, когда же он – Коля Бабушкин – уедет отсюда, из Джегора?
Вот когда надо было оборудовать на заводе новый цех, когда понадобилось сколотить монтажную бригаду, когда потребовалось день и ночь работать на ударной стройке, тогда никто не спрашивал, надолго ли он, Николай Бабушкин, прибыл в Джегор и есть ли у него желание околачиваться тут три с половиной месяца. Ему сказали: надо остаться. И он остался. А теперь – еще не успел уйти на Пороги первый караван – все вдруг начали допытываться: когда, мол, ты уедешь отсюдова?
– Я сегодня не поеду на Пороги, – сказал Николай. – И завтра тоже не поеду. У меня, Василий Кириллович, есть в запасе три неиспользованных выходных дня. Работала бригада, помните?.. Так вот эти неиспользованные дни я хочу использовать здесь, в Джегоре. Не возражаете?
Черемных отвернулся, посмотрел на готовые в путь, украшенные флажками грузовики.
– У тебя тут… личное дело?
(А стоит ли, товарищи, тянуть резину?)
– Мое личное дело находится в отделе кадров разведочного треста, – твердо сказал Коля Бабушкин. – А здесь, в Джегоре, у меня девушка, которую я люблю. Если хотите, я могу назвать ее по имени…
– Не надо, – быстро ответил Черемных. Нахмурясь озабоченно, он потащил из кармана цепочку часов.
– Опаздывает начальство.
– Начальство задерживается…
– Вот именно.
И как раз в этот самый момент в распахнутые заводские ворота, швыряясь грязью, на полном ходу влетел райисполкомовский «козлик». Из «козлика» выскочил Каюров.
Николай и Черемных направились было к нему.
Но Каюров, необычно взволнованный, стремительный, деятельный, уже подбежал к головной машине и, махая рукой в сторону ворот, что-то кричал шоферу.
Взвыл мотор ЯАЗа, клубы синего дыма выметнулись из-под колес, машина рванулась с места. За ней другая, третья… Каюров бежал вдоль колонны.
«Мост…» – коснулось слуха. Николай, не раздумывая, шагнул на проезжающую мимо подножку.
Позади – опамятовавшись, не в лад – грянул оркестр.
Никудышная речка Чуть. В сухое лето ее дно выступает наружу, бесстыдно оголяется, и на глинистом глянце отпечатываются следы трясогузочьих лапок. Осенью, в пору дождей, уровень воды в Чути повышается – чуть. А зимой она промерзает до самого дна.
Но весной…
Бывает человек – тише воды, ниже травы. Незаметный, робкий. Но то чтобы слово сказать поперек – вообще слова не скажет. Если все вокруг смеются, он лишь улыбается. Если все вокруг возмущаются, он лишь глаза потупляет. Не человек, а улитка, и то безрогая… Но однажды, при какой-нибудь коллективной вылазке за город, человек этот выпьет рюмку водки, хватит другую – и тут уж он так себя покажет, такой проявит характер, такую заведет карусель, что только держись. Никто глазам своим не верит – полно, да он ли это?..
У речки Чуть был подобный характер.
Когда Николай, весь забрызганный грязью, спрыгнул с подножки грузовика у моста, он своим глазам не поверил.
Еще не прошел лед. Угластые серые льдины – как выстреленные – неслись по реке, догоняли, врезались, вламывались, громоздились, лезли, старались утопить одна другую… Это было похоже на битву, в которой противники не идут друг на друга – лоб в лоб, – а насмерть бьются, катясь лавиной в одну и ту же сторону. Как будто цель этой битвы заключается лишь в том, чтобы, опередив других, достигнуть устья и вырваться на печорский простор… Скорей, скорей! Бей, круши все подряд! Пробиться – или пусть никто не пробьется…
Но страшнее льдин была сама Чуть.
За полчаса вода поднялась на три метра. Река вздулась, вспухла. Рыжая, мутная, шальная, кипящая, верченая вода шла на берега взахлест. Уже неслись по течению бездомные лодки, смытые заборы, сорванные боны сплавной запани…
Теперь, как видно, Чуть решила расправиться с мостом. Она навалилась грудью, пытаясь с разбегу его опрокинуть. Но сила воды ускользала меж свай, ей не хватало собранности, и с ходу сломить мост реке не удалось.
Тогда она метнулась вбок, к предмостью. Она попробовала плечом поддеть край моста, поднять, оторвать от берега и кинуть на стрежень. Закряхтели, сопротивляясь, опоры. Кряхтенье сменилось натужным скрипом. Стоном… Мост кренился, дрожал. Но пока он стоял, судорожно вцепившись в берег, вода не могла совладать с ним.
Будто убедившись в этом, Чуть принялась подкапывать берег. Глыбы земли отваливались, сползали, катились кубарем и рушились в быстрину. Обнажились сырые, трещиноватые, дряхлые бревна…
Среди людей, толпившихся у моста и наблюдавших за этим разбоем, пестрели красные околыши. Вся джегорская милиция явилась сюда – при свистках и наганах.
Но что могла поделать милиция с одичавшей разгульной рекой?
– Как председатель паводковой комиссии, я приказываю… – услыхал Николай голос Каюрова.
Каюров и Черемных стояли друг против друга, лицом к лицу. Лицо Черемных потемнело. Губы сжаты. Недобро подергивался подбородок.
Однако лицо Каюрова в данный момент было еще решительней, еще тверже. Скулы напряжены. Ноздри круглы. Козырек надвинут на глаза. В данный момент он не был похож на того размякшего, расплывшегося в кресле, как тесто в квашне. Даже когда он гневался, сидя в том кресле, гнев его напоминал пыхтенье перебродившего тоста… Но в данный момент – в эту минуту опасности – он весь отвердел, подобрался. Будто затянул ремень до первой дырки. До той начальной дырки, после которой – год за годом, дырка за дыркой – отпускал…
В данный момент он внушал уважение.
Но когда головной самосвал колонны – с кумачовым транспарантом над кабиной: «Привет строителям будущего города!» развернувшись, скрежеща тормозами, стал задом съезжать к реке, когда его кузов начал медленно опрокидываться, когда новехонький керамзитовый блок, тронувшись с места, заскользил по железу, когда он рухнул, взметнув пенистый столб воды…
Коля Бабушкин почувствовал, как что-то надорвалось в его душе.
Мост выстоял.
Такого половодья не помнили старожилы Джегора. Впрочем, старожилами Джегора считались люди, поселившиеся здесь три года назад. А до этого здесь никто не жил. И какие тут прежде бывали половодья, никто не знал. Может, и хуже бывало. Но джегорские старожилы не помнили такого половодья.
Сперва, насытясь окрестными снегами, вышла из себя Чуть. Потом разлилась Печора. Она затопила курьи и старицы, отодвинула устье Чути и вплотную подошла к городу.
К исходу дня Заречье оказалось в воде. Правда, в больших домах, выстроенных недавно на том берегу, залило лишь первые этажи, и жильцы просто поднялись по лестнице этажом выше – они даже ног не замочили, Но от маленьких частных домов на поверхности остались лишь крыши да трубы, и возле тех труб, пригорюнясь, сидели с узлами хозяева…
По улицам Заречья сновали катера и лодки. Они причаливали к крышам, оттуда снимали людей, собак и кошек, грузили барахло и перевозили на этот берег. На этом берегу их встречали члены паводковой комиссии. Они выдавали ордера на временное вселение.
Катеров и лодок было мало, а людей в Заречье жило много. Эвакуация затянулась до самой ночи. Но уже наступили белые ночи. Было светло. Чистое, сиреневое небо простиралось до самого горизонта. И до самого горизонта оно отражалось в зеркале разлива.
Уже за полночь в одной из лодок Николай увидел Ирину.
Она сошла на берег. Поставила в глинистую жижу чемодан. С ее руки понуро свисала белая шубка. Только-то и успела захватить, что чемодан да шубку. А может быть, у нее ничего другого и не было. Всё тут.
Лицо Ирины, – когда Николай подошел, – казалось очень бледным, ни кровинки.
В сумеречном свете этой ночи все лица казались бледными: не было теней, которые вместе со светом лепят лицо – вот нос, вот лоб, а вот на щеке ямка; сейчас тени пропали, остался лишь смутный свет, и в этом свете маячили бледные плоские лица.
Но лицо Ирины было особенно бледно – ни кровинки. Должно быть, натерпелась там, на крыше сидя. А кругом вода…
Коля Бабушкин всегда удивлялся, какой разной она бывает. Всякий раз он как будто впервые видел ее. И сейчас он видел ее как будто впервые – такую. Притихшую. Сомлевшую от усталости. Большеглазую от испуга.
Он, ни слова не говоря, подхватил чемодан и двинулся вверх по крутому съезду. Он сообразил, что говорить ничего не нужно. Что если он станет говорить и уговаривать, то она наверняка откажется.
Он правильно сообразил. Заговори только он об этом – она бы отказалась. Наотрез. Но он не стал заговаривать. Он просто подхватил чемодан и двинулся в гору. И ей ничего другого не оставалось, как следовать за ним. Ведь отказываться от того, что не предложено, возражать против того, что не сказано, – глупо. А спросить: «Куда ты меня ведешь?» – не позволяло достоинство.
Обычно она шла впереди. У нее была такая привычка – забегать вперед. Даже когда идешь с ней под руку, невозможно приноровиться к ее шагам – она учащает шаг и все равно оказывается впереди. А отпустить руку – она, сама того не замечая, убежит вперед за версту и даже не оглянется – где ты есть и есть ли ты вообще…