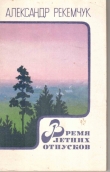Текст книги "Избранные произведения в двух томах. Том 2"
Автор книги: Александр Рекемчук
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 40 страниц)
3
Им всем выпала дальняя дорога. Они уже были попутчиками. А попутчики, как известно, быстро знакомятся друг с другом.
Так что на медицинскую комиссию отправились вчетвером – Алексей Деннов, Борис Гогот, Степан Бобро и Марка Кирюшкин. У Марки – жемчужные зубы. Он цыган.
Только до комиссии решили сходить в баню. Собираясь к врачам, люди всегда ходят в баню, и врачи должны это ценить.
Баня в городе была единственная и поэтому именовалась во множественном числе – «Бани». А может, так и положено.
Еще не в предбаннике, а там, где торгуют билетами и мылом, произошел инцидент.
Алексей, Гогот и Марка купили билеты по рублю. А Бобро Степан пригнулся к окошечку, протянул десятку и сказал:
– Давайте самый дорогой…
– Душ? Ванну? – спросила кассирша.
– Мне, чтобы… отдельный кабинет.
Пораженные Деннов, Гогот и Марка разинули рты. А Степан, червонный, как вареный рак или будто уже из бани, прикупил кусок мыла и пошел налево. Им же было направо.
– Артист! – ругнулся Гогот.
Мылись обстоятельно. С вениками. В просветах между клубами пара сверкали жемчужные зубы Марки-цыгана:
– А, как хорошо… – с акцентом восхищался он. – Первый раз так хорошо. Я в бане первый раз.
– Ну? – удивился Алексей. – А раньше как же мылся?
– А я не мылся. В таборе не моются. Так живут.
Зубы Марки улыбались (они всегда улыбались), а глаза тосковали. Тосковали они, однако, не из-за того, что жалко стало Марке покинутого табора.
– Все равно найдет меня Барон. Найдет… Обязательно убьет. Он уже убивал, когда уходили.
– В Коми АССР не найдет. Далеко, – успокоил Алексей.
– Далеко? – сияли зубы Марки. – Мы там уже сто раз бывали. Ковры продавать ездили. Там ковры любят, деньги есть. Там на коврах заработать можно.
– А ты зарабатывал? – спросил Гогот, глазея сквозь клочья мыла.
– Много зарабатывал.
– Зачем же ушел? Закона испугался?
– Я не испугался. У Барона нож – страшнее закона… Я везде ездил, видел, как живут люди. Я тоже как люди жить хочу. В школе не учился – буду, в баню не ходил – каждый день буду ходить…
Снова сверкнула тоскливая улыбка Марки:
– Не люблю табора. Наверное, я не цыган… Наверное, украли меня.
– Отмоешься – посмотрим, – захохотал Гогот.
В поликлинике их разлучили, выдав номерки к разным врачам, чтобы не стоять в очереди друг за другом.
Сначала по спине Алексея стучал терапевт, потом по коленке – невропатолог, а глазник заставил читать на плакате разные буквы, сперва большие, потом маленькие. Алексей все угадал, а напоследок через всю комнату прочел глазнику, в какой типографии отпечатали ему эту хитрую грамоту для очкариков.
В кабинете рентгеноскопии была непроглядная темень.
– А вы раздевайтесь, молодой человек, – веселым тенорком сказала темень Алексею.
Когда Алексей разделся, она же, эта темень, взяла его вежливо за локоток и запихнула промеж двух железных досок, будто в бутерброд.
– Так. Посмотрим, чем вы дышите… Вздохните…
Потом уже, когда Алексей оттуда вылез, в углу зажегся малиновый фонарик, и он увидел, как малиновая рука, шутя-играя, нарисовала на листочке бумаги типовые легкие, а сбоку разъяснение – что и как.
– Одевайтесь. Следующий…
Пока Алексей одевался, следующего тоже запихали в бутерброд. Бело засветился экран, а на экране показались солидно отдувающиеся ребра, весело трепещущее сердце.
– Так… Так… – сказал тенорок. – Так, так… Странно… Послушайте, больной, у вас там ничего не висит – ниже левой ключицы?
– Я не больной, – обиженно ответили из бутерброда. – И нигде у меня не висит.
– Странно… Не понимаю! – воскликнул тенорок и шагнул куда-то к стене.
Вспыхнул верхний, обыкновенный свет. Алексей, сожмурившись от этого света, увидел тонкого старичка с белыми волосиками над ушами – доктора.
А из бутерброда, потрясая механизмы, вылез Степан Бобро. Голый по пояс.
Но голый или нет – сказать было трудно, поскольку от шеи до пупа он был сплошь разрисован синевато-черными изображениями. Там был огромный орел, уносящий в облака женщину. Был просто женский портрет с косыми глазами. Затем заходящее солнце, трехтрубный крейсер и буханка хлеба – на уровне желудка. Между картинками вкось и вкривь – различные надписи, в частности «Не забуду мать родную» и «Мне в жизни счастья нет».
– Да-а… – тихо, с уважением протянул доктор. – Изумительно. Скажите, пожалуйста, а где это вас так?
– Знаете, папаша, вас тут назначили людей изнутри смотреть. Верно? А не снаружи. Вот и смотрите, что у меня внутри…
Степан уже заметил, кроме доктора, еще и Алексея, и наливался краской. В краске тонуло заходящее солнце, трехтрубный крейсер и орел со своей добычей.
– Извините, – сказал доктор. – Но это поразительно… Вам не доводилось читать «Илиаду»? Там есть отличная глава, посвященная щиту Ахилла. Целая глава перечисляет все, что изображено на щите. Однако Гомер…
– Вы, папаша, – перебил его Степан Бобро, – лучше бы объяснили как врач: снимается это чем-нибудь или уже в гроб так ложиться?
– Право, боюсь утверждать, – доктор взял себя одной рукой за подбородок, а другой эту руку подпер. – Разве только врачебная косметика, если и она не отступит… А вы, молодой человек, почему до сих пор здесь?
Это уже относилось к Алексею, и он послушно вышел. На скамейке, у двери кабинета, сидели человек десять, и все они враз загалдели:
– Один выкарабкался… Три часа сидел… А второй еще сидит…
– Там особенный случай, – объяснил Алексей. – Редкий очень в медицине. Изучают.
И стал дожидаться Степана Бобро.
Вскоре дверь отворилась, оттуда вышел Степан, а за ним показался тонкий доктор. Он, почтительно кланяюсь, стал пожимать Степану руку:
– «Илиаду» вы все-таки прочтите. Непременно.
– Ладно, – пообещал Степан.
– Желаю вам всего наилучшего. Следующий…
– Пойдем, что ли, – сказал Степан Алексею.
Там, у выхода из поликлиники, в скверике, сидела та самая девушка, с очень густыми волосами, которая пришивала пуговицу. Сидела, покачивая смуглой ногой в желтом носочке. Она улыбнулась Алексею, как только его увидела, издали. Ему одному, как будто не видела, что Алексей не один, а со Степаном Бобро.
– Только отмучились? А я уже давно…
И, как ни в чем не бывало, пошла рядом. С Алексеевой стороны.
Они уже были попутчиками. А попутчики, как известно, быстро знакомятся друг с другом.
– Вы, извиняюсь, здешняя или с района? – заинтересовался Степан, высматривая сбоку девушку.
Но девушка обернулась к Алексею:
– У тебя билет в какой вагон?
– Так ведь всем в третий выдали, – ответил он.
Степан же шумно понюхал воздух и сказал:
– Тепло. Бабье лето. На Севере оно тоже, между прочим, бывает.
– А ты валенки купил? – спросила Алексея девушка. – Надо купить. Там, говорят, за зиму две пары сносишь.
– Ну, до свиданья, – сказал Степан Бобро. – Мне в этот переулок сворачивать.
И свернул в тупик.
– Не спрашиваешь, а меня зовут Дусей, – сказала девушка. – Тебя, знаю, Алешей.
– Фамилия у тебя какая-то удивительная, – усмехнулся Алексей. – Ворошиловградская!
– Ничего удивительного, – сказала Дуся. – Я же детдомовская. Меня в детдом из Ворошиловграда привезли: война была. Что меня Дусей звать, я тогда уже знала. А фамилию не знала. Никто не знал – у меня погибли все. Мне и записали в метрику – Ворошиловградская. А отчество – Климентовна, по Клименту Ефремовичу. Понял?
– Все равно удивительная, – сказал Алексей. Но уже не усмехнулся.
Они теперь шли по той самой Кооперативной улице, где позавчера еще Алексей шел с Татьяной. С Таней.
Шли мимо витрин с помидорами и тыквами, мимо окон и подворотен. Только на улице было не темно, как тогда, а светло, и не было гуляющих: рабочее время.
«Вот как. Оказывается – очень просто, – подумал вдруг Алексей. – То с одной шел по этой улице, а теперь с другой. И ничего страшного».
Они поравнялись с кинотеатром. Окошко кассы было открыто, вход тоже открыт, никто не спрашивал лишнего билетика. Только несколько мальчишек при портфелях сидели на ступеньках с разочарованным видом.
– Зайдем? Напоследок? – предложила Дуся.
Будто они уже много раз вместе ходили в это кино. Или как будто там, куда они едут, не видать им больше ни одной кинокартины.
В почти пустом зале, с красными пожарными табличками над дверьми, они сперва смотрели журнал.
Показывали электростанцию, буровые вышки в тайге (может быть, те самые, где придется им работать?), а потом колхозную ферму: множество мордастых свиней, обрадованных тем, что их будут показывать в кино, ринулись к длинным корытам и, толкаясь, тряся ушами, стали поедать комбинированные корма.
– Кушать хочется, – вздохнула Дуся. – Надо было в столовую зайти…
Картина оказалась интересной. Про милицию. Они сначала подумали не на того парня, на которого следует, а потом разобрались, выпустили и посадили другого, какого следует. Первый же парень тогда записался в бригадмильцы. И женился на одной хорошей девушке.
– Счастливые, – снова вздохнула Дуся, когда парень-бригадмилец под конец стал взасос целоваться с этой хорошей девушкой.
После кино Алексей и Дуся заходили в столовую. Дуся настрого приказала Алексею сидеть за столом, а сама его обслуживала. Принесла хлеб, вилки и две порции гуляша. Хлопотала, будто у себя дома кормила дорогого гостя. Даже спросила:
– Вкусно?
Забрели они и в парк. Там аллеи шуршали опавшей листвой. Холодными каплями брызгался фонтан. Духовой оркестр играл длинные вальсы.
Но они ушли подальше от музыки, в самую глубину, где и фонарей не было. А скамейки были.
Посидели там, разговаривая о разном. О дороге, например.
– Где это ты извозился? – спросила вдруг Дуся. – Давай почищу – мел…
И стала тереть ладонью рукав Алексеевой гимнастерки.
Алексей пригляделся к рукаву, засмеялся, отстранил ее ладонь:
– Какой мел? Это же от луны…
И верно: это луна, процеженная ветками старых, облезлых дубов, роняла свет, пятная землю, скамьи, одежду.
Она легко рассекала бегущие пернатые облака. Она была уже по-осеннему зелена и студена.
Запрокинув головы, Алексей и Дуся смотрели на луну.
Завтра им уезжать.
4
– По какой области едем? – спросил Гогот. – Вологодская?
– Нет, уже Архангельская, – ответил Степан Бобро.
– И у них, значит, дождь…
Алексей Деннов досадливо задернул шелковую занавеску с ведомственными вензелями «МПС».
Потому что уже вторые сутки за окном вагона виднелись лишь потоки воды. Вторые сутки поезд шел в дожде.
От скуки Алексей, Степан и Гогот уже в который раз отправились бродить по вагону. Добро, купе в вагоне незакрытые: ходи и смотри, как живут в дороге люди.
Люди жили по-разному. Иные все время спали, иные все время закусывали, иные вели долгие беседы.
Олежка, пассажир дошкольного возраста, сынок Ивановых, тоже едущих в «Севергаз», докучал и спящим, и закусывающим, и беседующим. Озорной такой парнишка.
Сам Иванов, собираясь бриться, повесил на крючок широкий точильный ремень и шлепал по нему опасной бритвой. Шлепал и косился на Олежкино озорство, приговаривая:
– А вот я сейчас наточу ремень!.. Наточу и всыплю кому следует…
– Не всыплешь, небось, – хорохорился Олежка. – О, дядя Степа пришел!
Дядя Степа – Степан Бобро – сажал мальчишку на ладонь и поднимал к самому потолку. Олежка умолкал от страха.
– Урόните, – беспокоилась Иванова.
– Не уроню, – успокаивал Степан и ронял мальчишку себе на грудь. Мальчишка весело визжал, обрывал Степану уши и требовал: – А ну, еще!
– Наточу ремень – и всыплю, – обещал Иванов.
Дуся Ворошиловградская, свесив с полки свою густоволосую голову, долго смотрела на эту возню, на Олежку, а потом вздохнула:
– Мне бы такого… Только девочку.
Гогот подмигнул Алексею. А Степан Бобро зарделся как маков цвет и сказал, обращаясь к Дусе:
– Тоже, значит, детей обожаете?
– Не ваше дело, – ответила Дуся. И улыбнулась Алексею.
В соседнем купе беспрерывно звенел властный женский голос. Он принадлежал Рытатуевой – могучей тетке в цветастой шали. Ей же принадлежал смирный и щуплый, в полосатой сатиновой рубашечке мужчина, Рытатуев. Именно он завербовался в «Севергаз». Рытатуиха же ехала на правах домохозяйки. Его хозяйки.
На столике содрогалась бутылка водки. Рядом – ломоть розового сала, ржаной хлеб. Рытатуева наливала себе стаканчик, мужу – полстаканчика. Тот выпивал, утирал губы вышитым платочком и снова сидел смирно. Рытатуиха же, после стаканчика, крякала молодецки, закусывала розовым салом, никого больше не угощала, зато услаждала все купе речами:
– Я и говорю: выгодней всего – поросятами жить… Мы, к примеру, поросятами жили. Парочку откормим, заколем – на базар. Опять заведем парочку… А теперь, как положили налог, выгоды нету. Вот мы и решили на Север переехать. На Севере разрешается. Не кладут налога… Нехай мой в какое-нибудь производство поступает, а я поросятами займусь. На, Ванечка, выпей…
Ивану – полстаканчика, себе – стаканчик.
После этого стаканчика Рытатуева сомлела, отвалилась к стене и завела частушку:
Горе, горе, муж – Егорий,
Хоть бы худенький Иван…
Себе же самой ответила:
У меня вот муж Иван —
Не дай, господи, и вам…
Сама же подавилась от смеха:
– Ей право, второго Ивана за свой век изнашиваю!.. Первый муж у меня тоже Иваном был. Раком извелся – помер. А этот Иван у меня – второй. Ты, Ванечка, больше не пей… Хилый он, – разъяснила Рытатуева. – Сто грамм выпьет – целый день пьяный. Проснется с похмелья, воды попьет – опять пьяный.
Иван Второй внимательно слушал жену, часто моргая. А жена налила себе еще стаканчик, розовым салом закусила.
– Может, сходим пообедаем? – посмотрев на все это, сказал Степан Бобро Алексею.
Гогот тоже пошел с ними.
В вагоне-ресторане было людно, однако свободный столик нашли. Бобро вслух, с выражением прочел меню и, после долгих сомнений, заказал половину всего, что было там обозначено.
Алексей протестовать не стал. Не каждый день рассиживаются они по ресторанам.
А Борис Гогот сказал официанту:
– Яичницу. Отдельно мне посчитайте.
Когда же официант все записал, как ему говорили, и ушел на кухню, Гогот усмехнулся:
– Это разве ресторан? В ресторане оркестр должен быть. И туда с девочками ходить надо. Чтоб не зря деньги тратить… Между прочим, – снова подмигнул он Алексею, – ты с этой, коротенькой, не стесняйся: порядочные дома сидят – женихов ждут, а не по свету за ними гоняются.
– У нее нету дома, – возразил Алексей. – Сирота.
– С тебя и спрос меньше.
Когда Гогот за свою яичницу заплатил и пошел вон из ресторана, Степан тяжело посмотрел ему вслед и сказал:
– Такой он… предпоследняя сволочь.
Официант принес две никелированные кастрюльки с дымящейся солянкой. Поверху в сметане плавали тощие колесики лимона – одни спицы да обод. Однако все равно солянка была вкусная, забористая. Она еще потому была очень вкусной, что нет вкуснее той еды, которая в движении: когда дробно позвякивает ложка о край кастрюльки и еле-еле плещется в бокале ясное пиво.
– Ты по какой специальности собираешься работать? – спросил Алексей.
– А я не знаю… Придется новую изучать. Или – в разнорабочие.
– Не имеешь разве?
Бобро сдвинул белесые невидные свои брови:
– Я не имею?.. Первого класса шофер. Водитель.
– Чего же?
Степан медленно покачал головой. Налил в рюмку. И Алексею. Они выпили и запили пивом. На поворотах вагон заносило, бутылки кренились. Официанты хватались за столы.
Наверху в репродукторе уже давно вели разговор Тарапунька со Штепселем. Но слышно их было плохо из-за стука колес, из-за плотного шороха дождя по крыше. Будто еще двое людей ведут интересную беседу за соседним столиком.
Некоторые от водки багровеют. А Степан Бобро бледнел. Явственней проступали веснушки, проступали под кожей широкие скулы.
– Я ведь за то и попал. По шоферской судьбе… Ты, небось, подумал – ворюга? Подумал? Говори…
– Ничего я не думал, – уклонился Алексей.
– Девочку я убил. Машиной. Насмерть убил.
Степан сторожил взглядом лицо Алексея. И, должно быть, не туда Алексей отвел глаза – Бобро уставился на бутылку, постучал ногтем по стеклу:
– Из-за этого? Нет. Трезвый был. Только из гаража выехал… А она через дорогу. Тормознуть не успел… Так… Потом ее мать на суде выступала, учительница: оправдать просила. Плачет – и просит… Три года мне дали.
Степан стал смотреть в окно.
По окну – с той стороны – змеились и дрожали вместе с вагоном струйки. А дальше хлестал отвесный дождь. Полая осенняя вода лилась с сумеречного неба. Кюветы почти до краев налиты водой. Мокрые, по-собачьи взъерошенные елки уткнулись в воду лапами: никуда не убежать, нет на этом свете сухого места. За ними клубился сырой туман, похожий на тучу.
– Три года. Ну, я и обжаловать не стал. Насмерть ведь… Сидел честно. Работал. Только всякой грязи порядочно набрался. Какую отмоешь, а какую… видал у доктора, что на мне нарисовано? Так это в первый месяц, с горя. И не то, чтобы с горя – уговаривали очень. С ножом… Там, брат, всякие мастера есть. У них, я думаю, цель – побольше переметить, чтобы с этой метой ты навсегда, по рукам и ногам, ихний…
Усмехнулся. И тут же нахмурился:
– Только за руль я больше не сяду. Никогда.
Глотнул холодного пива. Глаза прикрыл веснушчатыми веками. Помолчал.
– А та девочка… У нее косички были.
«Напьется», – предположил Алексей. И позвал: – Сколько с нас?
Прошли через три вагона. В четвертом, своем, в тамбуре стояла Дуся, смотрела в окно.
Алексей хотел мимо пройти: не отставать же от товарища, с которым только что вели разговор по душам. Степан же, наоборот, увидев Дусю, стал топтаться в тамбуре.
А Дуся повернулась к Алексею и сказала:
– Постоим здесь, Алеша? Посмотрим в окно.
Степан покорно вышел.
Смотрели в окно. В нем ничего не было видно, кроме темноты. Кроме потоков дождя.
Здесь, в тамбуре, да и в самом вагоне к ночи появлялся крепкий холод. Не топили, потому что еще был сентябрь. Но сентябрь не везде одинаковый. Поезд шел прямиком на Север.
– Зябко, – поежилась Дуся и прижалась плечом к Алексею.
Возможно, ей самой и было зябко, но сквозь рукав гимнастерки, сквозь полушерстяной рукав темного ее платья Алексей ощутил живое, греющее тепло.
Он решился и обнял круглые Дусины плечи одной рукой. При этом Алексей внимательно вглядывался в темное окно, вроде он даже представления не имеет, не знает, что делает его левая рука, будто она – сама по себе. Он рассчитывал, что Дуся, по извечному девичьему обыкновению, тоже сделает вид, что ничего не произошло, даже вот не заметит, что ее обняла какая-то несмелая рука: до того интересно за окном.
Но Дуся заметила сразу. Сразу повернулась к Алексею и всем своим коротеньким, плотным, теплым телом прильнула к нему. Забросила руки за его шею, прикрыла глаза…
Поцелуи были очень протяжные, долгие настолько, что хватало времени прислушаться к ходу поезда, к шороху дождя на крыше. Можно было даже думать.
Алексей, например, подумал: «Вот – было время, когда я обнимал, целовал Таню. Любил ее. А теперь – вот эту. Уже ее люблю. Значит, ничего страшного. Все очень просто и замечательно».
Было замечательно. Он осторожно гладил Дусины волосы, чувствуя ладонью, до чего они густы и упруги. Потом выяснилось, что щеки у нее и шея даже на ощупь – смуглые. Особенно радостно было Алексею, что так близко, так безраздельно прижалась к нему девушка, ладная и теплая, сразу – своя. И он снова безошибочно находил ее губы.
«А может, все это – спьяна? – вдруг испугался Алексей. – Все-таки выпили со Степаном граммов по триста…»
Алексей отстранился.
Дуся, как видно, на это не обиделась или же сама решила, что нужно передохнуть. Только руку она оставила на его шее.
– Знаешь, Алеша, если ты хочешь, как приедем – распишемся.
– Можно и погодить. Приспичило? – сгрубил Алексей. Сразу вспомнил сказанные Борисом Гоготом слова: «Порядочные дома сидят – женихов ждут…»
Дуся опять не обиделась, но руку с его шеи убрала, облокотилась на поручни окна.
– Дурак ты, – миролюбиво сказала Дуся. – Совсем не приспичило. А замуж мне и вправду очень хочется выйти…
Сказала она убежденно и будто даже с гордостью.
– У меня ведь своей семьи никогда не было. Была – только я не помню. Даже мамы не помню. Войну помню, а маму – нет. И никакой фотокарточки не осталось… У тебя и отец и мать есть, так что тебе трудно понять. А у меня никого никогда не было…
Тут она спохватилась, наморщила лоб, заговорила горячо:
– Нет, опять не поймешь… У нас, в детдоме, очень хорошая жизнь была. Может быть, некоторым детям в своей семье куда хуже живется, чем нам, детдомовцам. Воспитательницы, учителя – они как родные. Им даже и нельзя быть не как родным – такая работа. А подружек выбирай любую. Можешь какую хочешь выбрать и считай, что сестра… У нас, в детдоме, очень хорошо было, Алеша!
Она помолчала, улыбаясь своим воспоминаниям. Потом улыбка сошла:
– Но все равно это не своя семья. Все-таки каждый там понимает, что нет у него того, что у других есть. Родных нет. Совсем родных, понимаешь? Ну вот… А если пожениться, тогда семья получится. Родная, своя собственная…
– Ясно, – кивнул головой Алексей. Одобрительно кивнул.
И Дуся опять улыбнулась, обрадованная тем, что сумела так толково объяснить.
– Еще мне очень хочется, чтобы была своя комната. Наша… Пускай даже поначалу мебель самая ерундовая, но если всяких салфеток понавешать – у меня с собой полчемодана всяких вышивок – и если абажур повесить, разные коврики – получится очень хорошо! И пусть каждый день гости приходят – стряпать я тоже умею, нас там учили. Пусть приходят, верно?
– Пусть, – пожал плечами Алексей.
Тут Дуся запнулась, в смущении помедлила, но закончила уверенно и смело:
– А вместе спать, наверное, тоже приятно!
Алексей почувствовал при этих словах, как душа его, оробев, юркнула в пятки, но он тут же сгреб руками плотные Дусины плечи и опять, вслепую, отыскал губами ее губы.
И прозрел лишь тогда, когда щелкнула приглушенно ручка двери. В тамбур с бледным фонарем вошел старичок проводник. Он, должно быть, все видел, потому что притворился, будто ничего не замечает, озабоченно покашлял и сказал:
– К Котласу подъезжаем…
Он-то знал, что им ехать не до Котласа.