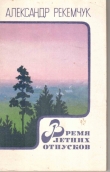Текст книги "Избранные произведения в двух томах. Том 2"
Автор книги: Александр Рекемчук
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 40 страниц)
Зима пройдет,
И весна промелькнет,
И весна промелькнет…
Надо бы выкроить недельку и слетать туда, в Лаптюгу. Или весной, когда Печора откроется, можно на пароходе.
Увянут все цветы,
Снегом их занесет,
Снегом их занесет…
Сейчас-то еще по зимнику можно добраться на машине. Либо на почтовых аэросанях.
Но ты ко мне вернешься…
Николай поймал себя на том, что ужо давно – и слухом, и сердцем – прислушивается к ее голосу, к ее словам, к ее дыханию, к своему дыханию, к дыханию Ирины, к дыханию всего зала.
А дыхание это переменилось. Что-то вдруг изменилось в зале, пока он думал о Лаптюге. Сама тишина изменилась: она перестала быть тягостной, а стала сочувственной, глубокой и одухотворенной. Уже никто не чихал и не ерзал. Только слушали. И дышали…
Неужто всем оказалась так близка эта песня о непутевом парне, который давно уехал, и неизвестно, где его теперь черти носят; и когда он вернется – тоже неизвестно, может быть, совсем не вернется, пропадет; а тут его жди, высматривай, пока глаза не проглядишь, а годы идут и идут и уходят безвозвратно; уже и в волосах полно седины, и шея вон какая – вся в морщинах, и голоса почти не осталось…
Повсюду судьба
Пусть тебя хранит…
Ну, для такой-то песни и не надобно громкого голоса. Много ли голоса надо, чтобы петь-напевать, сидя в одиночестве, а за окнами, предположим, темно, ходит ветер-сиверко и, предположим, тайга кругом, как в Лаптюге.
А-аа-ааа-а-а…
Однако же умеет она обращаться со своим негромким голосом – он у нее серебром посверкивает, переливается, журчит. Ничего не скажешь – искусница. Этого у них, у старых, не отнимешь: силы прежней нет, а искусство есть.
…ааа.
Как снежинка, растаял последний звук – и капелькой повис на реснице у Ирины.
Николай сразу увидел эту капельку, потому что Ирина и стереть не успела – вскочила с места. И еще многие повскакивали с мест. Взорвались аплодисменты, покатились лавиной. Взвился к потолку шальной девчачий визг. Позади яростно затопали ногами. Что-то невообразимое началось в зале.
Коля Бабушкин тоже поднялся и стал вместе со всеми отбивать ладони. Ирина мельком благодарно посмотрела на него и прижалась плечом к его плечу. Это она от восторга. В такие восторженные минуты люди себе многое позволяют, чего в иную минуту никогда бы не позволили.
А народная артистка склоняла голову и плавно оседала, расстилая подол платья, – умело и с достоинством. Конечно, ей не впервые слышать и видеть такие овации, такие бури. Надо полагать, что она и не такие овации слышала, не такие видела бури. Но по ее улыбке – растроганной и чуть смущенной – можно было понять, что она не ожидала найти здесь такой прием.
А по легкой печали, которая все еще заволакивала карие глаза, можно было догадаться, что она жалеет о том, что раньше не пела в этом зале – раньше, когда она была еще в полной силе, и в полной славе, и в полном голосе.
Наверное, она пожалела сейчас, что в ту пору, когда она была в полной силе и в полной славе, здесь еще не было никакого города, не было Джегора, и она поэтому не могла сюда приехать…
У колоннады клуба нефтяников, хитро освещенной лампочкой сзади, чтобы эти колонны вырисовывались отвесными тенями на свету, вдоль широкой лестницы, ступеньки которой горбатились от неочищенного снега, возле заиндевевшей «Победы», стоявшей напротив клуба, – везде толпился народ. Несмотря на поздний час и крутой мороз, никто не шел домой: всем хотелось еще раз взглянуть на народную артистку, как она выйдет из клуба, как она сядет в машину и уедет. Все терпеливо ждали, и над толпой поднимался густой морозный пар.
Коля Бабушкин, Ирина и Черемных тоже решили посмотреть и полезли в толпу, но в это время услышали:
– Ирка!
– Ирочка…
В стороне от толпы околачивались Вова и Митя – пританцовывали и сутулились на стуже. Это они позвали.
– Извините, – сказала Ирина Николаю и Черемныху и пошла туда.
Как раз в этот момент появилась народная артистка. Она спускалась по лестнице, прикрыв подбородок и шею пуховым платком, из-под длинного платья высовывались тупые носки валенок. А следом за ней, с чемоданчиком, шел пианист.
Но Коло Бабушкину было не до артистов. Он высматривал Ирину, которая ушла к своим однокурсникам. Ирина стояла с ними в стороне, они о чем-то разговаривали, вроде бы даже спорили, и Вова с Митей то и дело хватали Ирину за рукава ее шубки – Вова за один рукав, а Митя за другой, – она же старалась освободить рукава, отстраняла их руки, но отстраняла не резко, а мягко, все мягче, все нерешительней, и будто ей уже не хотелось отстранять…
Николай взглянул на Черемныха. А тот вообще стоял с видом отсутствующим, посторонним, не обращая внимания ни на артистов, ни на Ирину с ее однокурсниками. Как будто его тут и не было вовсе. Как будто ему все безразлично. Как будто ему дела нет. И только кудлатые брови его хмуро сомкнулись. Да упругие желваки катались вверх-вниз под кожей щек.
Николай разозлился. Не на Ирину. Не на ее однокурсников. А на него…
Коля Бабушкин рассек плечом толпу и зашагал к тем троим. Подойдя, он взял Ирину под руку, вежливо пожелал Вове с Митей спокойной ночи и повел ее к Черемныху.
Тут же пожалев, что к нему, а не прочь.
Глава восьмая
В нынешние времена как-то уж очень стремительно движется жизнь. Города растут как грибы. Что ни год, объявляются новые страны. Люди умирают редко, а родятся часто, и на земле заметно прибыло людей. Суеты тоже прибыло.
И в этой суете знакомые люди реже встречают друг друга.
Ну, с Черемныхом Коля Бабушкин встречался каждый день. Ведь они теперь вместе работали. То Николаю позарез нужен Черемных, то Черемныху без Коли Бабушкина не обойтись.
А вот с Ириной Ильиной ему так и не случалось встретиться после того вечера, когда был концерт. Хотя и жили они в одной гостинице и даже на одном этаже.
Коля Бабушкин уходил на работу к восьми, а Ирина к девяти, Николай возвращался домой в пять, а она – кто знает, когда она возвращалась?
Узнать, в какой комнате она живет, и постучать Николай почему-то не решался. А ей, вероятно, и в голову не приходило постучать к нему. Впрочем, в комнате № 4, где жил Николай, кроме него, жили еще одиннадцать: геологи, приехавшие в трест за руководящими указаниями, транзитные летчики, дожидающиеся погоды, всякие снабженцы и толкачи – народ горластый. Тут играли в домино и карты, кричали в телефон, смеялись, спорили. Поди за этим шумом услышь стук в дверь. Может, она и стучала…
В нынешние суетные времена одному человеку бывает трудно встретить другого человека, если они загодя не сговорятся о встрече.
А Николай с Ириной не сговаривались.
Правда, однажды вечером, когда Коля Бабушкин шел по темной улице, он вдруг увидел впереди – шагов за сто – знакомую белую шубку. Он опрометью кинулся вдогон. Но белая шубка поплыла в сторону, бесплотно прошла сквозь железные прутья ограды и рассеялась. Она оказалась облачком белого дыма, порхнувшим из-под отъезжающего автобуса.
Николай остановился, пораженный.
Не тем, что шубка оказалась облачком. А тем, что ощутил, как замерло, сжалось сердце. Как оно застучало потом – медленно, гулко…
С чего бы?
Но сердце снова екнуло, когда неделю спустя Черемных отозвал его в уголок цеха и там сказал:
– Ты сегодня зайди ко мне после работы. Посидим.
Усмехнувшись, добавил:
– Тебя хочет видеть… одна дама.
– За здоровье именинника! Живите до ста!
Ирина протянула бокал к Черемныху, и они чокнулись: дзинь.
Есть у людей такая привычка. Пригласить в гости, а зачем и почему – об этом молчок. Приходите, мол, запросто. Посидим скуки ради… А когда ты запросто приходишь и садишься за стол, кто-то поднимает бокал и говорит: «За здоровье именинника!» Оказывается, что хозяин дома сегодня именинник, у него, оказывается, день рождения. Он по скромности об этом умолчал, чтобы ты о подарке не заботился, чтобы тебя не вводить в расход… И вот ты за столом узнаешь про день рождения, уши у тебя пламенеют от стыда и смущения, и ты чувствуешь себя свинья свиньей. А хозяин улыбается как ни в чем не бывало; тешится своей скромностью и тем, что тебя провел на мякине…
Довольно скверная привычка.
– Поздравляю… – бормотнул Николай. И осведомился: – Сколько стукнуло?
– До ста далеко, – увернулся Черемных.
Скрываешь, значит? Скрываешь. Ты меня про года спроси – отвечу. Ты ее спроси – она тоже ответит. А вот ты скрываешь. Ну и зря. Дело ведь не в том, сколько тебе до ста осталось. Дело в том, как ты выглядишь в свой день рождения. А выглядишь ты, прямо скажем, неплохо. Даже завидки берут, как ты выглядишь. Такие, как ты, наверное, женщинам сильно нравятся…
Черные кудри его были сегодня особенно черны и кудрявы, хотя седины не убавилось. Крепкие зубы сияли в улыбке свежо и молодо. По-юношески широко очерчивал смуглую шею распахнутый ворот рубашки.
Он как-то весь помолодел в эти последние дни. То ли потому, что на заводе зашевелилось дело с керамзитовыми блоками – его заветное дело. А может, и не только потому.
– Спасибо, – ответил Черемных на поздравления. И налил бокалы. – За ваше здоровье, друзья.
Они снова чокнулись втроем. Их всего-то и было трое за этим именинным столом: Черемных, Ирина, Николай. И больше никого не было. Три бокала с певучим хрустальным звоном (…дзинь, дзинь…) соединились над именинным столом.
А еще три бокала – обернутые бумагой, повитые стружкой – стояли в сторонке. Их всего было шесть. Николай догадался, что эти бокалы – подарок Ирины. Ей, значит, было известно про день рождения… И вот она думала-гадала, что бы такое ему подарить. И сообразила, что не мешает помаленьку обзаводиться посудой…
Тонкая ножка бокала едва не хрустнула в пальцах Николая.
– Коленька, а почему ты ничего не ешь? – очень ласково спросила Ирина. – Вот винегрет…
«Коленька… Винегрет…» А, спрашивается, кто стряпал этот винегрет? Кто тут, спрашивается, хозяйничал – на квартире чужого мужчины? И кто ты ему, спрашивается?
Этот последний вопрос был как нож в сердце. Как нож…
Николай, поколебавшись секунду, отогнул подол гимнастерки, щелкнул застежкой и положил на стол перед Черемныхом охотничий нож.
– Это тебе, – сказал Николай. – Подарок.
Надо думать, что о таком подарке Черемных и мечтать не смел.
Этот нож завещал внуку Кольке Николай Николаевич Бабушкин – знаменитый печорский охотник. Три медведя простились с жизнью, отведав такого ножа. Его тусклый, густой синевы клинок был особой закалки и резал простое железо. Рукоять ножа была не из дерева, не из кости, не из каких-нибудь цветных плексиглазин, а из тонкого сыромятного ремня, плетенного особым плетением. И ножны были из толстой лосиной кожи, прошитой оленьей жилой. Такого ножа больше нигде не найдешь, хоть весь свет обрыскай. Такого ножа не купишь в хозяйственном магазине, где продаются бокалы со звоном на дюжины, полдюжины и поштучно…
Черемных с одного взгляда оценил подарок. Он даже дотронуться до него не посмел и недоверчиво посмотрел на Николая: а ты завтра не передумаешь? Он-то сразу понял, Черемных, как нелегко лишиться такого заветного ножа.
– Твой, – подтвердил Коля Бабушкин.
Тогда Ирина протянула руку, схватила нож, выдернула лезвие из ножен, взяла за кончик двумя пальцами, размахнулась – нож плашмя брякнулся о дощатую дверь, упал.
– Еще раз! – воскликнула азартно Ирина, отбирая нож у Черемныха. – Я не так бросила…
Нож кувыркнулся в воздухе, стукнулся о дверь рукоятью.
– Еще раз…
– Нет, теперь я попробую. – Черемных, смеясь, легонько сжал ее запястье, завладел ножом.
(А сколько мы выпили, братцы? Сколько там пустых бутылок?)
Черемных с силой метнул. Острие ножа чуть царапнуло дверь, нож упал, звякнув о половицу.
Он с явным огорчением почесал затылок, сказал:
– Гм… Раньше получалось… Когда-то я умел…
Коля Бабушкин поднял нож, отошел к окну, в самый конец комнаты.
Нож просвистел в воздухе, просверкал вертящимся диском, как пропеллер на больших оборотах, вонзился – не дрогнула застывшая рукоять.
– Здорово, – похвалил Черемных.
– Бабушкин, научи меня, ну, пожалуйста!.. – взмолилась Ирина.
Он пожал плечами.
– Этому нельзя научить… Как и плавать. Плавать тоже нельзя научиться. Можно показать человеку, как двигать руками и ногами, но от этого он еще не поплывет… Нужно, чтобы он сам поверил, что сумеет, что не пойдет ко дну.
– А когда поверит? – задумчиво спросила Ирина. – Я не умею плавать…
– Как поверил – так и поплыл… На всю жизнь.
– Товарищ Бабушкин проповедует идеализм? – вздел кудлатые брови Черемных.
– Это не идеализм. Это – чистый материализм, – сказал Николай. И добавил: – Только еще не изученный.
– Проверим, – решительно заявила Ирина.
Рука отведена к плечу. Как струна, натянуто гибкое тело. Сощурен глаз.
– Я верю, я знаю, что этот нож…
Клинок вошел в доску легко и беззвучно, как в масло. Чуть левее меты, оставшейся после броска Николая.
– Здорово, – изумился Черемных.
– Ура! Я умею. – Ирина восторженно захлопала в ладоши. – Чему нас только в институтах учат?
Она обежала стол, наклонилась, обняла Николая за шею.
– Коленька, милый, спасибо… И так все на свете можно, да? Если поверить?
Николай смущенно крутнул шеей, туго обвитой ее руками, виновато посмотрел на именинника (Черемных беззаботно улыбался) и ответил:
– По-моему, да.
– И всего добиться? – спросила она, совсем близко заглядывая ему в глаза.
Что-то настоящее и серьезное, не от игры, что-то испытующее прозвучало сейчас в ее голосе.
– По-моему, да, – ответил Николай.
В дверь постучали.
– Ну вот, доигрались… – проворчал Черемных и стал совать под стол пустые бутылки. – Соседи.
– Телеграмма, – сказали за дверью.
В коридоре темно, не видно человека. Из темноты протянут согнутый книжицей белый серийный бланк, квитанция, карандаш.
Василий Кириллович торопливо развернул телеграмму, застыл.
– Распишитесь…
Он расписался, не глядя.
– Число и время… – напомнили из темноты.
Черемных положил телеграмму рядом со своей тарелкой. Но не сел. Отошел к окну. И оттуда поплыли пряди табачного дыма. Тонкие и сизые, как седина…
Николай обеспокоенно (может, случилось что? может, родственник помер?) посмотрел на глянцевую обложку телеграммы. Но обложка сразу рассеяла его беспокойство. На обложке красовался букетик цветов. Голубые незабудки, синей лентой перевязаны, лента вьется по бумаге, образуя надпись: «С днем рождения!»
Значит, все в порядке. Поздравительная телеграмма. Кто-то вспомнил, что у него день рождения, и отбил телеграмму на красивом бланке. Очень даже приятно.
Николай заметил, что Ирина тоже смотрит на телеграмму, лежащую поодаль, пристально, будто силясь прочесть, что там внутри, под обложкой. Губы ее поджаты от любопытства.
От злости. От презрения. Ах, скажите на милость – незабудочки…
– Василий Кириллович, ради чего вы нас покинули? – спрашивает она. Уточняет язвительно: – Или ради кого?
Черемных возвращается к столу. Но это уже другой Черемных. Ничуть не похожий на того, который пять минут назад весело скалил зубы, отнимал у Ирины нож, прятал бутылки под стол.
Однако и не скажешь, чтобы он выглядел сейчас опечаленным. Нет, этого не скажешь. Просто движения его медлительны и рассеянны… Крупные кисти рук подрагивают взволнованно, сами по себе бродят по столу, не находя покоя. А в глазах – отрешенность. Как у слепца, чьи глаза не назовешь незрячими: ведь они живут и видят – только не то, что снаружи, а то, что внутри…
Черемных гасит папиросу, виновато улыбается, откупоривает «Саперави».
– Друзья, давайте выпьем. За прошлое…
Кажется, он совершает ошибку.
Потому что Ирина решительно прикрывает ладонью свой бокал и говорит с нескрываемым вызовом:
– Мы не будем за это пить… У нас нет прошлого.
(А кто это «мы»? У кого «у нас»?)
– Прошлое есть у каждого человека, – пробует ее вразумить Черемных.
– Коля, у тебя есть прошлое? – в упор спрашивает Ирина.
Николай отвечает не сразу.
Ему трудно ответить сразу на этот вопрос. В какой-то мере он согласен с Черемныхом. Прошлое есть у каждого человека. Пятилетний карапуз говорит: «Когда я был маленьким…»
В школе, для воспитания жизненных навыков, подростка учат писать автобиографию. Он исписывает целую страницу. Где родился, про папу и маму, как он в школу поступил, как его в пионеры приняли, как он стал комсомольцем, как получил третий юношеский разряд по шахматам… Всё большие и важные события.
Но прошли годы. Человек закончил школу. Служил в армии. Снова учился. Работал там-то, а после там-то и еще где-то. Был избран. Был награжден… Он садится писать автобиографию. Получается одна страница.
Воевал. Женился. Народил детей. Было столько радостей в жизни. Было столько в жизни горя. Вот уже тебе бессрочный паспорт выдали. Вот уж ты и в райсобес узнал дорогу… А все это опять-таки вполне укладывается в одну страницу автобиографии.
Сложная штука – прошлое. То, что сегодня тебе кажется важным, очень важным и самым важным в твоей жизни, завтра, когда оно станет прошлым, может показаться тебе не таким уж значительным.
О любви вообще не пишут в автобиографиях. Дескать, была у меня первая любовь. Полюбил я одну девушку, а она взяла и вышла замуж за приятеля… Пережил как-то. А потом вошла в жизнь другая любовь. Да так, что о первой и вспомнить смешно…
– У него нет прошлого, – торжествующе заявляет Ирина.
И хотя Николай в какой-то мере согласен с Черемныхом (ведь у каждого человека есть прошлое), он не пытается возражать.
– Мы выпьем за будущее, – говорит Ирина и сама наливает в бокалы густое, как сургуч, вино. – За будущее, да?
– Да, – кивает Николай. Ему этот тост нравится. За будущее.
Вопрос, есть ли у них будущее, не возникает.
Глава девятая
Старое ломать, ставить новое – жаркая работа. Упаришься. Ведь прежде чем монтировать в цехе агрегаты для производства керамзита, нужно было сдвинуть с места старое оборудование, вытряхнуть из цеха все ненужное – на свалку, в металлолом. А ты попробуй сдвинь, когда оно тут годами стояло, когда оно к фундаментам приросло, приржавело насмерть, когда его приходится отрывать с мясом. Ты попробуй вытряхни, когда оно тонны весит, это старое и ненужное… Тут поневоле упаришься.
Обычно, вконец упарившись, Коля Бабушкин выбегал из цеха на заводской двор, на холод. У остальных ребят в это время был перекур, они присаживались где попало и курили короткими и частыми затяжками, как им грудь велит, дышащая коротко и часто, надсадно. А Коля Бабушкин в это время совершал пробежку до склада готовой продукции и обратно. Пока туда-обратно добежишь – и остыл.
По правде говоря, он не только ради моциона бегал каждый день к складу готовой продукции. Он проверял, насколько тверд в своем слове главный инженер завода Василий Кириллович Черемных. Ведь Черемных дал слово, что в течение всей этой керамзитовой страды, всей этой заварухи кирпич будет отгружаться на Пороги бесперебойно. И покамест, до сего дня, Коле Бабушкину не в чем было упрекнуть главного инженера. Тот держал свое слово. Кирпич шел на Пороги. Но ежедневная проверка казалась Николаю не лишним делом. В конце концов у каждого проверяющего человека со временем вырабатывается привычка, складывается убеждение, что не проверь он разок, проворонь однажды – и все пойдет прахом. Да так оно порой и бывает.
Впрочем, Николаю еще и удовольствие доставляло своими глазами видеть машины, уходящие в дальний рейс, на Пороги. Туда.
– Которая сегодня к Лютоеву едет? – спросил он у диспетчера.
– Тридцать семь – девятнадцать, – ответил диспетчер и кивнул на груженый самосвал. – Вот эта.
В кузове самосвала горой лежал кирпич – золотисто-румяный, как только что выпеченный хлеб, – знаменитый джегорский кирпич. Жаль, что его вот так – навалом – грузят, возят без контейнеров. Должно быть, не хватает контейнеров.
Здравствуй, тезка.
Из кабины самосвала выглядывал шофер. Тот самый, который когда-то, месяца полтора назад, вез его в Джегор. Которого тоже Николаем звать. У которого по дороге баллон спустил. С которым они вели тогда задушевный разговор. Только лицом он что-то исхудал, землистое такое стало лицо, и темно под глазами. Но Коля Бабушкин все равно его сразу узнал.
– Здравствуй, – обрадовался встрече Коля Бабушкин. – Так это ты повезешь кирпич на Пороги?
– Я, – подтвердил шофер.
– Ты там привет передай на Порогах – всем ребятам и прорабу Лютоеву. Скажи: Коля Бабушкин привет передавал…
– Ладно. Передам.
– А с тем вопросом у тебя как, наладилось? – спросил Николай. И, чтобы шофер его правильно понял, чтобы он не обиделся, уточнил: – Я имею в виду квартирный вопрос.
Водитель самосвала отвел глаза, повертел вхолостую баранку. Потом отворил дверцу, вылез из машины и сел на подножку, широко расставив сапоги. Он, как видно, еще не собирался ехать. Возможно, ему еще не успели оформить накладную.
– С тем вопросом еще хуже стало, – сказал он, рассматривая свои сапоги. – Вопрос теперь окончательно заострился…
– Неужели?
– Да вот так… Тогда у меня никаких доказательств не было. Тогда я только интуицией обо всем догадывался – нюхом, значит… А теперь доказательства есть.
– Брось, – не поверил Николай.
– Хоть брось, хоть подними, – глухо сказал шофер и полез в карман за папиросой.
Он сильно изменился за последнее время. Лицом исхудал, глаза и щеки ввалились. Было заметно, что ему страшно неохота обо всем этом рассказывать, даже думать об этом неохота, но он не может не думать и больше не может все это держать при себе, что ему просто необходимо рассказать. А уж если рассказывать, то лучше не постороннему человеку, а близкому и знакомому, вроде этого парня, – вместе ехали.
– Понимаешь, какое дело… Пока у меня не было прямых доказательств, я еще сомневался: мало ли что в голову взбредет, особенно при нервной системе?! Ведь у нас, у шоферов, вся эта система на спидометр намотана… Ерунда, думаю, не может такого быть. Он как-никак член партии, а она – Нюрка моя – десятилетку окончила. Воспитывали небось – Евгений Онегин, Татьяна…
Коля Бабушкин вдруг почувствовал, как дробно стучат зубы. И кожу на спине стянуло холодом. Он ведь прямо так из цеха выскочил, налегке, – до склада добежать и обратно. Не гадал, что встретит знакомого. Но теперь уже нельзя было уйти, не дослушав: не могу, дескать, – замерз… Велика ли беда замерзнуть? Беда – она круче. Вон как у человека щеки вваливаются, когда у него беда.
– Тут как раз Восьмое марта подкатывает. Я, конечно, Нюрке подарок купил – фотоаппарат «Зоркий», чтобы ее снимать, она на карточках хорошо получается… А вечером приходит этот… его Геннадием звать… Тоже приносит Нюрке подарок. Развернули – и прямо у меня в глазах потемнело, сразу все стало ясно… Знаешь, что он ей подарил? Шелковый гарнитур – комбинашку и трусики. Чтобы, значит, она к нему не бегала в чем попало, а культурно – в кружевах. Ну, думаю, обнаглели вконец, даже не скрываются… Шуметь я не стал, сдержался. Но утром Нюрке говорю: «Немедленно, сию же минуту, при мне постучись в ту дверь и отдай. Скажи, дескать, не могу такое принять – стоит очень дорого и, кроме того, мне, мол, стыдно, смущаюсь я. Мне, мол, такое муж купит»… И что же? Нюрка отказывается наотрез: «Не отдам, говорит, подарки нельзя возвращать, обида это для человека… И мне, говорит, гарнитур очень нравится, я его буду носить. А ты, коли вызвался, поди второй купи, только другого цвета»…
Николай обхватил руками окоченевшие плечи и стал на месте приплясывать – потихоньку, чтобы водитель не заметил и не подумал, будто он его плохо слушает. Будто его не трогает чужая беда.
– Тогда я ей намекаю, что мне все давно известно, но не прямо намекаю, а косвенно. Говорю: «Купить мне не жалко, хоть всех цветов, как у радуги. Но не понимаю, мол, зачем и какая тут цель? Мне-то самому совершенно безразлично, какого цвета у тебя исподнее, и я тебя все равно люблю, какое оно ни есть, и хоть бы совсем без него. Я, говорю, ничего не имею против, чтобы замужняя женщина сверху одевалась красиво, – пусть на нее все смотрят и любуются и завидуют мужу, а снизу – это никого, кроме мужа, не касается… Так что, говорю, меня очень интересует, перед кем это ты решила нижним красоваться и откуда у тебя появилась такая растущая потребность?..» Только я ей это сказал – она меня хлысть по морде. Как в кино… Ну, я ей тоже вмазал. Она реветь. Вбегает этот самый Геннадий… Тьфу, вспомнить грех.
Водитель самосвала далеко выплюнул окурок, встал с подножки и закончил свой рассказ:
– Решил я с ней разводиться, с Нюркой, хотя я ее крепко любил и еще люблю. Дай бог, чтобы этот Геннадий так ее любил, как я… Но ничего не попишешь. Подаю на развод… Вот только в газете мне про это ужас как неохота печатать. Объявление… Ведь это все равно что по улицам с медным тазом ходить, кулаком в него бить и орать: «Братцы, я с женой развожусь! Она вон где проживает…»
– Ты погоди с этим, – сказал Коля Бабушкин. – Не торопись. С этим нельзя торопиться. То, что ты рассказал, еще не доказательство. Хотя я тебя прекрасно понимаю и сочувствую. Тебе надо перво-наперво квартиру сменить. Чтобы вы отдельно жили. Может быть, тогда у вас все наладится. Я даже уверен…
Водитель влез в кабину, захлопнул дверцу. Теперь он торопился ехать на Пороги – за разговором ушло время.
– Ты только не торопись, – еще раз попросил его Николай. – С этим нельзя торопиться. Надо все толком обдумать… А главное, квартиру сменить. Знаешь, я сегодня схожу кой-куда, поговорю насчет твоей квартиры…
Шофер внимательно посмотрел на него из окошка, свысока. Странная какая-то усмешка скользнула по его губам. Он с сомнением покачал головой и включил зажигание.
– А детей у них сколько?
– Детей у них покамест нету. Только он и она. И сосед.
– Значит, сосед живет в их комнате?
– Нет, сосед живет в своей комнате, в соседней. Но квартира общая.
– Так… А кто из них туберкулезный?
– Чего?.. – Коля Бабушкин ошалело заморгал. – Туберкулезный? Никто…
Федор Матвеевич Каюров, председатель Джегорского райисполкома, пожал плечами. Отодвинул лежащую перед ним папку на край стола.
– Не понимаю, – сказал он. – Ничего не понимаю… Вы, Николай Николаевич, говорите, что детей у них нет – только он и она. Вдвоем занимают комнату. А в другой комнате – единственный жилец… Итого две комнаты, три жильца. Метраж вполне нормальный. И, как вы говорите, в особых санитарных условиях никто из них не нуждается… В чем же дело? На каком основании мы должны этим двоим предоставлять отдельную квартиру?
Николай замялся. На щеках его почему-то проступил румянец, запылали уши.
– Есть основание… Ревность у них.
– Что? – Теперь глазами моргал председатель райисполкома. – Ревность?
– Ну да… Этот шофер думает, что жена его с соседом…
– Гм… А куда же он смотрит? За женой надо присматривать.
– Ему трудно присматривать. Потому что он и сосед – из одного гаража, на одной машине работают, только этот в первую смену, а тот во вторую…
Федор Матвеевич Каюров издал вдруг какой-то тонкий писк. Стол, за которым он сидел, задрожал, и карандаши в стаканчике задрожали. Он смеялся беззвучно, только живот его колыхался, только в белках его глаз набрякли красные жилки.
– Как вы сказали?.. На одной машине?.. У-ух… Этот в первую смену, а тот во вторую… О-ох, не могу!
Но так же внезапно, как начал, Каюров оборвал свой смех, расстегнул крючки воротника, отер глаза и снова сделался серьезным, озабоченным.
– Значит, ревнует? Понятно… Это бывает. Иногда случится такое – света не взвидишь. С ума сойдешь. Да… Хотя и пережиток.
– Пережиток, конечно, – горячо согласился Коля Бабушкин. – Но тут вопрос о семье. Может разрушиться семья.
– Верно.
– Нужно им дать отдельную квартиру. И тогда все образуется.
– Верно… Однако сейчас о квартире не может быть и речи.
Каюров придвинул папку, раскрыл ее, вынул оттуда пухлую кипу бумаг – напечатанных на машинке, написанных от руки, сшитых нитками, скрепленных скрепками, исчерканных наискосок резолюциями.
– Вот, – Каюров тряхнул кипой, – это все насчет квартир. Правда, большинство ходатайствует о расширении. Мы теперь много строим, и таких, чтобы совсем бездомных, у нас в Джегоре раз-два и обчелся. Но люди хотят большего, требуют отдельные квартиры… Основания веские: многодетные семьи, молодожены, которые вместе с родителями живут, и так далее. Некоторые в Москву жаловались – имеем прямые указания.
– Но тут ведь особый случай, можно сказать, чрезвычайный, – настойчиво повторил Коля Бабушкин. – Беда у людей. Помочь надо.
Федор Матвеевич задумчиво полистал бумаги. Что-то прикинул в ум. Решил – взялся за карандаш.
– В принципе не возражаю. Отдельную квартиру дадим. Но только в порядке очереди. Пускай напишет заявление – поставим на очередь…
«На очередь»… И жди-дожидайся, пока подойдет твоя очередь. Покуда наступит черед рвать тебе зуб. А зуб этот коренной и сердечный. «Кто последний, граждане? Я за вами…»
Да разве такие дела решаются в порядке живой очереди? Там, в зубной поликлинике, и то есть неписаный закон: если тебе зуб рвать, если тебе невмоготу – валяй безо всякой очереди…
– Как его фамилия? – спросил Каюров…
А как его фамилия? Николай с унынием обнаружил, что фамилии не знает. Он не догадался спросить у шофера фамилию. Впрочем, не в фамилии дело. Не из-за этой фамилии он почувствовал вдруг тягостное уныние.
– Не знаю… Николаем его зовут.
Каюров кинул карандаш обратно в стаканчик. Выразительно кашлянул.
– Видите ли, Николай Николаевич, – сказал он потом, – я еще в начале нашей беседы хотел вам заметить, что, судя по всему, человек, о котором вы хлопочете, не является вашим избирателем. Он живет в черте города, а ваш – тридцать четвертый округ – самый дальний в районе… Пользуюсь случаем напомнить вам как молодому депутату, что ваш долг – ходатайствовать за избирателей своего округа. А не за встречных-поперечных и случайных знакомых, которых вы даже по фамилии не знаете…
Николай смолчал. Ему было нечем крыть. То есть крыть ему было чем, но он от этой дурной привычки давно отрекся.
– Вот так, Николай Николаевич, – с отеческой улыбкой сказал Каюров, пожимая ему на прощанье руку. – Не забудьте, в понедельник сессия.
Выходя, Коля Бабушкин столкнулся в тамбуре с Ириной Ильиной. У нее из-под мышки, как пушечное жерло, торчал рулон ватмана. Николай прижался к стене, пропуская Ирину.
Но едва Ирина появилась в кабинете и едва Каюров увидел направленное на него бумажное жерло, он замахал обеими руками и взмолился:
– Нет-нет, Ирина Петровна, только не сегодня… Это вы мост принесли?
– Мост.
– Сегодня никак не могу. Готовим сессию.
– Федор Матвеевич, вы подписали письмо относительно денег на строительство нового моста?
– Даже не читал, Ирина Петровна… Есть неотложные дела – план по жилью трещит. А мост пока держится.
«Нет более долговечных сооружений, чем временные», – говорят архитекторы. Они знают, что говорят.