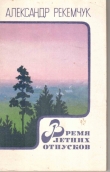Текст книги "Избранные произведения в двух томах. Том 2"
Автор книги: Александр Рекемчук
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 40 страниц)
Глава одиннадцатая
Встреча в райкоме партии была назначена на девять утра.
Почти всю дорогу от Скудного Материка до Усть-Лыжи они ехали молча. А если и заговаривали – то просто так, о чем-нибудь постороннем, о попутном, что на ум взбредет, что с языка сорвется. Избегая основной и главной темы. Хохлов сидел, надувшись как сыч. Нина Ляшук, видя состояние коллеги, не хотела его усугублять. А Терентьев рассудил здраво, что такая беседа должна произойти в обстановке вполне официальной и ответственной, следовательно – в райкоме.
В Усть-Лыжу они приехали затемно. Нине Викторовне и Платону Андреевичу приготовили место для ночевки в Доме колхозника.
А наутро они уже были в кабинете первого секретаря.
Хохлов имел основания предположить, что местное руководство поведет разговор в форме претензий. Поэтому он заранее изготовился к достойному отпору и отповеди. Весь его вид выражал боевую готовность.
И это не ускользнуло от внимания Егора Алексеевича. Он решил избрать свою, обезоруживающую тактику.
Он усмехнулся – простодушно и как бы даже виновато:
– Значит, не оправдали мы ваших надежд, товарищи геологи? Ничего у нас нету… – И, прибедняясь, добавил: – Наверное, предки наши не случайно придумали для здешних мест такие имена: Пустозерск, Пустошь, Скудный Материк… А?
Его ход оказался безошибочным.
Петушиный задор на лице главного геолога вдруг сменился выражением сочувственным и даже сердобольным.
Что ж, на нет и суда нет. Он развел руками.
Но желая теперь немного утешить секретаря райкома, чтобы он не пекся об одном лишь своем уделе, а получил представление о всей совокупности решаемых вопросов, сказал:
– Видите ли, товарищ Терентьев, если иметь в виду проблемы разведки в целом, то иногда твердое «нет» не менее важно, чем твердое «да»… На геологической карте страны не должно быть белых пятен. И если об определенном районе мы можем с полной уверенностью сказать, что здесь нет никаких перспектив для добычи полезных ископаемых, то это, как ни парадоксально, тоже своего рода достижение… Вы согласны со мной, Нина Викторовна?
– Согласна, Платон Андреевич, – ответила она.
При этом Нина Ляшук смотрела в окно: что-то там ее, по-видимому, заинтересовало. В окно, а не на него. Однако она с достаточным вниманием слушала его речь.
– Кроме того, – продолжил Хохлов, – не мешает напомнить конкретную задачу, которая ставилась при бурении Скудноматерикской скважины. Это – оценочная скважина. Она могла дать нефть. Могла и не дать – и, увы, не дала… (Все же при этих словах краткая судорога, как от колотья в сердце, мелькнула на лице главного геолога – и сгладилась.) Но мы получили четкий литологический разрез данной площади – вы сами видели, как тщательно отобран при бурении керн… И это безусловно окажет ценную помощь во всей нашей последующей работе.
– Ясно, – кивнул Терентьев.
Однако он больше не имел желания разыгрывать простодушие. Теперь следовало переходить в атаку.
– Вы позволите задать один прямой вопрос? – Он подался вперед всем телом, уперев локти в стол.
– Разумеется.
– Значит ли, что неудача в Скудном Материке окончательно решает судьбу Лыжи? Ставит крест на всем северо-западном направлении?
Нина Ляшук, которой, должно быть, надоело рассматривать заоконный пейзаж, решительно обернулась и теперь смотрела прямо на секретаря райкома.
– Нет ли смысла пробурить здесь еще несколько скважин? – наседал Егор Алексеевич. – Чтобы иметь окончательную и полную уверенность? Ведь могут быть неожиданности…
Платон Андреевич зашевелился в кресле. Было заметно, что сказанные сейчас слова были ему близки, приятны, даже и в какой-то мере могли быть его собственными словами. Но он сам уже вряд ли набрался бы мужества снова, еще раз произнести их.
– Видите ли, – немного растерянно отозвался он, – здесь имеются некоторые сложности… Дело в том, что разведка в районе Лыжской гряды ведется уже давно… десять лет… Мы получали иногда обнадеживающие результаты. Потом они не подтверждались. И в целом, суммируя итоги…
Он потер кисти рук одна об другую, будто они у него зябли.
– Хотя бы еще одну скважину! – настаивал Терентьев.
– Это значило бы выбросить на ветер еще миллионы рублей.
Но это говорил уже не Платон Андреевич.
Это говорила Нина Ляшук.
И в ее тоне сейчас была такая непререкаемая твердость, что Егору Алексеевичу, хотел он того или не хотел, пришлось перенести свое внимание на очкастую пичугу, зачем-то залетевшую сюда из Ленинграда.
– Турбобур не может и не должен брать на себя функции геолога. Это было бы чересчур накладно для государства. Мы располагаем достаточным арсеналом научных средств, чтобы не бурить вслепую, а заранее знать, где есть полная вероятность найти нефть, а где ее наверняка нет… Для этого существует и сейсмика, и гравиметрия, и даже, представьте, математика – анализ многолетних данных с помощью счетных машин. Короче говоря, для этого существует наука.
Ее брови нахмурились жестко.
– К сожалению, еще совсем недавно мы бурили не там, где были основания добиться цели, а там, где это было… удобней. По ряду других причин, не имеющих касательства к науке.
Теперь посматривал в окно Платон Андреевич.
– Стало быть, вы – против Лыжи? – напрямик спросил эту женщину Егор Алексеевич.
– Нет, – ответила она. – Я против дальнейшего бурения на Лыже. – И вдруг улыбнулась. – А во всем остальном – за!
– То есть? – не понял Терентьев.
– Молоко у вас очень вкусное, – сказала Нина Ляшук. – Мы пили сегодня утром в столовой. Никогда еще такого не пробовала.
– Великолепное молоко! – воскликнул Платон Андреевич, который, похоже, был очень обрадован этим поворотом беседы. – Не молоко, а нектар.
– Да… Молоко у нас хорошее. – Егор Алексеевич повертел крышку чернильницы. Потом добавил: – И масло. Лучше вологодского.
Но тут же сам устыдился столь откровенного своего бахвальства. Тем более что этот разговор о молоке и масле ничуть не развеял его подавленного настроения. Впрочем, вопрос, ради которого они встретились, был уже исчерпан и вполне ясен.
– В котором часу вы летите? – справился он.
– В шестнадцать десять, – сказал Хохлов.
Им еще предстояла промежуточная посадка в Печоре, прежде чем они попадут в базовый город. А Нина Викторовна уже там должна была пересесть на турбореактивный до Ленинграда.
– Что же вы будете делать до шестнадцати? – обеспокоился Терентьев, глянув на стенные часы.
– Гулять, – бодро ответил Платон Андреевич.
– Дышать, – сказала Нина. – Кислород у вас тоже хороший. Как молоко.
– Хороший, – подтвердил Егор Алексеевич.
Он проводил их через приемную, к самому выходу, и там они распрощались.
Потом он вернулся в кабинет, сел за стол, приподнял крышку «шестидневки». Так, завтра – бюро.
В папке перед ним уже лежала отпечатанная повестка дня. Он скользнул взглядом по пунктам: «Прием… персональные… о ходе подготовки к празднику… отчет партийной организации молокозавода… разное…»
«Молоко у вас очень вкусное. Никогда еще такого не пробовала».
Подумаешь, Америку открыла. Ты бы вот масло попробовала.
Теперь уже Егор Алексеевич Терентьев, первый секретарь Усть-Лыжского райкома партии, смотрел в окно, подперев щеку.
Он только сейчас подсчитал, что минул год – ровно год с той поры, как он впервые поехал на буровую в Скудный Материк.
И только сейчас он понял, что весь этот год – как он ни труден и ни хлопотен был, и сколько ни принес этот минувший год всяких треволнений, вспомнить хотя бы партийную конференцию, – весь этот год, помимо всего обычного, каждодневного, он жил еще одним, заветным, с чем просыпался и засыпал, и постоянно помнил, ощущал где-то рядом. Нет, это не было просто знанием того, что в девяноста километрах отсюда бурится нефтяная скважина: о скважине и о людях, работавших там, он и так был обязан помнить по долгу своей службы и проявлять к этому вполне практический интерес.
Но это было еще и другим, сокровенным: его мечтой. Мечтой о некоей совершенно новой, неузнаваемой Усть-Лыже, которую однажды он даже себе вообразил: с промыслами, эстакадами, микрорайонами и телевизионной вышкой на горке…
Теперь это ушло. Судя по всему – безвозвратно.
И ему, конечно, было жалко расставаться со своей мечтой.
Но даже не это сейчас так удручало Терентьева. Въедаясь в собственную душу, он вдруг уличил себя в самом постыдном и тяжком: в том, что весь этот прошедший год его мечта маячила перед ним на первом плане, а все остальное было на втором… То есть его никто не мог бы попрекнуть, что он ослабил внимание к устоявшемуся, основному, исконному хозяйству района, увлекся одним в ущерб другому, проявлял невнимание к давно знакомым людям. Если бы это произошло, то оно бы не укрылось ни от чьих глаз: такая уж у него работа.
И все же Егор Алексеевич должен был сейчас признаться себе в том, что если иметь в виду затаенное – его несостоявшуюся мечту, – то, правда, остальное как бы отодвинулось для него на второе место. Стало не во-первых, а во-вторых…
Что во-вторых?.. Трофим Малыгин – во-вторых? Агния Малыгина, Катерина Малыгина – во-вторых?..
Нет, хорошо, что в эту минуту он был в полном одиночестве и что никому не потребовалось зайти в это время к секретарю райкома.
Терентьев еще раз, повнимательней, прочел завтрашнюю повестку дня. «Прием… персональные… отчет партийной организации молокозавода…» Так. Все правильно.
Он взялся за газеты, не читанные им со вчерашнего дня, пока он был в отъезде.
Сперва – областную. Была у него такая привычка, а может, и грех, начинать чтение с областной газеты. Этому имелось оправдание. Егора Алексеевича прежде всего интересовало, что пишет пресса об Усть-Лыжском районе. И было очень мало вероятности обнаружить материалы, касающиеся Усть-Лыжи, в «Правде» или, скажем, в «Советской России». Ведь сколько их, таких Усть-Лыж, в России! И сколько в Советском Союзе таких районов, как тот, которым он руководил.
А тут, восвоясях, всего-то и было четырнадцать районов. И почти в каждом номере областной газеты, ну в крайности через номер, появлялись сообщения об Усть-Лыже – и естественно, что их-то он и прочитывал в первую очередь.
Однако на сей раз, листая полосы и ища пометку «Усть-Лыжа», он нашел лишь одно кратенькое сообщение в самом конце четвертой страницы под рубрикой «Происшествия». Заметка называлась «Вот так гость!», в ней рассказывалось, как в избу колхозника Собянина залез оголодавший песец… И всё.
Терентьев опять начал с первой страницы.
«Новое месторождение на Вукве»… Ну, об этом он уже знал и без газеты, наслышался досыта от ленинградской пичуги, когда они ехали вместе в Скудный Материк.
«Идут натурные съемки» – фоторепортаж и беседа с кинорежиссером Одеяновым. Любопытно, надо потом прочесть…
Перелистнул страницу. В глаза бросился заголовок, набранный крупным шрифтом: «За 200 яиц от каждой несушки!» Егор Алексеевич пробежал столбцы, и взгляд его замер на подписи; «В. Шишкин, инструктор обкома КПСС».
Вася Шишкин делал заход по второму кругу.
А Нина Ляшук и Платон Андреевич гуляли по Усть-Лыже и, как они обещали секретарю райкома, дышали кислородом. Осенний воздух был крепок, прохладен, свеж.
Хохлов, завзятый любитель и знаток печорской старины, то и дело останавливал свою спутницу подле какой-нибудь ничем, на ее взгляд, не примечательной избы, громоздкой, скособоченной, потемневшей от времени, и начинал восторгаться вслух:
– Охлупень-то, охлупень – глядите, а!
– Какой еще охлупень? – удивлялась Нина.
– Да вот этот, на крыше… Видите, с коньком?
И тогда она замечала бревно, соединявшее два выгнутых ската дощатой кровли, а на конце бревна действительно была вытесана голова диковинного, вряд ли существующего в природе, но допустимого в сказке зверя.
– Это вроде химер на Нотр-Дам, – сказала Нина.
Она недавно побывала в Париже.
– Плевать на ваш Нотр-Дам, – ответил Хохлов и соответственно извинился: – Пардон, мадемуазель… Вы лучше взгляните на эти курицы!
– Какие курицы? – недоумевала Нина Викторовна.
– Ну вот эти крючья, которые держат водосточный желоб. И все – деревянное. Чудо, верно?
Теперь она увидела и курицы.
– Понимаете, – объяснял ей Хохлов, – эти крыши сложены без единого гвоздя. Тогда здесь не было гвоздей. И какая изобретательность, какой хитроумный монтаж…
Они шли дальше, и опять он хватал ее за рукав, останавливал, показывал:
– Крыльцо, видите, оно держится на одном столбе. А сам столб каков!
Толстущий деревянный столб был вытесан, как шахматная ладья. А крыльцо в кружевной резьбе.
– Красиво, – похвалила Нина.
– Не то слово. Изумительно! – продолжал восхищаться Платон Андреевич. – Притом, заметьте, как откровенно выражена функция деталей, как обнажен материал… Куда вашему Ле Корбюзье! Ведь всему этому – века…
Нине показались немного преувеличенными восторги главного геолога. Но ее радовало, что он отвлекся от своих тягостных дум, так оживлен и словоохотлив. Вполне возможно даже, что это было не нарочитым, не своевольным, а не зависящей от его желания защитной реакцией нервной системы. Она бдительна.
Теперь они шли мимо сельских магазинов, следовавших один за другим.
К двери раймага тянулась изрядная очередь.
– Что дают? – поинтересовался Платон Андреевич.
– За вельветом, – сообщили ему.
Это было неинтересно.
Рядом красовалась вывеска: «Хозмаг». Изнутри к стеклу витрины приклеена бумажка: «Гвоздей нет».
Нина весело расхохоталась.
А дальше был книжный магазин.
– Зайдем, – предложил Хохлов. – Здесь, в глуши, иногда такое попадается – на Невском не сыщешь.
Она согласилась. Все равно делать нечего: нужно коротать часы.
Посул бывалого северянина оправдался. Глаза Нины Викторовны разбежались, засверкали азартно и жадно, когда она взглянула на прилавок.
– О!.. – воскликнула она, схватив белый томик Петрарки. И прижала его к груди, будто боялась, что кто-нибудь отнимет.
Но в магазине сейчас никого не было, а продавщица, забившись в угол, кидала костяшки на счетах.
– О… – сказала Нина и присоединила к Петрарке «Признанья» Винокурова.
Потом взяла «Тихого американца», «Аку-аку» и сразу три увесистых тома афанасьевских сказок. Горка росла.
– Самолет, – попытался ее вразумить Платон Андреевич, намекая на багажные расценки.
– Ерунда, – ответила Нина.
Рука ее порхала над лежбищем книг, открыто наваленных на прилавок, и Хохлов заметил, как ее пальцы то с благоговейной нежностью касались одной обложки, то с безразличием и даже брезгливостью миновали другую.
Вдруг он насторожился.
Эти пальцы задумчиво тронули темно-зеленые корешки двухтомника. Имени автора на обложке не было. Было официальное и многострочное, как на старинных фолиантах, заглавие: «Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
Хохлов пристально следил за тем, как поведут себя пальцы.
Пальцы медленно перелистывали страницы…
– У меня это есть, – сказала Нина Ляшук. – Вы читали?
– Да.
Продавщица в дальнем углу все постукивала костяшками.
– Все-таки это поразительно. Я имею в виду характер… Вы обратили внимание – вот здесь, в самом начале, – когда немцы были под Москвой… А он писал так, будто мы стояли под Берлином… Такая уверенность, такая сила.
– Да, конечно, – пробормотал Хохлов.
Она расплатилась, а Платон Андреевич подхватил тяжелую связку.
Уже на улице, когда они неторопливо шли к аэродрому, она, помолчав, продолжила:
– Я читала одну книгу о нем, на французском. Там есть всякие мелочи. Но они почему-то потрясли меня… Это схимничество. В Павшине, на даче, он спал под старой драной шинелью – до самого конца… И вырезал ножницами картинки из «Огонька», прикалывал их кнопками на стену…
Платон Андреевич напряженно вслушивался в интонации ее голоса. Потому что это говорила она. И говорила именно теперь.
– Понимаете, я имею в виду человека. Просто человека. И трагедию этого человека.
Хохлов промолчал. Ему эта французская книга не попадалась.
Сельский аэродром был безмятежен и тих, как пастбище. Только два вертолета, приспустив лопасти, похожие на лепестки ромашки, стояли поодаль, и возле одного из них копошились механики.
Они зашли к диспетчеру, выяснили, что погода есть, что самолет прибудет по расписанию и улетит по расписанию. Но этого часа предстояло еще ждать да ждать…
К счастью, здесь оказался буфет, и они перекусили. Вскрыли банку аргентинской рубленой говядины с яркой наклейкой и специальным ключиком – сматывать тонкую жесть. Наверное, уже нигде, кроме Усть-Лыжи и самой Аргентины, невозможно было бы найти таких экзотических консервов. Съели полковриги хлеба. И снова воздали должное медвяному здешнему молоку.
И опять отправились гулять. Дышать кислородом.
Они шли краем летного поля, огибая его по дуге. Невысокий ельник окаймлял это поле по правую руку, и Нина заметила среди елок какие-то дощечки, перекрестия, оградки.
– Что там? – спросила она.
– А-а… – поморщился Хохлов. – Кладбище. Очень подходящее соседство.
Он по-прежнему не ладил с «Аэрофлотом».
– Я хочу посмотреть, – сказала Нина.
Ох, эти дамские сантименты.
Но ему ничего не оставалось, как подчиниться капризу своей спутницы. Впрочем, кладбище это, он знал, было довольно интересным. Старообрядческое.
Осевшие и съежившиеся могильные холмики поросли отцветшей бурой травой. Покренившиеся ветхие кресты были каждый о восьми концах да еще сверху снабжены косыми рейками – подобием крыши. Дескать, тоже дом. И мир дому сему.
Кое-где на крестах различались полустертые временем буквы.
Нина попыталась прочесть:
– Гди, гди… призри снебсе и виждь… – Она поправила очки, беспомощно оглянулась на Платона Андреевича. – Что такое «гди»?
Он улыбнулся высокомерно. Вот так-то, коллега, почтеннейший доктор наук. А вы – гравиметрия, математический анализ…
И показал ей едва заметные знаки над буквами – титлы.
– Не «гди, гди», а «господи, господи», – объяснил Хохлов. – Это сокращения в церковном письме. Ничем, извините, не хуже, чем ВНИГРИ…
Нина погрозила ему пальцем.
Потом она уже сама, скорей догадкой, чем знанием, справлялась и с титлами, с кириллицей:
«Несть грех побеждающий милосердие божие…» «Христос на кресте пригвоздися и всяку душу от уз избави…» «Помяни мя, господи, егда приидеши в царствии си…»
Эти наидревнейшие надгробья были безымянны. Лежавшие там будто отрекались от своего земного бытия, самоуничиженно отвергали собственную личность – никто, мол, я, токмо раб божий, тлен, червь.
Дальше уже поминались, но не всяк и не каждый в отдельности, а совокупно и сурово: «При сем кресте полагается род Якова Михайловича Собянина», «Здесь покоится род Матвея Лызлова»…
Кресты редели. Меж них все чаще и гуще вставали четырехгранные, сужающиеся кверху столбики.
Один из них был выше остальных и увенчан пятиконечной звездой.
«Здесь похоронены члены волостного комбеда, расстрелянные карательной экспедицией белой гвардии 10 августа 1919 г. М. В. Собянин, Т. Т. Собянин, Г. Ф. Собянин…»
В Усть-Лыже исстари обитали Собянины, как Малыгины – в Скудном Материке.
Хохлов снял кепку и уж больше ее не надевал, покуда они шли кладбищенскими тропинками.
– Обратите внимание, – сказал он, – сейчас будут одни лишь женские имена, только женщины.
– А почему? – тихо спросила Нина.
Он показал даты: 1943, 1944, 1945…
Мужчин тогда хоронили в других местах. Под Курском, в Польше, в Берлине… Там они и лежат.
Дальше опять были столбики. И снова восьмиконечные кресты.
У одной могилы они приметили скамейку, решили посидеть. Под скамейкой кудрявилась поздняя голубика, увешанная налитыми лиловыми ягодами и росными каплями.
Из близи донеслось тарахтенье вертолетного двигателя, свист лопастей. Но тотчас же смолкло. И тогда они с особой отчетливостью услышали всю чистоту и невозмутимость тишины, которая бывает лишь на кладбищах.
И хотя они забрели сюда просто так, от нечего делать, из любопытства, ими понемногу овладело то настроение, которым должен проникнуться человек, когда он приходит в такое место. И садится на скамейку у холмика.
Во всяком случае, на Платона Андреевича это явно повлияло соответствующим образом.
– Мне однажды довелось побывать на Новой Земле. И на соседних с нею островах, – заговорил он. – Там я видел птичьи базары. Знаете, это такие колоссальные гнездилища, где они живут колониями. Миллионы птиц. Все сплошь покрыто птицами – берег, скалы…
– Я слыхала. Или даже смотрела – в кино.
– Ну вот. Они там совсем непуганые. Никого и ничего не боятся. Впрочем, я давно там был – не знаю, как теперь… Крик невообразимый. Они тут же спариваются, откладывают яйца, высиживают птенцов… Знаете, что меня поразило? Среди них, в самой сутолоке, буквально бок о бок сидят полярные совы. Белые, очень хищные. И вот когда у совы появляется аппетит, она, даже не взлетая, не трогаясь с места, хватает ближайшую птицу, убивает ее, рвет на куски и ест. Питается… Но остальные на это не обращают ни малейшего внимания. Не проявляют никакого беспокойства. Занимаются своими делами, хлопочут, галдят. Потом, через некоторое время, сова опять протягивает клюв и хватает – ту, что поближе… – Хохлов достал из кармана пальто пачку «Новости», размял сигарету, щелкнул зажигалкой. – И все равно те, что вокруг, не тревожатся, не улетают… Просто их очень много. Миллионы. И возможность стать очередной жертвой невелика. Тут своего рода теория вероятности. В инстинктивном плане… Забавно, не правда ли?
Он улыбнулся ей. Но улыбка была вымученной и жалкой, неестественной.
– Хохлов, кончайте, – сказала Нина. – И если хотите – уйдем отсюда.
– Нет, зачем же? Здесь очень мило.
– У вас нет достаточных причин хандрить. Будьте молодцом.
– Вы даже считаете, что нет причин?
– Я сказала – достаточных… Ну, неудача. От них не застрахован никто. Тем более в нашем деле. Мы так привыкли: любую неудачу замалчивать. До недавних пор у нас даже стихийных бедствий не бывало – настолько все хорошо организовано… К тому же мы игнорируем вполне очевидную истину: если кого-то в науке постигает неудача, то это прежде всего означает, что прав оппонент – побеждает другая точка зрения. Иначе – болото…
– Другая точка зрения – это, стало быть, ваша? – корректно, но зловеще осведомился Платон Андреевич.
– Не только моя. Но и моя тоже.
– Значит, вы были заранее уверены, что скважина… что будет неудача. Да?
– Да.
Хохлов отшвырнул недокуренную сигарету. И кажется, вместе с ней – хваленую свою корректность.
– Тогда скажите откровенно… какого черта вы сюда соизволили приехать? Зачем? Чтобы иметь повод…
– Замолчите, Хохлов, – не повышая голоса, но резко оборвала она его.
И отвернулась. Носком своего ботинка на толстой бугорчатой каучуковой подошве тронула кустик голубики. С него сорвались наземь капли.
– Откровенно? – переспросила потом она. – Пожалуйста. – Но все же некоторое время еще молчала, колеблясь, прежде чем сказать. – Когда-то мне тоже было плохо. Очень плохо. И я была одна…
Он сидел, пригнув голову и загородив ладонями щеки. Но все равно сквозь пальцы и поверх них была видна краска, почти багровая, залившая все лицо. Она была тем более заметна в соседстве с его сединой.
Нина подняла руку, коснулась легко этой седины – еще не совсем, не до конца белой, с редкими темными нитями, золистой. Она была похожа на пепел, укрывший уголья, – его седина.
И тогда он неловко вывернул голову и поцеловал ее руку.
– Вот и все, – сказала Нина.
В конце концов он все же сумел прийти в себя, распрямился, снова деловито занялся сигаретами и зажигалкой.
– Да. Все.
– Что?
– Возвращаюсь домой – и подаю в отставку. Время.
– А, бросьте, – отмахнулась Нина. – Это под настроение…
Хохлов пожал плечами.
Должно быть, она не понимала, что его намерение возникло не сейчас, не сию минуту.
И дело даже не в его собственном намерении. В конце концов, если понадобится, никто не станет дожидаться его смиренного ходатайства. Могут, как говорится, попросить. Хотя и не бог весть какой весомый аргумент неудача оценочной скважины, но именно эта последняя толика способна перевесить чашу.
Платона Андреевича отнюдь не томили заботы о хлебе насущном, который никто у него не мог отнять, как и никто не мог перечеркнуть его заслуг.
Его сейчас мучило другое.
Он опять вспомнил тот ленинградский вечер. Она спросила его по святой простоте: «А почему вы уцепились за Лыжу? Почему вы не выходите в другие районы?» И высказала предположение о линзах…
Как будто он сам не понимал этого. Он раньше всех догадался, что они натолкнулись на линзы. Но он был вынужден молчать.
Попробуй он тогда заикнись об этих проклятых линзах – ему бы живо сосчитали миллионы, уже истраченные на Лыжу. И напомнили бы о трубопроводах, проложенных к Лыже. И о барачном городке на Лыже. И о той именитой премии, которую он получил за Лыжу. Его бы просто не стали слушать. Или прогнали взашей. Или того хуже. В ту пору не шибко миндальничали.
Но ведь это было еще в пятидесятом. Почти десять лет назад. Вечность… И все эти десять лет разведка продолжала сидеть на Лыжской гряде. Грызла камень.
А он продолжал молчать. Теперь он уже молчал потому, что смолчал раньше. Ему не хотелось признаваться в том, что он однажды спасовал перед обстоятельствами, которые были сильнее его. А когда изменились обстоятельства, ему уже не хотелось чувствовать себя связанным с ними. Его, хохловская, чистоплотность не могла вынести самого ощущения замаранности.
Но, черт побери, он совершенно искренне верил, что в один прекрасный день его упорство вознаградится, случится чудо, придет удача – ведь он был удачлив в жизни. И новый нефтяной фонтан на Лыже спишет все провалы, окупит все мытарства, заставит умолкнуть всех злопыхателей…
Вчера этой надежде пришел конец. Все кончилось крахом. Для него.
И стократ обидней, что прежнее предъявило ему счет именно теперь, когда вроде бы уже никто не платит по старым счетам, либо расплатившись, либо увильнув от долгов. Когда жизнь вошла в колею и люди стали отвыкать от свирепой тряски…
Вот хотя бы она, его соседка по скамье. Как быстро ей удалось оправиться от всех невзгод, выпавших на ее долю. И наверстать упущенное. Даже с лихвой. И вот теперь она может торжествовать, побывав на Вукве. И почитывать на досуге стишки. И тешить себя тем, что помнит добро и не помнит зла. И даже с бабьим великодушием пожалеть Сталина, у которого, оказывается, не было одеяла…
Платон Андреевич почувствовал, как в нем зашевелилась раздражительная стариковская зависть к этой чересчур спокойной и слишком уверенной женщине, сидевшей рядом с ним.
Но он подавил в себе это неджентльменское чувство.
Ему следует быть благодарным. У него не так уж много друзей. А теперь, судя по всему, будет и того меньше.
– Я действительно намерен уйти, – сказал Хохлов. И пояснил: – Не совсем, конечно, а так, в сторонку. Нужно освободить дорогу тем, кто помоложе. Пускай дерзают!
– Нет, – покачала она головой. – То есть я с вами не спорю – пусть идут молодые. Да они и идут, и жмут, и их, слава богу, много… – Она перебила сама себя, справилась озабоченно: – Платон Андреевич, а я какая? Я молодая?
– Безусловно, – заверил он.
– Ну вот, тем более. Значит, у меня есть право поучать вас от имени молодых… Понимаете, есть такая штука – опыт. Мы прожили особое время, и это чему-то научило – не всех, правда, но я сейчас не о них. Нужно работать. У вас… у нас теперь есть Югыд, есть Вуква, большая северная нефть – теперь она есть… Не вешайте носа, Хохлов, – это вам не идет!
Платон Андреевич колебался. Он все никак не мог набраться решимости – за все эти дни, что они провели рядом, – задать ей вопрос, который, конечно же, задать следовало даже из приличия. А ему это и на самом деле было небезразлично.
Он счел момент подходящим: она была сердечна с ним и безусловно искренна.
– Нина, как вы поживаете? – спросил Хохлов.
– Поживаю?.. А вы знаете анекдот? – Она уклонялась от ответа. – Кто такой зануда? Это человек, которого спрашивают: «Как вы поживаете?», и он начинает рассказывать…
– Смешно. Но я спросил всерьез.
– Как я поживаю?..
Опять ее каучуковый ботинок занялся кустиком голубики.
– Хорошо, Платон Андреевич. Докторская – это вам известно. Геолиздат заказал мне новую книгу – большую, двадцать листов. Пишу… Мне дали новую квартиру, на Заневском проспекте. Отдельную.
Опять тот вечер. Лепной круг на потолке… нет, полукружие – круг, рассеченный стеной…
– Коллектив в институте хороший. Знаете, есть такие люди… – Нина помолчала. Потом повернула к нему лицо – открыто и отважно: – Ну, словом… я одна.
Глаза ее за стеклами – серые – были огромней прежнего.
– Но это ничего. Это бывает написано на роду. Что поделаешь.
Хохлов мял в руках свою кепку – пытался засунуть козырек внутрь.
– Платон Андреевич. – Она придвинулась к нему тесней, интимней. – Послушайте, будьте человеком… Напишите предисловие к моей книжке. По знакомству, по блату, ладно? Там, в издательстве, ошалеют от радости… Напишете?
– Ну что ж, – польщенно улыбнулся Хохлов, – если это…
Они одновременно насторожились.
В неподвижную тишину, окружавшую их, вошел посторонний звук. Он был еще далек, но с каждым мгновением приближался.
Потом над щетиной ельника появился самолет.
Это был «АН-2», биплан, король захолустных авиалиний. Можно было предположить, что конструктор нарочно, из озорства, стилизовал свою машину под начало века. Те же удвоенные крылья – этажеркой, те же старомодные очертания. Зато он был весьма надежен – Платона Андреевича уверяли в этом сведущие люди.
Сейчас, когда самолет лег в крутой вираж, заходя на посадку, он вдруг оказался удивительно похожим на покосившийся старообрядческий крест, вроде тех, что стояли на этом сельском погосте.
– Пора? – сказала Нина, поднявшись со скамьи.
Хохлов посмотрел на часы:
– Он еще будет заправляться…
– Пора, – сказала Нина.