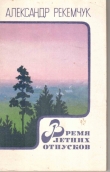Текст книги "Избранные произведения в двух томах. Том 2"
Автор книги: Александр Рекемчук
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 40 страниц)
Глава десятая
Они достигли проектной глубины в начале сентября.
Иван позвонил в базовый город, доложил об этом. Оттуда пришла телеграмма: испытание скважины назначалось на четырнадцатое.
Раньше других прибыл каротажный отряд. Хотя он и добирался водой, по Печоре, таща на буксире баржу со всем своим громоздким и взрывоопасным имуществом: автофургон, где совмещались подъемное устройство и лаборатория, катушки бронированного кабеля, перфораторы, а также святая святых – ящик простреливающих зарядов. Была даже, согласно инструкции, походная аптечка с бинтами и лекарствами – на тот случай, если кого-нибудь ненароком прихлопнет. Как на войну ехали.
Иван встретил каротажников на берегу, там, где ровно год назад встречал его и всю его команду бригадир вышкомонтажников Аникин. Теперь же ему, Ивану, настало время встречать других. Всему свой черед. А старик Аникин, тот, поди, уж гуляет на пенсии…
Надо сказать, что по укоренившейся традиции буровики недолюбливают каротажников. Они относятся к ним довольно насмешливо, хотя и не без зависти.
Дело в том, что у каротажников – испытателей скважин – нет той беспрерывной, час за часом и вахта за вахтой, ежедневной работы. Они лишь выезжают, получив заявку, на объект – и там очень скоро проделывают все что надо. А заявки эти приходят не каждый день. Не каждый день испытываются скважины. В остальное же время каротажники слоняются без дела и предаются своему излюбленному занятию: ловят рыбку. Ведь в этих изобильных водой северных местах всегда поблизости от буровой окажется какая-нибудь речушка либо озерко. И если кому-нибудь вдруг срочно понадобятся каротажники, то уж все знают, где их искать, – вона, сидят над омутом, ершей дурят…
Вообще злые языки утверждают, что профессия каротажника создана специально для тех, кто постиг истину: от работы кони дохнут.
Но, в свою очередь, каротажники плюют на тому подобные разговорчики и сами относятся свысока к буровикам. Поскольку они отлично знают, что последнее слово – всегда за ними. Пусть те, другие, хоть целый год роют землю и вверх-вниз таскают бурильные трубы, – а вот именно они, каротажники, в самый последний день и час вынесут свой приговор: быть или не быть… И спорить с этим приговором уже не придется.
И еще у них в руках тот важный козырь, что работа их связана с огнестрельностью. Поэтому их окружает ореол некоторого геройства. Не зря ведь они с собой аптеку возят.
Что же касается их якобы незанятого времени, то они в это время повторяют наизусть в уме правила техники безопасности.
Бывает, правда, что приедешь вот так, по заявке, по срочному вызову на скважину, – а там, глядишь, эти самые буровики, хваленые работяги, еще и не успели подготовить все как следует. Копошатся, доделывают наспех. Вот тогда-то каротажникам ничего другого и не остается, как сидеть и ждать и сожалеть о зря пропадающем времени. Вот тогда-то не грех и переметик закинуть крючков на двадцать с хорошей наживкой…
Но в Скудном Материке им эта неприятность не грозила.
Скважина была готова к испытанию.
Два с половиной километра обсадной колонны были спущены в забой и намертво схвачены цементом. Глинистый раствор закачан. Задвижки на устье надежны. Документация в порядке.
Можно было начинать.
Тут и подкатила к буровой знакомая синяя «Победа».
Из нее вышли трое, если не считать шофера.
Первый секретарь Усть-Лыжского райкома партии Егор Алексеевич Терентьев привез с собой еще двух пассажиров, которым оказалось по пути с ним.
Доктор геолого-минералогических наук Платон Андреевич Хохлов и доктор геолого-минералогических наук Нина Викторовна Ляшук рано утром прилетели в Усть-Лыжу, и так им повезло, что их собственные намерения совпали с намерением первого секретаря – ехать на испытание скважины в Скудный Материк.
Интерес Хохлова к предстоящему испытанию был вполне объясним. Однако он мог лишь строить догадки: что же заставило увязаться вслед за ним Нину Ляшук?
Ведь она примчалась на Север из Ленинграда совсем по другой причине, не имеющей отношения к Скудному Материку.
Неделю назад на Вукве ударил нефтяной фонтан. Это произошло в непосредственной близости от Югыда, но, судя по всему, можно было считать, что открыто самостоятельное месторождение. Еще одно в новом районе.
Нина Викторовна откровенно ликовала. Еще бы, не она ли столько лет подряд так упорно твердила: Югыдская депрессия, северо-восточное направление – там, там!.. И теперь ее пророчества еще раз оправдались.
В машине, едучи сюда, она с таким жаром говорила о Вукве – все Вуква да Вуква, – что секретарь райкома, сидевший рядом с шофером, оглянулся и посмотрел на нее как-то странно.
Платон Андреевич был тоже рад вестям с Вуквы. Как бы то ни было, а все это в своей совокупности – и Югыд, и Вуква, и северо-восток, и северо-запад – было его обширным владением. И любая скважина, давшая нефть, где бы она ни находилась, принадлежала его хозяйству и добавляла толику чести главному геологу управления. И всякие там Гаджиевы и Петряевы могут оставаться при своих мнениях на сей счет – слыхали мы эти мнения…
Но сегодня был его день. День, касающийся его лично. Его ученого имени.
И если Нина Викторовна решила украсить своим присутствием этот именинный день – что ж, он ей крайне признателен за это.
Прибывшее начальство тепло поздоровалось с буровиками и каротажниками.
Эти последние уже развернули кипучую деятельность. Совмещенный автофургон подъехал к вышке, его предписанным образом затормозили наглухо да еще вогнали под колеса деревянные брусья: с места не сойти. Командир отряда офицерским тоном отдавал приказы.
Иван Еремеев, покуда шла вся эта канитель, к которой он уже не имел прямого касательства, и покуда командовал здесь не он, а другой, повел гостей в кернохранилище.
Там, в дощатом сарае, стояли ящики, пронумерованные в строгой последовательности. В ящиках лежали каменные столбики, образцы пород, которые в разное время и на разных глубинах проходил турбобур. Это был керн. Это была книга земных пластов, уложенная в ящики, а каменные столбики были страницами этой книги.
– Вот, Платон Андреевич, – сказал Иван, вынув из ящика округлую глыбу, похожую на обломок колонны какого-нибудь древнего храма. – Вот…
На шероховатой и зернистой серой поверхности песчаника были отчетливые пятна – темно-бурые, почти черные, маслянистые с виду. Они, казалось, насквозь пропитывали породу.
– Это… нефть? – спросил Терентьев.
Нина Ляшук тронула пальцами бурый потек. Потом взглянула на свои пальцы. Они остались такими же белыми и чистыми, как были.
– Да, это нефть, – подтвердила она.
Лицо секретаря райкома просияло: неужели так быстро все решилось? Уже?..
– Но это, если можно так выразиться, бывшая нефть, – продолжила Нина. – Она высохла. Или ушла… Это только ее следы.
Егор Алексеевич вопросительно посмотрел на Хохлова: ему он все же склонен был больше верить, нежели этой ученой пичуге, которая всю дорогу звонила про какую-то Вукву. Он ведь и главнее, и старше. И мужчина притом…
– Да, это всего лишь следы, – спокойно согласился Хохлов. – Следы того, что здесь была нефть.
Он отмерил паузу, достаточную для того, чтобы его слушатели подготовились к дальнейшему.
– Но этот керн взят из горизонта, который лежит значительно выше того пласта, который мы наметили для вскрытия. – И рассмеялся: – Как говорят хирурги, вскрытие покажет…
Иван, державший все это время каменный столбец на весу, положил его обратно в ящик.
Снаружи, сквозь стенку хранилища, донесся резкий свисток.
– Пора, – сказал Платон Андреевич.
Площадка буровой теперь была огорожена вокруг красными флажками. Эту границу никому переступать не разрешалось. Будь ты хоть секретарь райкома, хоть главный геолог – ни шагу, таков закон.
Одни лишь каротажники имели право переступать эту границу, и они были за ней.
А те, которые целый год – и осень, и зиму, и лето, и еще одну осень, денно и нощно – бурили эту скважину, сделали все, что им было положено, и довели ее до заданной отметки, – они сейчас стояли поодаль, в стороне, всей бригадой, бесправные и ждущие, будто у паперти…
Над устьем повис перфоратор. Он был похож на большую сигару. Или на маленькую торпеду. Еще на длинный огурец. Но все-таки – на торпеду. Потому что он являлся оружием. Этот перфоратор был густо нашпигован бронебойными зарядами, нацеленными в разные стороны. Там, на глубине, повинуясь электрической искре, он выстрелит сразу всеми своими пулями, изрешетит сталь обсадной колонны, раскурочит прилегающий пласт.
Завертелся блочок лебедки, заскользил кабель – перфоратор канул в скважину…
Ему предстояло опуститься на два с половиной километра. Для этого требовалось определенное время.
Вообще испытание длится часами. И это время могло бы показаться томительным. Но томительно ожидание, а не время. Время бежит почти незаметно. Мучит ожидание. Неизвестность.
Кто-то с кем-то нарочно, лишь бы отвлечься, затеет посторонний разговор – но разговор тут же увядает, обрывается на полуслове. Как-то не говорится о другом и не думается. Думается только об одном, вот об этом самом…
Все село знало о том, что нынче будут «кончать».
На пригорке, в почтительном отдалении от вышки, собралась ребятня, увильнувшая от уроков благодаря подходящему поводу. Приковыляло и бородатое старичье, любопытное, как известно, хуже маленьких. И еще разные охотники поглядеть на суету, на случай. Все они тоже терпеливо ждали дальнейшего.
А чуть попозднее, управившись со своими текущими делами, явился и Трофим Малыгин. Он с полным сознанием своего директорского достоинства поручкался с секретарем райкома, с приезжими учеными, включая даму. Подошел и к бригаде, к Ивану Еремееву.
– Ну что, братцы? С праздничком! – весело он их поприветствовал.
Но ему ничего не ответили, а даже покосились хмуро: потому что такое нельзя заранее высказывать. У каждой профессии свои на этот счет есть приметы и суеверия. Есть, конечно, и обряды свои. Но обрядам – особый черед. Вот погоди, если будет удача, если пойдет нефть – тут-то мы тебе, мужицкий директор, и покажем наши обряды. Всего, с головы до ног, обмажем черным маслом, за неделю не отмоешься. А покуда заткнись. Шустер больно.
Командир каротажников поднял руку, будто намереваясь подать команду «огонь». Но это пока лишь означало «стоп».
Перфоратор достиг забоя.
Значит, уже недолго было ждать и огня.
Все напряглись, застыли…
Но ведь и это было еще далеко не концом, а только промежуточной стадией испытания.
И все равно ничего потрясающего ни увидеть, ни услышать никому не предстояло: разве увидишь, разве услышишь то, что произойдет на такой отчаянной глубине – где-то в бездонных недрах?..
Никто ничего и не увидел и не услышал.
Была невидима и неслышна электрическая искра, метнувшаяся по жиле бронированного кабеля.
И только каротажники, те, что были у самого устья, едва уловили приглушенный хлопок, донесшийся снизу, за два с половиной километра, а наверху, в горле трубы, булькнул, хлюпнул глинистый раствор…
Вот и все.
И снова потянулось время: поднимали обратно перфоратор. Он свое дело сделал, отстрелялся.
Потом заработал компрессор.
– Сейчас скважина заполнена глинистым раствором, – по ходу событий объяснял Терентьеву все эти процессы Платон Андреевич. – Столб жидкости давит на пласт. Если там есть нефть – то она как бы заперта в нем. И пока подняться не может… Вы понимаете?
– Да-да, – кивнул Егор Алексеевич.
– Теперь мы будем откачивать жидкость из колонны, освобождать дорогу. И нефть – если она там есть, – подчеркнул главный геолог, он, по-видимому, был также не чужд профессиональных суеверий, – повторяю, если она есть, устремится по этой дороге вверх, следом…
И тогда – фонтан!..
Терентьев, не скрывая ни своего интереса, ни волнения, одухотворенно вскинул руки – он как бы изобразил бьющий в поднебесье фонтан.
– О нет, – мягко улыбнулся Хохлов этой вполне извинимой наивности. – Если нефть рванет вверх, туда, куда вы показали, то это будет не фонтан, а тяжелая авария. Оборудование, вышку – все разнесет к черту…
Егор Алексеевич смущенно потупился. Попадись ему сейчас тот автор, который сочинил статейку в энциклопедии, – он бы ему сказал пару слов. Уж если берешься описывать, то описывай толково, все до конца, как оно бывает.
– Пойдемте… – приглашающе тронул локоть секретаря райкома Платон Андреевич.
Они обошли площадку.
Там, в тридцати метрах от вышки, обрывалось жерло горизонтальной отводной трубы. Из жерла, слегка пульсируя, хлестала наружу мутная жидкость.
У трубы, тесно сгрудясь, стояли буровики, люди еремеевской бригады. Они знали, что еще очень долго – опять эти бесконечные и томительные минуты ожидания – будет вот так литься, брызгать, растекаться лужами откачиваемый из скважины глинистый раствор. Но именно здесь, в этом месте, у этого жерла все окончательно решится – есть или нету…
Для каждого из них, даже самого молодого – Мити Девяткова, это была уже не первая по счету скважина. И всем им по личному опыту было известно, как это происходит и выглядит.
Пыхтит, качает и качает компрессор, все течет и течет из трубы мутноватая жидкость, похожая на весеннюю, размывшую глинистый берег воду…
И вдруг выскочит, выскользнет вместе с водой маслянистая черная пленочка, а за ней другая и еще сразу две. Они похожи на змеек, но нет, это никакие, тьфу, не змейки – это первые ласточки!
Потом, прямо на глазах, начнет понемногу темнеть хлещущая из трубы струя. Она станет желтовато-коричневой. Потом еще закоричневеет: это уже смесь. Потом сделается совсем бурой. И уже бурое приобретет явственный черный оттенок. А сама струя станет толще и напористей, и траектория ее будет все удлиняться, выгибаясь дугой. Тяжелый басистый гул огласит окрестность. И уже отводная труба завибрирует от страшного напора, заходит из стороны в сторону – а там, впереди, перед этой трубой разольется черное озеро…
Нефть идет! Скважина фонтанирует. Вот она – победа, удача, счастье разведчика…
Теперь только успевай сладить с задвижками, чтобы укротить этот фонтан, чтобы до поры до времени не расходовать зря земное добро.
Да. И хоть первую в жизни скважину ты буришь, хоть десятую, хоть тридцатую, – никогда не суметь тебе остаться спокойным в этот решающий час испытания.
Вот как оно бывает…
Иван Еремеев, отогнув рукав брезентовой робы, взглянул на часы.
Посмотрел на часы и Платон Андреевич.
И секретарь райкома Егор Алексеевич Терентьев тоже посмотрел на свои часы…
Но ему-то зачем? Может, просто захотелось узнать, сколько натикало, который час?
Ведь ему не понять было, зачем смотрят на свои часы главный геолог Хохлов и буровой мастер Еремеев. Он не мог понимать того, что понимали они.
Из отводной трубы по-прежнему лился глинистый раствор.
Но он не темнел, хотя по расчету времени все два с половиной километра столба уже должны были выйти на-гора.
Может быть, вот сейчас он начнет темнеть? Еще через несколько секунд? Через минуту?..
Но струя наоборот становилась все светлее, все прозрачней и чище.
Это шел уже не глинистый раствор.
Это шла вода. Пластовая вода.
Вода…
А они все стояли, как завороженные, не отрывая глаз от разинутого жерла, еще на что-то надеясь. Или уже ни на что не надеясь – а просто окаменев, не желая думать, не желая верить, не желая отдать себе отчета в том, что было уже ясно.
Терентьев оборотился к Платону Андреевичу. На лице его была тревога. Не то чтобы он уже догадался обо всем, но он инстинктивно почувствовал неладное, уловил смысл этого гробового молчания вокруг, эту всеобщую онемелость и неподвижность.
– А… – начал он, видимо собираясь о чем-то спросить. Но так и не спросил.
Платон Андреевич Хохлов круто повернулся и зашагал прочь. К машине.
Походка его, как обычно, была размашиста и тверда. Голова величаво вскинута. И никто не мог заметить, как бледен его лоб и как незрячи глаза.
– До свидания, – сказала Нина Викторовна Ляшук стоящим рядом людям. Она прощалась сама, но, вероятно, она еще сочла необходимым сделать это и от имени своего коллеги. Заторопилась ему вслед.
Егор Алексеевич Терентьев, постояв еще минуту на месте, начал молча пожимать руки остающимся здесь товарищам. Ивану Еремееву, Густаву Ланкявичюсу, Мите Девяткову – всем, кого он знал, всей буровой бригаде.
Потом направился к каротажникам. Теперь к ним уже можно было подойти. Красные флажки убрали. Он им тоже крепко пожал руки.
Дверцы «Победы» захлопнулись. Машина тронулась.
Детвора, до сих пор как стая воробьев сидевшая на пригорке, взвилась и побежала к селу. Переговариваясь меж собой, двинулись и остальные сторонние зрители. Старики, кто с клюкой, кто без клюки, заковыляли позади всех.
Директор совхоза «Скудный Материк» Трофим Петрович Малыгин подошел к отводной трубе.
Из нее по-прежнему несильной струей текла вода.
Трофим смочил палец в струе, потом сунул его в рот. Пососал задумчиво, скорчил гримасу, отплюнулся.
Удивленно сказал:
– Соленая.
Иван Еремеев и дизелист Нырков ушли с буровой вместе. Они не сговаривались, а просто угадали обоюдное намерение: напиться.
По счастью, сельповская лавка оказалась не на замке, а открытой, и Макарьевна не сидела дома со своей поясницей, а находилась при исполнении служебных обязанностей, торговала.
Прокофий Нырков предложил купить пару бутылок и усидеть их где-нибудь в укромном месте: либо у Ивана дома, либо где он сам проживал.
Но Ивану домой не хотелось. И к Ныркову идти не лежала душа. Он сам не знал, чего ему хотелось. Ему вдруг все на свете опостылело.
– Макарьевна, налей-ка нам, – сказал он. – Мы тут, у тебя, выпьем…
Макарьевна полезла под прилавок. Она там держала в секрете свой распивочный кафетерий, потому что не всяк закупал товар оптом, а ресторана в Скудном Материке покуда не имелось. И теперь уж наверняка не предвиделось.
Оттуда, исподнизу, она выставила им на прилавок два граненых стакана, налитых в аккурат до половины. Дала им по конфетке «Весна» – закусить.
– Ну, будем… – Иван чокнулся с дизелистом.
– Будем, – ответил тот.
К сожалению, другого, более торжественного тоста, под который следовало бы выпить, у них не оказалось. И вообще, все бы, конечно, иначе было сегодня, если бы выпала им удача: был бы праздник как праздник, веселье как веселье, и не уединялись бы они вдвоем, и не торчали бы тут, в этой темной сельповской лавке, воняющей селедкой и копеечным мылом…
Но праздник не случился. И пили они не с радости. И ничего более определенного они не могли сейчас сказать друг другу, чокаясь гранеными стаканами, кроме этого: «Будем». Будем здоровы. Будем живы – не помрем.
Опрокинули.
Иван Еремеев закусил «Весной».
А Нырков, который был знаток, выпив, еще долго держал губы колечком и подыхивал – хы, хы, туда-сюда, вроде своего дизеля.
Потом сказал хозяйке заведения:
– Видать, Макарьевна, винцо твое в воде купалось, да не обсохло…
– Что ты!.. – возмутилась Макарьевна и даже вся зарделась от напраслины. – Ведь только что, при вас, откубрила.
Нырков лукаво подмигнул ей.
Уж наверное имела Макарьевна свой интерес, содержа этот тайный кафетерий. А кому не нравится – катись подальше…
Но хоть ее винцо, может, и впрямь купалось, а Иван от него довольно быстро захмелел.
– Плохо, Проша, – сказал он дизелисту. – Плохо.
И облокотился сокрушенно на прилавок, голову подпер кулаком.
– Ладно, не расстраивайся, – начал утешать его товарищ. – Ну что плохо? Мы-то чем виноваты?.. Точку не мы выбирали – геологи выдали. А наше дело телячье: где укажут, там и бурим… План по проходке мы дали. График опередили. Аварий не имели. Свое сполна получим… А начальство – пускай оно само про себя выясняет, кто виноватый. Верно?
Однако Прокофий Нырков хорохорился только для вида, лишь затем, чтобы успокоить горюющего бурмастера.
И хотя действительно не сами они, рабочий люд, выбирают себе место, где вкалывать; и хотя на самом деле требуется от них только выдать положенный метраж, уложиться в смету и чтобы никаких там чепе; и хотя впрямь то, что скважина оказалась пустой, никак не могло повлиять на их законный заработок (наоборот, еще и премия будет за досрочную проходку), – все равно ни одному из них не могло показаться безразличным то, что выявилось сегодня, то, чем завершился их долгий и ладный труд.
Это уже было явлением другого порядка, которое не измеришь никакими деньгами. Разведчики – они особо чувствительны на такое.
– Повтори нам, Макарьевна, – распорядился Нырков.
Она снова слазила под прилавок, повторила.
– Значит, не повезло вам, ребята? – сочувственно спросила она, когда вылезла наружу. – Не нашли нефть?
Оказывается, и она уж все знала, Макарьевна, хотя при них никто сюда не заходил, а сами они разговаривали обиняками. Должно быть, раньше наведались, сообщили. В этом замечательном селе всегда и все было известно. Даже наперед.
– Не твоего ума это дело. – Нырков строго на нее глянул. А чтобы не обиделась, приказал: – Наливай третий, мы за твое здоровье пить будем…
– Спасибо, – растрогалась Макарьевна и, налив третий, высыпала на прилавок целую пригоршню «Весны».
Потом, утерев рот, скрылась в подсобке, пошла там чего-то ворочать, переставлять. Оставила их вдвоем.
– Понимаешь, – сказал Иван, – у меня ведь как раз третий год кончается по договору. Я думал – это последняя скважина будет. Потом уеду куда-нибудь, снова на Юг, что ли… Так могу ли я такое стерпеть, чтобы эта моя последняя – пустая? Ведь я их тут, на Севере, сколько пробурил – и ни разу промаха не было. А последняя – водой пошла…
Иван Еремеев смотрел на своего друга, и такая невыразимая боль сквозила в его глазах, что дизелист отвернулся даже, не мог вынести этого.
– Последняя… – повторил Иван.
– А ты продли договор. Еще на три года, – подал идею Прокофий. – Чем тебе тут худо? Будем дальше одной бригадой работать. На Югыд перейдем – там сейчас знаешь какой разворот! Одна скважина возле другой – сплошь нефть…
– Это я знаю, – кивнул Иван. И вдруг, решившись, сказал Прокофию то, чего никому еще, кроме Катерины, не говорил: – У меня там, на Югыде, парнишка объявился – сын мой. Вот письмо прислал.
Иван пошарил в кармане под робой, вытащил мятый конверт.
– Валеркой звать… Помбурильщика уже.
– Ну! – воодушевился Нырков. – Тогда мы сейчас за него выпьем. За твоего сына. И за моих тоже… Эй, Макарьевна!
Та себя ждать не заставила.
И опять три граненых стакана чокнулись глухим звоном.
Макарьевна на всякий случай, чтобы уж никто не нарушил их приятной компании, подошла к двери, задвинула засов и ставню изнутри притворила. Теперь все, закрыто, кто ни постучись: товар принимаю, выручку сдаю, ревизия…
– Видишь ли, хотел я его сюда забрать – Валерку… – продолжал объяснять дизелисту Иван. – Он и сам просился. Чтобы со мной в бригаде работать… И я, веришь ли, так ждал этой нефти: рассчитывал – снова здесь забуримся, в Скудном, начнем осваивать площадь. А теперь – крышка…
– Какая разница? – возразил Нырков. – Хоть здесь, хоть там. Будете на Югыде вместе работать. Лучше даже: там уже поселок построили, все удобства, не то что…
Иван вздохнул только. Никак не понимал его до конца товарищ, самого главного он не понимал.
Ему-то, Ныркову, конечно, никакой нет разницы: у него в базовом городе жена, хотя она сейчас и лежит в больнице, и дети у него там пристроены – в интернате, и квартира есть.
А у него, у Ивана…
Но он не мог продолжать этой душевной исповеди, потому что, хоть и пьян уже был, а приметил, с каким острым любопытством прислушивается Макарьевна к их разговору. Все ждет, пока дойдет до этого, до самого главного – прямо-таки сгорает от интереса…
Ждала-ждала и наконец не выдержала, сама спросила:
– Значит, теперь уедете вы от нас, Иван Сергеевич? Насовсем покинете?..
Она, эта баба, уже давно поняла то, чего никак не мог взять в толк его друг, нечуткий к подобным делам, как все мужчины.
Но уж этой бабе или просто в ее присутствии Иван Еремеев не собирался исповедоваться.
Потому он и сказал:
– Налей-ка нам, Макарьевна, по одной еще…
Потом он и сам еле помнил, как блуждал впотьмах, как потерял Прокофия, как, толкнувшись в свой дом, обнаружил, что никого там нету, и все же у него хватило соображения, что Катя, наверное, дежурит на ферме, и хватило пьяной отваги потащиться туда, к ней – в осенней сырой непрогляди, по слякотной липкой дороге. Его мотало вкось и вкривь, от одной обочины к другой, он оступался, скользил, вскидывал руки и ноги. При этом он матерился бессвязно и грозно, никого лично в виду не имея, а так, безотносительно, абстрактно, для самоутверждения.
И он в конце концов достиг намеченной цели, добрался до фермы.
И на самом деле Катерина оказалась там.
Она, в белом халате и белой косынке, сидела на чурбаке в самом дальнем закуте, поглаживая бок Шахини, своей любимицы, которая нынче была беспокойна что-то, не заболела ли.
– Катя!.. – позвал Иван еще с порога и, приблизясь, повторил с надрывом в голосе: – Катя…
– О-о, – протянула она, оглядев всю его фигуру и присмотревшись к выражению лица. – Крепко же ты набрался… Где был?
– Катя…
– С кем был? – допытывалась она.
Он только рукой махнул. Неважно, мол. Другое важно.
– Катя… Плохо у нас. Ничего нету, вода.
– Знаю, – сказала она и отвернулась.
Знает. И она уже знает. Все знают.
– Катюша. Что делать-то теперь?..
Он придвинулся к ней совсем близко, тронул белую косынку.
Катерина ничего не ответила.
А корова Шахиня, фыркнув влажными ноздрями, раздраженно затопала копытами. Она еще сильней проявляла свое беспокойство. Должно быть, уловила возникший рядом крутой сивушный запах, и это ей не понравилось.
– Ну что? – Катерина снова погладила пятнистый коровий бок. – Чего тебе? Шашка, Шашечка… Тихо стой.
– Катя… Беда ведь это. А, Катя?
Иван обнял ее плечо, обтянутое белизной халата, и попытался присесть рядом, пристроиться на том же чурбачке.
Но в этот самый момент Шахиня, которой не понравился спиртной дух, которая сегодня прихворнула и к тому же терпеть не могла близ себя незнакомых посторонних людей, вдруг круто повернула шею, пригнула темя и боднула Ивана прямо в грудь.
Иван как сидел на краешке, так и отлетел в угол стойла и шмякнулся с лета в кучу навоза, перемешанного с соломой.
– Шашка!.. – только и успела крикнуть Катерина.
Она вскочила с места и бросилась к Ивану.
– Ванечка, Ваня… – затормошила она его, стараясь приподнять. – Больно тебе? Живой?..
Но он как-то не ощутил особой боли, хотя удар был и силен. У пьяных есть то преимущество, что у них чувство боли притуплено, они ее меньше чувствуют.
Зато подняться на ноги – это им, пьяным, гораздо труднее. И, несмотря на то, что Катерина изо всех сил старалась помочь ему подняться, сапоги его беспомощно сучили по месиву, а руки никак не могли опереться о стенку.
Все же, напрягши силы, он встал.
– Больно тебе, Ваня? – сочувственно переспросила Катерина.
Но он был озабочен другим. Он старался оттянуть наперед заднюю часть своих стеганых штанов и рассмотреть подробней, как они там выглядят.
Разглядел и вовсе закручинился.
– В дерьме я весь, Катя… в дерьме измазался…
Она стала отряхивать его одежду, заодно успокаивая:
– Ладно, ладно… Какое же это дерьмо, Ваня? Ведь это навоз. От него земля родит.
Но Иван Еремеев был безутешен.
Все чувства, которые накопились в нем за этот несчастный день и до сей минуты не находили окончательного выхода, теперь прорвались наружу.
Он привалился к стене коровьего стойла, которая была ниже его самого, и заплакал горькими хмельными слезами.
– В дерьме я, Катя, в дерьме… Кругом в дерьме…
По всей вероятности, он уже вкладывал в эти слова иной, более широкий и обобщенный смысл.
И тут Катерина, только что жалевшая его, вдруг страшно рассердилась, вскипела. И вид у нее сделался довольно решительный.
Она выволокла чурбачок, приставила к ребру перегородки, отделяющей закут от закута, потом за рукав подтянула туда Ивана, усадила его попрямее, прислонив спиной к торцу.
А сама, сбегав в соседнее помещение, вернулась с тяжелым молочным бидоном.
– Ну-ка, – скомандовала она, – разевай рот!
– Катя… – очень жалобно, но робко запротестовал Иван.
– Разевай, говорю! – Она была неумолима. – Я тебя сейчас приведу в равновесие.
Подняла, чуть накренила бидон.
– Ты у меня враз тверёзым будешь… Ну, разевай!
Иван было приоткрыл рот – еще что-то хотел сказать ей.
Но тотчас струя молока хлынула в образовавшееся отверстие.
Он замотал головой, выпучил глаза, однако Катерина, довольно ловко следуя всем этим маневрам, неуклонно направляла струю прямо в цель.
Белая, густая, теплая еще, парная молочная струя хлестала из бидона.
Иван захлебывался, сцеплял зубы, заслонялся рукой, и тогда молоко расплескивалось, брызгало, текло по его брезентовой робе, попадало за воротник, он ежился, как от щекотки, вздрагивал…
Но она, не обращая на все это никакого внимания, снова требовала:
– Рот, рот… Разевай глотку, ну! Ты у меня к завтрему будешь в самом лучшем и прекрасном виде… Рот!
Иван, уже обессилев от этой напрасной борьбы и весь обмякнув, сидел, смежив веки и покорно разинув рот.
А она все больше кренила бидон, и молоко все лилось, лилось…