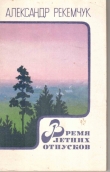Текст книги "Избранные произведения в двух томах. Том 2"
Автор книги: Александр Рекемчук
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 40 страниц)
Николай вдруг вспомнил, как Лешка Ведмедь рассказывал ему про какую-то халтуру. Про какое-то калымное дело. Ну да, он рассказывал ему про эту халтуру, когда Николай приходил звать его в монтажную бригаду, на кирпичный завод… Так вот, оказывается, какое это дело? Довольно скучное дело – топором тюкать.
– А кто у вас за главного – ты или дядя? – привязывался к Ведмедю Черномор Агеев.
Десятник Волосатов сердито сплюнул с высоты в сугроб. И что-то негромко сказал Ведмедю. Лешка затянулся еще разок, пустил дым из ноздрей, кинул окурок в сугроб. И взялся за топор.
Тюк, тюк… Сидят двое верхом на бревне, машут топорами. Как загорская игрушка.
Не очень завлекательное зрелище.
Коля Бабушкин и Черномор Агеев уже собрались двинуться дальше.
Но в этот момент по снежному накату Меридианной улицы чуть слышно прошелестели шины. Вякнул тормоз. Голубая «Волга» с шашечками по борту встала у обочины. Она остановилась как раз напротив дощатой калитки забора. Возле свежего сугроба. Аккурат у того самого места, где Коля Бабушкин и Черномор Агеев донимали Лешку Ведмедя.
Голубая в шашечку дверца отворилась, из машины вылез пассажир. Он был в черном пальто с каракулями. В куньей шапке. В надраенных сапогах. В руке он нес пузатый портфель о двух замках.
У него, у этого пассажира, была холеная пушистая борода. Знакомая борода… У него, у этого пассажира, светло-карие красивые глаза. Очень знакомые глаза…
Да ведь это…
Поп. Из гостиницы. Из райисполкома.
– Вы подождите, – сказал поп шоферу такси. – Сейчас поедем обратно.
Он зашагал к калитке. В руке он нес пузатый портфель о двух замках. И в такт его шагам в портфеле что-то позвякивало тонким бутылочным звоном.
Он размашисто прошагал к калитке мимо Коли Бабушкина и Черномора Агеева, но, уже миновав, замешкался, повернул обратно. Он подошел к Николаю Бабушкину и Черномору Агееву, посмотрел на них с интересом. Он с большим интересом посмотрел в лицо Коле Бабушкину: должно быть, ему смутно припомнилось это лицо…
– Вы ко мне, юноши? – спросил поп. Голос у него был густой и мягкий, как бархат. – Вы ко мне? Или к Федосею Петровичу?
Наверху перестали тюкать.
– Нет… Мы просто так, – сказал Черномор Агеев.
– Ах, просто так… – Поп улыбнулся. Улыбка у него была лучистая и ясная, как новый пятак. – Зачем же просто так?.. Вы – рабочие?
– Рабочие, – не стал отпираться Черномор Агеев.
– Похвально… А не хотите ли и свои силы приложить к святому делу? К возведению божьего храма?
– Чего?.. – сморгнул ошалело Черномор Агеев.
Наверху настороженно молчали.
– Здесь сооружается храм божий. Церковь, – терпеливо объяснил поп. И, уловив на лицах собеседников тень недоверия, добавил: – Ну, скажем скромнее, – молитвенный дом… Суть, однако, не в форме, а в содержании, не так ли? – Он снова улыбнулся.
– Конечно… – сказал Черномор. И судорожно глотнул воздух.
– Условия такие, – деловито продолжал поп. – Червонец в день на человека, разумеется, новыми. А также… – Он потряс легонько пузатый портфель, в портфеле звякнуло. – За каждый венец…
Коля Бабушкин видел, как Лешка Ведмедь вогнал в бревно топор. Как он полез в карман за папиросой. Как он чиркнул спичкой о коробок, но огня не получилось, – должно быть, сломалась спичка. Как он чиркнул вдругорядь, а коробок распался и спички, шурша, посыпались из коробка и неслышно усеяли сугроб.
Николаю вдруг сделалось жарко до невозможности. Яростно прихлынула кровь к щекам. Застучало в висках. Под ремешком часов ощутимо напрягся пульс… Но он совладал с собой.
Он бережно, двумя пальцами, взял попа за рукав пальто и сказал:
– Пошли…
Голубая в шашечку «Волга» стояла у обочины. Коля Бабушкин распахнул дверцу, пропустил попа и сел рядом. А Черномор Агеев обошел такси кругом, отворил правую дверцу и тоже сел рядом с попом – с другого боку.
– В милицию, – приказал Коля Бабушкин шоферу.
Дежурный по райотделу милиции лейтенант Айбабин пометил в протоколе, какое нынче число, какой месяц, какой год и который час.
– Фамилия?
– Жохов.
Лейтенант взял со стола паспорт, сверил названную фамилию с фамилией, указанной в паспорте. Сошлось. Уточнил на всякий случай:
– Василий Серафимович?
– Так точно, – ответил поп.
Поп сидел на скамье у решетчатого барьера. За барьером сидел дежурный по райотделу милиции и составлял протокол. А Коля Бабушкин и Черномор Агеев сторожили дверь.
– Место работы?
– Рукоположен иереем Джегорского прихода.
Лейтенант Айбабин пролистал странички паспорта. Вероятно, он искал отметку о приеме на работу. Или же интересовался пропиской.
– Проживаете в гостинице?
– Так точно, – ответил поп. – Временно.
Отвечая на вопросы, поп отделялся от скамьи, приподнимал зад, выгибал колесом грудь и выкатывал круглые глаза: «Так точно». Он, должно быть, здорово испугался, что его привели сюда.
А дежурный по райотделу милиции лейтенант Айбабин сразу же обратил внимание на воинскую выправку задержанного, на его «так точно». И, отвлекшись от протокола, спросил:
– Вы что, служили в армии?
– Так точно, – ответил поп. – В звании лейтенанта. Воевал на фронтах, удостоен высоких наград.
«Вот заливает, паразит! – задохнулся от возмущения Коля Бабушкин. – Вот уж заливает… На фронтах он, видите ли, воевал. Наград удостоен… Видали мы твои награды: крест на пузе…»
Дежурный по райотделу милиции заерзал на стуле, почесал ухо, укоризненно покачал головой:
– Как же это вы… дошли до жизни такой?
– Я был тяжело ранен при взятии Бердичева, – не смутившись, ответил поп. – И в госпитале, перед операцией, дал обет: если выживу, посвятить себя служению господу… Что и выполняю по мере сил.
«Заливает», – не поверил Коля Бабушкин.
– Помимо того, – продолжал поп, – покойный родитель мой имел священный сан.
«Ну вот, с родителя бы и начал», – усмехнулся в душе Николай.
Лейтенант Айбабин оторвал от пресс-папье клок промокашки, тщательно вытер перо.
– Что ж это вы, гражданин иерей, нарушаете? – строго спросил он.
– Я? – Поп отделился от скамьи, выкатил круглые глаза. – Это оговор. Никаких нарушений я себе не позволил и не мог позволить, учитывая…
– Нарушал гражданин или не нарушал? – перебил попа дежурный, обращаясь к Коле Бабушкину и Черномору Агееву.
– Нарушал, – ответил Коля Бабушкин.
– Конечно, нарушал, – подтвердил Черномор Агеев.
– Это клевета! – Поп взвился с места. – Какое, конкретно, я допустил нарушение?
– Сядьте, – строго приказал лейтенант Айбабин. И задал вопрос Николаю: – Какое конкретное нарушение?
– Он церковь строит в Джегоре… – волнуясь, начал рассказывать Коля Бабушкин. – На Меридианной улице… Он в этом сам признался: строим, говорит, божий храм… Вот Черномор Агеев может подтвердить его слова.
– Могу, – подтвердил Черномор.
– Я имею разрешение на строительство молитвенного дома в Джегоре, – стал оправдываться поп. – Есть официальное разрешение. Позвоните в райисполком…
– Не указывайте, гражданин. Надо будет – позвоним, – прервал попа лейтенант Айбабин. И снова обратился к Николаю: – Излагайте дальше.
– Он в нашем городе, в Джегоре, церковь строит… Тут сроду церквей не было. И не надо. А он – строит.
– Он людей вербует, – подсказал Черномор Агеев. – Он нас прямо на улице хотел завербовать. По червонцу, говорит, буду платить, если согласитесь церковь строить…
– А одного парня он уже…
– … Лешка Ведмедь, из нашей бригады…
– …топором тюкает…
– …купил за деньги…
– …он его водкой спаивает…
– …опиум для народа…
– …прямая эксплуатация и частная лавочка…
– …пускай в Ватикан едет…
– …паразит.
– Прошу не выражаться, – заметил лейтенант Айбабин. И склонился над протоколом.
– Я буду жаловаться, – сказал поп. – Меня задержали незаконно.
Лейтенант Айбабин склонился над протоколом. Он снова обвел чернилами – пожирнее, – какое нынче число, какой месяц, какой год и который был час, когда он начал составлять этот протокол. Обвел пожирнее буквы в фамилии задержанного: «Жо…»
Почесал ухо. Вздохнул.
– Еще какие конкретные нарушения? – спросил он дружинников.
– А стройматериалы не иначе ворованные, – добавил Черномор Агеев. – Из которых он церковь строит… Лес, гвозди всякие. Это уж ясно, что ворованные.
– Так, – немного оживился лейтенант Айбабин. – Какими фактами подтверждаете?
– Раскопаем факты… Мы завтра же все эти факты раскопаем, – пригрозил попу Черномор Агеев.
– Я буду жаловаться, – заявил поп.
Лейтенант Айбабин опять вздохнул, склонился над протоколом, задумался. До того он крепко задумался, что на лбу у него, и на висках, и на носу выступили капельки пота. И волосы взмокли под шапкой. Он снял шапку, утер платком лоб…
А потом надел шапку, встал, отдал честь. Положил на решетчатый барьер паспорт. И сказал:
– Прошу извинить.
Это он попу отдал честь. Это ему отдал паспорт. Это ему сказал: «Прошу извинить».
«Эх ты, тюря с квасом…» – подумал о лейтенанте Коля Бабушкин.
Губы Черномора Агеева искривила горькая усмешка.
Но вслух они ничего не сказали, поскольку дружинникам положено тесно взаимодействовать с милицией, а не пререкаться. Тем более – в присутствии посторонних лиц.
А поп поднялся со скамьи, задрал подол своего лилового платья и стал запихивать паспорт куда-то в задний карман. Отведя рукой бороду, застегнул на все крючки и пуговицы черное с каракулями пальто. Взял портфель – в портфеле звякнуло…
– Всего доброго, – милостиво кивнул он лейтенанту Айбабину.
И, выпятив живот, двинулся к двери. Но у двери, где стояли Коля Бабушкин и Черномор Агеев, поп задержался. Он посмотрел в лицо Николаю, посмотрел в лицо Черномору, и взгляд его красивых светло-карих глаз излучился неожиданной добротой…
– До свидания, юноши. – Голос его был мягок, как бархат. – Вы, должно быть, комсомольцы?
«А ты как думал?» – ничего не ответил Коля Бабушкин.
«А твое какое дело?» – ничего ему не ответил Черномор Агеев.
– Неверие ваше прискорбно, хотя и вполне объяснимо неведением, – продолжал поп. – А истовость духа даже похвальна… Однако, заблуждаясь в большом, заблуждаетесь и в малом. Вы воюете против православной церкви, деятельность которой разрешена государством. А в это время…
Светло-карие глаза попа вдруг посуровели, приобретя оттенок ружейной гильзы. И голос его сделался жестким, как наждак.
– А в это время богомерзкие сектанты ткут свою паучью сеть… Да-да! На Загородной улице ткет свою паучью сеть Захар Юзюк, заманивая в секту несознательных верующих. А вы знаете, кто такой Захар Юзюк? Амнистированный вор и сподручный немецких оккупантов. Притом – самозванец, не имеющий никакого духовного образовании…
Роскошная борода тряслась от негодования.
– И эта секта именует себя «И-ПЭ-Ха», что значит «истинно-православные христиане». Каково?.. Наряжаются в расписные фартуки и пляшут под граммофон. Блудодействуют… Крестятся двумя руками сразу!
Поп сплюнул.
– Прошу вас заметить, гражданин лейтенант, – обернулся он к лейтенанту Айбабину, – что данная секта действует неофициально, без регистрации…
Иерей Жохов умолк, перевел дух. И, уже спокойней, продолжил:
– Так вот, молодые люди… Было бы куда полезней объединить усилия в борьбе против сектантства. Действовать сообща.
– Как… сообща? – не понял Черномор Агеев.
– Вместе с комсомолом.
Когда поп удалился, с достоинством неся перед собой бороду и брюхо, лейтенант Айбабин облегченно вздохнул, взял со стола протокол, разорвал его на мелкие кусочки и кинул в корзину.
А Коля Бабушкин направился в угол, где стоял цинковый бак с водой. Ему вдруг захотелось пить. Он взял кружку, присобаченную к баку железной цепью, стал цедить из бака воду. Руки у него при этом тряслись.
Кружка звякала, и железная цепь тоже позвякивала…
Николай старался думать о чем-нибудь постороннем. Он подумал, например, о том, почему в цинковых баках, которые стоят в милициях, поликлиниках и на вокзалах, всегда такая невкусная вода. И зачем к этим бакам кружки всегда присобачивают цепями? Должно быть, затем, чтобы кружки не воровали. Если бы, скажем, кому-нибудь захотелось своровать из милиции кружку, то пришлось бы тащить ее вместе с баком. А с баком далеко не уйдешь – поймают.
Глава одиннадцатая
Председатель завкома Федулин бренчал о чернильницу крышкой.
– Минуточку! Прошу внимания…
Но это было нелегко – привлечь внимание. Поскольку расширенное заседание завкома длилось уже пятый час. Повестка дня сморила людей. И если поначалу выступали все подряд, вникали в суть и подробности, то теперь лишь поторапливали друг друга: «Короче! Вопрос ясен… Будем голосовать».
А накурено в комнате – хоть топор вешай.
Уже обсудили состояние техники безопасности. Отчет цехового профкома. Посещаемость университета культуры. Распределение квартир…
– Минуточку, товарищи! – Федулин бренчал крышкой. – Последний вопрос…
Но ему было нелегко привлечь внимание. Всем уже надоело заседать. По углам занялись посторонними разговорами. То тут, то там возникали несерьезные смешки.
– Ш-ш!.. – громогласно зашептал кто-то. – Павла Казимировича разбудите…
Все разом засмеялись и посмотрели на Павла Казимировича.
Павел Казимирович Крыжевский действительно дремал. Он сидел на стуле и дремал, зажав между острых стариковских колен палку с рукоятью. Голова его склонилась набок, седая прядь волос соскользнула на лоб. Резко обозначились морщины щек. Губы – по-детски мокрые – отвисли…
Сейчас было особенно заметно: стар, очень стар.
В иное время его старость была не так заметна. Она была почти незаметна из-за его худощавой живости, из-за его молодой улыбки.
Хотя Крыжевский уже два года не работал на заводе – с тех пор, как стал получать персональную пенсию, – дома ему, однако, не сиделось. И его, как видно, не вполне удовлетворяли общественные поручения: придумывать названия для новых улиц, составлять летопись Джегора, возиться с пионерами. Он чуть ли не каждый день появлялся на заводе. Он приходил на все собрания и митинги, на все совещания и заседания. Даже когда его не приглашали, оберегая его покой, не желая лишний раз тревожить старика, он неведомо как узнавал, что в таком-то часу на заводе состоится совещание – и аккуратно являлся в назначенное время.
Мелким, частым шагом войдет в комнату, со всеми поздоровается за руку, сядет в укромном уголке, пристроит палку меж острых сухих колен и слушает, что говорят. Иногда зашевелится, поддакнет, вставит слово. А иногда нечаянно задремлет. Вот как сегодня…
Стар он, очень стар.
– Товарищи, прошу внимания… – Председатель завкома Федулин чуть понизил голос, перестал бренчать крышкой. – Последний пункт. Это недолго…
Гомон в комнате утих.
– Мы должны присудить переходящее Красное знамя лучшей бригаде завода. Дебатировать этот вопрос нечего, поскольку цифры говорят сами за себя… – Федулин вынул из папки разграфленную бумажку. – За истекший квартал лучших показателей добилась бригада товарища Бабушкина, которая оборудует новый керамзитовый цех. Монтаж агрегатов бригада завершила досрочно, сейчас ведет испытания. Средняя дневная выработка – двести сорок процентов, наивысшая по заводу…
Предзавкома выдержал паузу, чтобы до всех дошла эта цифра. Чтобы все почувствовали вкус этой цифры: двести сорок процентов.
И, кажется, все участники заседания вкус этой цифры почувствовали. По комнате пронесся одобрительный гул. Все со значением посмотрели друг на друга. А потом все стали смотреть на Колю Бабушкина, который сидел с краю стола.
Его, вместе с остальными бригадирами, пригласили на это расширенное заседание, и он тут уже заседал пятый час подряд.
Николай, конечно, заметил, что все на него смотрят. Вон, издали, смотрит на него Черемных, подмигивает: дескать, не робей, парень, – от славы не убежишь… С нежной улыбкой смотрит на него председатель завкома товарищ Федулин: он доволен впечатлением, произведенным цифрой… Смотрят и бригадиры, хотя им, надо полагать, завидно малость… Одним словом, смотрят все.
Кроме Павла Казимировича Крыжевского, который дремлет, сидя на стуле, зажав между острых сухих колен палку с рукоятью.
– Таким образом, по итогам квартала, – стал закругляться Федулин, – переходящее Красное знамя мы должны присудить бригаде Бабушкина, Есть другие мнения? Возражения есть?..
– Какие могут быть мнения?
– Двести сорок процентов…
– Возражений нету.
– Голосуем!
Некоторые члены завкома, не дожидаясь, пока Федулин спросит: «Кто «за»?» – уже потянули вверх руки. Им хотелось поскорей разделаться с последним пунктом повестки дня, так как заседание длилось без малого пять часов и этот последний пункт ни у кого не вызывал сомнений: двести сорок процентов…
– У меня есть возражение, – поднявшись с места, сказал Коля Бабушкин. – Наша бригада не может принять знамя.
По комнате снова пронесся гул. Но на этот раз – гул неодобрительный. Все опять посмотрели на Колю Бабушкина. Но теперь смотрели совсем иначе: с явным изумлением, с открытой насмешкой, скривив губы, вздернув брови, сняв очки, надев очки…
Коля Бабушкин сглотнул подкативший к горлу комок и тихо повторил:
– Мы не можем принять знамя.
«Что-то ты зарываешься, парень!.. Странные вещи говоришь. Какая-то у тебя путаница в голове – не впервой замечаю…» – Черемных нахмурился.
«Плохо же вас, товарищ Бабушкин, политически воспитывали, если вы не желаете принимать переходящее Красное знамя…» – председатель завкома профсоюза Федулин брякнул о чернильницу крышкой.
А Павел Казимирович Крыжевский вдруг зашевелился, открыл помутневшие от дремы глаза и чуть повернул голову – ухом вперед: он в последнее время туговат стал на ухо.
– В нашей бригаде случилось чрезвычайное происшествие, – сказал Николай. – Мы недавно узнали, что монтажник Ведмедь, который работает… который работал в нашей бригаде, подрядился строить церковь на Меридианной улице… Мы замечали, что он отлынивает от сверхурочной работы в цехе и подводит товарищей, но про это не догадывались. А потом – сами увидели. Случайно увидели…
Ропот пронесся по углам.
– Завкому об этом известно?
– Дирекция знает?..
– Товарищи, – вмешался Черемных, – дирекция знает об этом случае. Меры приняты. По настоянию бригады, в которой работал Ведмедь, он уволен с завода. Комсомольская организация треста «Джегорстрой», где Ведмедь состоял на учете, исключила его из рядов…
– Правильно!
– Пускай в дьячки наймется…
– Такой ради денег на все пойдет!..
– Верно, товарищи, – густым басом перекрыл выкрики Черемных. – Все это верно… Но почему из-за одного отщепенца должен страдать весь коллектив? Ведь все остальные члены бригады – настоящие энтузиасты! Работают, не считаясь со временем, порой – с утра до ночи, а нужно – так и ночью… И свое отношение к поступку Ведмедя они уже выразили, изгнав его из бригады… Я не принимаю довода, высказанного Бабушкиным. И не разделяю его щепетильности. Вместе с переходящим Красным знаменем бригаде выдается денежная премия – вполне заслуженная премия! Отказываться от нее неразумно. Пускай меня извинит Бабушкин, но мне-то известно, что половину своего заработка он отсылает родителям, в деревню. И армейская гимнастерка, которая на нем, – это единственный костюм…
– Чего не знаете, не говорите, – полез в амбицию Николай. – Куплено уже.
– Молодец. – Черемных усмехнулся. – Но ты купил, а ребята еще собираются покупать. А Мелентьев жениться собирается…
– Женился уже.
– Тем более.
Черемных сел.
– Красное знамя мы принять не можем, – твердо заключил Николай. – Не можем. Потому что теперь на всей нашей бригаде пятно… Знамя – это… как орден. Это даже больше ордена – знамя. И мы его принять не можем.
У завкомовского сейфа, прислоненное к стенке, стояло красное знамя. По правде говоря, сейчас и видно-то не было, что оно красное. Не было видно, какого оно цвета, – поверх полотнища, обмотанного вокруг древка, надет защитный чехол. Это знамя, вместе с чехлом, завком приобрел по безналичному расчету в магазине «Культтовары». На знамени была выткана надпись: «Лучшей бригаде», – как раз подошло. В магазине «Культтовары» продавались знамена и с другими надписями: «Передовому предприятию», «За отличное обслуживание», «Будь готов – всегда готов», а также персональные вымпелы с бахромой.
Завком профсоюза совсем недавно купил это красное знамя. Его еще никому не присуждали. Так оно и стояло покамест возле сейфа – прислоненное к стенке, спеленатое.
– …в девятьсот пятом году, в Лодзи. Мы шли со знаменем по Петроковской… Солдаты стреляли залпами, по команде. Но они стреляли выше цели – они не хотели нас убивать… Тогда офицер спрятал свой палаш и взял у солдата винтовку…
Начала этого рассказа никто не слыхал. Никто даже не заметил – среди общего гомона, – как Павел Казимирович заговорил. И говорил он совсем тихо, будто для самого себя. У них, у стариков, есть такая привычка – ни с того ни с сего ворошить старое. Их всегда одолевают разные воспоминания… Он сидел на стуле – сухонький, аккуратный, – зажав меж колен палку, сложив на рукояти морщинистые, бледные кисти рук. Он говорил очень тихо, с хрипотцой, то и дело сбиваясь на отроческий ломкий дискант…
Никто не слыхал начала этого рассказа. Теперь все слушали, оцепенев.
– …когда Ежи Ковальский упал, знамя взял Хаммер – он тоже был членом комитета. Знамя не успело упасть… Но тот офицер хорошо стрелял, и он все время целился в знаменосца. Хаммер тоже упал… И тогда знамя поднял Мариан Стрык. Мы хотели забрать у него знамя, потому что он тоже был членом комитета, – а всего в комитете было пять человек…
По окнам полоснул ветер, шершаво ударил в стекла снежной пылью. На минуту померкли и снова налились светом уличные фонари.
– В тот день мы потеряли весь комитет… Это, конечно, было ошибкой. Мы много ошибок допустили тогда. В Лодзи… Нельзя было жертвовать такими людьми, как Ежи Ковальский и Хаммер. Мы остались без руководства, и потом началась стихия…
Павел Казимирович печально развел руками.
– Когда Хаммер умирал – от раны, последним из пятерых, – он плакал и просил прощения. «Я все понимаю, – говорил он. – Но я не мог иначе. Ведь это – Красное знамя!»… Да…
Крыжевский задумчиво пожевал мягким, беззубым ртом.
– Это знамя мы сберегли до семнадцатого года…
Окна скреб ветер. Сильно пуржило – к весне. Шальные космы снега обвивались вокруг фонарей.
И в комнате, у лампы, вились затейливые космы. Надымили табакуры – хоть сдохни, если ты некурящий. Пять часов идет заседание.
– Видите ли, товарищи… – Председатель завкома Федулин шевельнул крышку чернильницы. – Мы не можем не принять во внимание… Тем более что бригада Бабушкина категорически отказывается принять знамя… В таком случае мы должны присудить Красное знамя другой бригаде. – Федулин заглянул в разграфленную бумажку. – Хотя показатели у других бригад ниже. Например…
– А почему мы обязательно должны его присуждать?
– То есть как? – Председатель завкома поднял плечи. – Поскольку мы учредили переходящее Красное знамя для лучшей бригады завода…
Он обернулся. Знамя стояло в углу, возле сейфа, прислоненное к стенке.
– …то из этого следует…
– Что следует?
– Ничего из этого не следует!
Наперебой летели голоса:
– Достойные будут – присудим.
– Верно!
– А пока – пускай в завкоме постоит.
На том и порешили.
Как-то перед концом смены Николай зашел в конторку позвонить Черемныху – в керамзитовом цехе была такая конторка с телефоном. Фанерный закуток, еле втиснешься. Ему надо было позвонить главному инженеру насчет завтрашней работы. Но едва он потянулся к трубке, телефон сам зазвонил.
– Керамзитовый, – отозвался Николай.
– Позовите Бабушкина, – сказал в трубке мужской голос. Совершенно незнакомый и довольно противный голос – гундосый.
– А кто просит? – осведомился Николай. Ему не хотелось сразу объявляться, что это он сам и есть Бабушкин. Чтобы не подумали, будто он целый день, вместо работы, сидит тут в фанерном закутке и дожидается, пока ему позвонят по телефону.
– Один знакомый, – сказали в трубке.
Николай очень удивился. У него сроду не бывало таких гундосых знакомых.
– Ну, я – Бабушкин…
В трубке воцарилось молчание. Потом клацнуло, отрывисто загудело – отбой.
Вот хулиганье. Мало им по квартирным телефонам баловаться – балуются по служебным.
Николай хотел уже снять с рычага трубку и набрать номер Черемныха – ему нужно было договориться насчет завтрашней работы, – как телефон снова заверещал.
«Ну, погоди. Ты у меня добалуешься!..» – обозлился Николай и, нарочно изменив голос, чтобы его за прежнего не приняли, ответил:
– Алло.
– Бабушкина позовите, – пронзительно и настырно, как девчонка, которую тянут за косу, пропищала телефонная трубка.
– Сейчас, – сказал Николай.
Он положил трубку и стал тяжело топтаться на одном месте, будто кто-то выходит из конторки – звать. Распахнул настежь дверь: в закуток ворвалось гудение компрессоров. И снова – топ, топ…
– Слушаю.
– Николай, ты? Здорόво…
Теперь в трубке был совершенно нормальный человеческий голос. И не чей иной, как Лешки Ведмедя.
Коля Бабушкин был крепко зол на Лешку – до зубовного скрежета. Он всего мог от него ожидать, кроме последнего. Кроме того, что Ведмедь продаст за грош свою комсомольскую рабочую душу: попу или черту, какая разница? Продал за грош и пропал за грош.
Но вместе с тем Николай был крепко зол и на самого себя. Ведь он сразу, как только приехал в Джегор, почуял, что с Лешкой творится неладное. Эта пьянка у Волосатовых. Эта ругань за стенкой. Все эти копеечные пересуды…
Ему бы, Николаю, сразу вступиться за старого друга. Ему бы потолковать с ним по-дружески. Набить бы ему по-дружески морду. Так нет, он все не решался. Он все медлил… Как будто выжидал, пока случится это – последнее…
Коля Бабушкин был крепко зол на себя. И крепко зол на Ведмедя.
И еще ему было очень жалко старого друга, окаянного Лешку, было очень жалко Верочку. Так жалко – до зубовного скрежета…
– Ты ко мне вечерком не заглянешь? Поговорить нужно, – продолжал Ведмедь.
Это именно он звонил.
– Зайду. Почему не зайти, – ответил Николай.
Трубка опять умолкла – только дыхание колеблет мембрану, – потом переспросила недоверчиво:
– Алло… Это Бабушкин? Николай, это ты?..
Видно, нелегко дался Лешке этот телефонный звонок.
И не ради смеха разговаривал он не своим голосом – он боялся, что кто-нибудь по голосу опознает его, что он напорется на знакомых ребят из монтажной бригады. Видно, ему не верилось, что Коля Бабушкин так быстро согласится заглянуть к нему вечерком: зайду, мол, почему не зайти… После всей этой происшедшей истории.
И он, как видно, до самого вечера сомневался. Пока Николай не пришел.
Дома у них, у Ведмедей, было все по-старому. Если не считать, что радиоприемник стоял не на тумбочке, а на полу – сбоку шнур калачиком. И разинутый чемодан на полу: в него накиданы кучей всякие теплые вещи. Тут же, рядом с чемоданом, туго набитый рюкзак. А на кухне и в прихожей сушится, свесив рукава, белье… Уезжать собрались, что ли?
– Вот, уезжаем… – сказал Николаю Лешка, кивнув на чемодан.
– Куда?
– На Пороги… Мы с Верой туда оформились: я – на монтажные работы, она – учетчицей. Завтра утром уезжаем…
– Тебя что, из треста уволили?
– Нет. По собственному желанию… Ну их к черту. Каждый день поминают… В «Крокодил» на улице повесили: теперь всякий пальцем тычет… Надоело.
– А ты не сгоряча это?
Коля Бабушкин уже знал подобные случаи из жизни, когда сгоряча за чемодан хватаются. И едут куда глаза глядят. И решают новую жизнь начать непременно на новом месте. А про старую жизнь и про старое место – забыть. И чтоб тебя забыли. Как будто тебя там и не было никогда…
Порой так по жизни человек и шагает, тем же известным способом, каким переходят лужу: кладутся три кирпича, ступишь на передний – перекладывай задний… И ног не замочишь. И где шел, не видно.
Но Коля Бабушкин не посмел сейчас отговаривать Лешку. Тяжело ему, конечно. Каждый день поминают. Пальцами тычут…
И Верочке, должно быть, тяжело.
– Здравствуй, Коля.
Верочка подошла – вся мокрая, руки в мыле и фартук в мыле. Стирка у нее. Запарилась, бедная… Но улыбается. И глаза у нее вовсе не печальные, а скорей даже веселые.
Большие такие глаза – почти как у Ирины.
– Мы завтра на Пороги уезжаем, – сообщила Верочка. – Завтра утром. Я туда на работу оформилась, учетчицей – как раньше. Вместе с Лешей буду работать. Вот хорошо!.. – Она опять улыбнулась. – Как раньше…
Скажи, какая она веселая. А он думал, что грустная. Ничуть. Ну, и молодец же эта Верочка – с такой не пропадешь.
– Вот что, Коля. Мы уезжаем завтра. На Пороги… – деловито повторила Верочка. – Мы туда насовсем решили уехать… Но пока мы на Порогах квартиру получим, все это здесь останется.
Она показала вокруг: шкаф, кровать с шишаками, ковер с верблюдами, тумбочка…
– Без этого все равно обойтись нельзя. А там, на Порогах, не купишь… Так ты, если хочешь, поживи здесь. За хозяина. Все-таки лучше, чем в гостинице… Если хочешь.
Чего ж тут не хотеть. Почему бы ему действительно не пожить в этой квартире. Хорошая квартира – он в ней жил когда-то. В ней конечно же лучше, чем в гостинице.
Да и дирекция гостиницы смотрит косо на давних постояльцев: она боится, что вдруг какой-нибудь постоялец женится, приведет в гостиницу жену, наплодят они там кучу детей – поди потом высели!.. И дирекция старается заранее выжить старых постояльцев, покудова они не женились. Она их бьет рублем – она с них дерет в двукратном размере.
Ирину Ильину недавно выжили. Она теперь в Заречье живет, сняла там у одной частной бабки угол.
– Ладно, – согласился Николай. – Большое вам спасибо. Я поживу тут, и можете не волноваться, все вещи будут целы… Но ведь я тоже скоро уеду на Пороги!
– Мы к тому времени заберем вещи. Может быть, к тому времени нас уже устроят на Порогах. Хоть как устроят…
Верочка раздумчиво поглядела на потолок, скользнула взглядом вдоль стен.
Было видно (во всяком случае, об этом можно было догадаться по ее виду), что в ней сейчас борются между собой два разных чувства. Что ей, с одной стороны, очень жалко покидать этот дом, где они с Лешкой впервые зажили вместе как муж и жена, который они с Лешкой так заботливо и упоенно обставляли разными домовитыми вещами; и жить им тут было тепло и светло.
Но, с другой стороны, по Верочке было видно (во всяком случае, Коле Бабушкину так показалось), что ей вовсе не жалко покидать этот дом и она даже торопится его покинуть, потому что, пока они жили тут с Лешкой, день за днем и час от часу – не заметишь сразу – уходила куда-то их веселая и молодая жизнь, будто ее вытесняли отсюда шаг за шагом все эти домовитые вещи, и стало вдруг тесно в доме, и тесно на душе, и пошла тесниться беда к беде… То Лешки дома нет, то Верочка одна сидит дома. То он рядом с ней скучает, то ей без него скучно. Будто что-то разладилось у них. Будто между ними мышь пробежала.
Лучше уж уехать из этого дома. Подальше бы от него уехать…