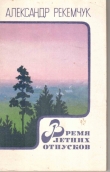Текст книги "Избранные произведения в двух томах. Том 2"
Автор книги: Александр Рекемчук
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 40 страниц)
– Здравствуй, заходи, – сказала она, притворив за ним дверь. – Приехал?
– Да вот, приехал, – снова улыбнулся Иван и поискал глазами, куда бы пристроить свертки. Рядом была табуретка, он туда и пристроил покуда.
– Коля, – сказала Настя, обращаясь к мужчине. – Это – Ваня. Вы познакомьтесь.
– Николай, – отрекомендовался мужчина и протянул Ивану свою мускулистую руку; однако пожатие его руки показалось Ивану менее мощным, чем можно было ожидать от таких мускулов.
– Валера, – обратилась меж тем Настя к долговязому пареньку, стоявшему тут же. – Ты познакомься… это – твой отец.
– Здравствуйте, – сказал Валера.
Вообще-то приезд Ивана Еремеева не мог быть совершенной и полной неожиданностью для всех, кто его тут встретил. Они не могли испугаться, предположив, что он – выходец с того света. Они знали, что он жив-здоров. Потому что, как только Иван освободился из заключения, он сразу написал об этом Насте, сообщил о своем изменившемся положении и о том, где проживает. А как только он стал работать по-вольному и получать за свой труд деньги, причем деньги немалые, он счел за долг и за правило ежемесячно отсылать Насте, как положено, ровно двадцать пять процентов своего трудового заработка на сына, на Валерку, на вот этого долговязого паренька, на его воспитание.
Равным образом Иван еще в лагере узнал, что его жена Настя с ним развелась, заочно, не извещая его самого об этом: была такая законная привилегия для жен, у которых мужей посадили, – они могли с ними развестись по своему собственному единоличному желанию, и никто тут не вправе был чинить препятствия. А после Иван узнал, что Настя снова вышла замуж, – и на это она имела законное и неотъемлемое право.
Так что все тут было совершенно ясно, никаких тут загадок не было, и не требовалось никаких разгадок.
Просто никто из них, кто жил теперь в этой квартире, не мог предположить, что он, Иван, вдруг возьмет и заявится к ним в гости: здрасте, мол, разрешите представиться. И уж вовсе никто не мог, конечно, знать, что он заявиться именно сегодня, нежданно-негаданно, когда все тут чувствовали себя в полном и безмятежном покое, ходили по-домашнему, в майках да фартуках, стряпали, паяли.
Вот ведь как.
И чтобы разрядить создавшуюся обстановку, чтобы преодолеть всю эту неловкость, Иван склонился над табуреткой и стал разматывать бечевки на своих столичных свертках.
Тут каждому было по подарку.
Из одного свертка он извлек китайскую вязаную кофту, длиннополую и дорогую, как пальто, ярко-красную, с вышитыми узорами по карманам – и вручил эту кофту Насте, своей бывшей жене.
– Ой, спасибо! – вымолвила Настя, прямо-таки вспыхнув, зардевшись от радости так, что щеки ее сравнялись румянцем с цветом кофты.
Она тут же накинула себе на плечи эту дареную кофту и заглянула в зеркало, висевшее здесь, в передней.
– Спасибо, – повторила она. – Я мечтала про такую.
Из другого свертка Иван вынул картонную коробку, а из картонной коробки – другую, пластмассовую коробку, на которой было изображение города Ленинграда, а внутри этой пластмассовой коробки находилась электробритва новейшей марки.
Он поколебался секунду, вспомнив, что заметил на губе и щеках своего сына Валерки темную поросль и что, наверное, скоро мальчишке придет пора бриться, и ему тогда могла бы пригодиться эта замечательная бритва – но тогда другой останется без подходящего подарка, и Иван, преодолев колебания, вручил пластмассовую коробку Николаю, новому мужу своей бывшей жены.
– Спасибо, – сказал Николай и, сунув в карман штанов паяльник, который все еще был у него в руке, заглянул в коробку.
А из последнего свертка Иван достал ненадутый волейбольный мяч с покрышкой желтой кожи и с красивым заграничным клеймом у шнуровки – и этот хороший мужской подарок он протянул своему сыну, Валерке: вот тебе, парень, играй; с таким, как у тебя, ростом в самый раз заняться волейболом.
– Спасибо, – кашлянув, сказал Валера.
Он один из всех троих все еще казался растерянным и смятенным, все еще, как видно, не мог прийти в себя и не мог до конца понять, что тут такое происходит.
Теперь, когда все были одарены и, надо полагать, довольны, Иван почувствовал себя немного уверенней и свободней.
Но на всякий случай, чтобы окончательно успокоить хозяев и совсем избавить их от каких-либо тревожных предположений, от всяких тягостных мыслей, Иван поспешил объяснить:
– Я завтра утром на курорт уезжаю, мне путевку дали. Да вот переночевать негде – одну ночь. Я и подумал, куда еще?.. Если вы не возражаете.
– Да что ты, Ваня! – вроде даже обиделась Настя. – Как же ты мог предположить… И правильно сделал, что зашел. Ночуй, пожалуйста, – хоть ночь, хоть две. Мы очень рады.
– Места хватит, – поддержал ее Николай, теперь уже с полным расположением взглянув на Ивана.
– Да что ж мы тут стоим? – всплеснула руками Настя. – Заходите в комнату, заходи, Ваня…
Иван зашел.
Но, войдя в эту комнату, столь издавна ему знакомую, он, прежде чем успел оглядеть все вокруг, тотчас впал в отчаяние. Оказалось, что он все же просчитался, закупая московские гостинцы, не все предусмотрел, дал промашку, обошел и обидел еще одного живого человека в этом доме, о котором он просто ничего не знал.
В углу комнаты стояла деревянная кроватка с решеткой, а в кроватке, держась за решетку, стояло дите в бумазейной распашонке, и оно, когда он вошел, заулыбалось ему навстречу слюнявеньким ртом, – будто оно, это дите, было единственным, для кого появление Ивана не представило никакой неожиданности, будто оно его ждало и будто они были давними друзьями.
– «Эх, – огорчился в сердцах Иван, – кабы знать…»
Но теперь уже ничего иного не оставалось, как просто подойти к этой деревянной кроватке, нагнуться и почмокать губами, как всегда делают, когда смотрят на маленьких.
Он почмокал, а дите еще веселей заулыбалось и пустило изо рта пузырь.
– Мальчик или девочка? – справился Иван, потому что из-за распашонки не видно было.
– Это Машенька, – сказала Настя, тоже склонившись над дитем и утерев ему ротик. – Она у нас девочка. Это доченька наша, да?
Жалко, что он ничего не знал об этом, не имел никаких сведений. Славная какая девочка. Вот и Валерка такой же был, когда он его в последний раз видел.
– Вы садитесь за стол, – распорядилась между тем Настя. – Я вам сейчас ужинать дам.
Николай и Иван присели к круглому, застланному клеенкой столу. А Валерка хотя и вошел вместе с ними в комнату, но сел в стороне, с прежним недоумением, исподлобья поглядывая на Ивана. Было в этом взгляде и простое любопытство, и настороженность, и даже некая, уму непостижимая враждебность: зачем, мол, ты сюда пришел, тут и без тебя неплохо жилось, подумаешь, делов – мяч подарил…
– Ну, как жизнь, Валера? – спросил сына Иван. – Ты теперь в каком классе?
Однако тот лишь шевельнулся молча.
– А он уже не в школе, – ответил за него Николай. – Он в техникуме учится, в нефтяном.
– Молодец, – похвалил Иван.
Ему было очень приятно узнать, что сын решил двинуть по отцовской линии.
– Я… пойду, – сказал Валера, поднявшись с места.
– Куда это? – удивился Николай, его отчим.
– В кино пойду, – глухо ответил парень.
– Ну как знаешь. Иди.
Николай подмигнул Ивану: вот, дескать, беда с этим народом, с подрастающим поколением, не поймешь их.
И когда Валера вышел, сказал про него:
– А учится хорошо. Этим летом – на практику, на буровые.
– Вы сами-то где работаете?
– Но восьмом участке. Бурмастер я.
– Выходит, коллега.
– Выходит, так.
Они улыбнулись друг другу.
Иван Еремеев до этого разговора не знал, что у нового мужа Насти точно такая же профессия, как у него самого. И у него даже промелькнула мысль, что Настя нарочно выбрала себе мужа такой же самой профессии, какая была у Ивана. Может быть, она – от горя по нем, по своем первом муже, которого так рано потеряла, всего лишь на третьем году замужества – специально так постаралась, чтобы хоть профессия была та же, чтобы хоть чем-нибудь был человек схож с тем, потерянным. Ведь бывает – Иван об этом не раз слыхал, – что люди, потерявшие свою любовь, ищут хотя бы человека с таким же именем, на имечке женятся, за имечко выходят замуж.
Правда, тут, в этих местах, большинство людей работает на нефти, у большинства нефтяные профессии, так что могло и случайно произойти подобное совпадение, что и первый муж Насти, и второй ее муж – оба оказались бурмастерами.
Но теперь, установив схожесть профессий, Иван и Николай уже могли найти общую тему для разговора за этим круглым столом.
– Вы как там, на Севере, уже перешли на турбины? – спросил Николай.
– Переходим помаленьку. Несколько скважин забурили.
– Лучше?
– Да как сказать… – Иван неопределенно пожал плечами. – Вообще-то, конечно, быстрей идет проходка. Метраж увеличился. Но вся беда в том, что не всегда это одинаково годится. У нас, например, где мы сейчас бурим, породы очень вязкие…
– Заедает?
– Заедает. Там бы ротором бурить удобней. Но… велят осваивать новую технику. Внедряйте, говорят, турбины.
– Вот-вот, – оживился Николай. – Это завсегда так…
Но тут их разговор был прерван появлением Насти.
Она поставила на стол большую миску картошки, уже, по всей видимости, нынешней, молодой, ранней, овеянной сладким паром. Поставила также блюдце редиски, залитой сметаной. А потом, снова сбегав на кухню, принесла еще желтого, нарезанного дольками соленого сала и неполную, так, чуть больше половины, бутылку перцовки.
– Припрятано у меня было, – сказала она. – Выпейте ради такой встречи.
Они не отказались. И Настю заставили.
С аппетитом налегли на закуску.
– Вот я то же говорю, – посочувствовал коллеге Николай. – Почему начальство никак понять не желает, что если надо внедрять новую технику, то первым делом надо к этому подходить с умом, а не так – рви подметки… Я, например, про долотья скажу. Получили мы недавно трехшарошечные долотья…
– Ой, ну что вы про работу да про работу? – запротестовала Настя. – И как не надоест. Про работу на работе и рассуждайте. А то всякий раз: за стол – и снова про работу заладят…
– А про что же нам еще разговаривать? – Николай опять подмигнул Ивану, как тогда, насчет Валерки. – У нас такой общий интерес.
– А мне неинтересно, – заявила Настя. Как отрезала.
Она его, видно, крепко держала под каблуком, этого мускулистого мужчину Николая.
– Вы лучше про себя расскажите… Вот ты, Ваня, расскажи про себя. Как ты там живешь?
Только сейчас, за столом, Ивану удалось получше и повнимательней разглядеть Настю, свою прежнюю жену, какой она теперь стала, через пятнадцать лет после того, как он ее последний раз видел. И опять он несказанно удивился тому, что время так неодинаково бежит для разных людей и так по-разному кладет свой отпечаток при разных обстоятельствах. Для него самого, для Ивана, этот срок представлялся нескончаемой вечностью, и он знал, что очень переменился за ото время – и в душе своей, и во внешности, хотя Настя его все-таки сразу признала.
Но что касается самой Насти, то ее как будто просто миновали стороной все эти годы, она осталась такой же, как прежде, ничуть не изменилась.
И глаза у нее остались прежними, бархатистыми, ласковыми. И волосы так же гладки, как раньше, ни единой сединки в них. И шея у нее совсем еще молодая, и руки в этом открытом сарафане, в котором она села к столу, и плечи – ну разве слегка лишь все это у нее располнело, порыхлело, не так туго на вид, как было прежде, зато, стало еще нежней и белее… Совсем ее не тронули годы. Чудеса.
– Ты расскажи, Ваня, как живешь, – повторила Настя, немного смущенная этим его пристальным взглядом. – Мы ведь ничего про тебя не знаем.
– А что рассказывать? – усмехнулся Иван. – Живу. Работал там. Теперь буду здесь работать. Вот квартиру обещают.
– А там у тебя была квартира?
– Квартиры не было, в общежитии койка. Так ведь мне и не надо было – круглый год в экспедиции. Я там от разведки работал, – пояснил он специально для Николая, тот-то понимал, что это значит.
Николай кивнул.
– А… семьей не обзавелся? Не женился еще? – спросила Настя.
– Нет пока.
– Что же так? Или невесты там у вас, в тайге, не водятся?
Она это спросила будто бы шутя. Но Иван учуял за этим вопросом, заданным так, чтобы ни о чем не догадался третий сидящий за столом человек, совсем другой интерес, прямой и безжалостный, который одни лишь женщины могут себе позволить, чтобы натешить свое женское тщеславие: что, дескать, не нашлось ведь лучше меня; или хотя бы ровни; или даже лахудры какой, чтобы ты с ней мог спать, а про меня думать; небось все еще меня любишь – не можешь забыть, а?..
Жестоки они все-таки, женщины. Вот и добры, и участливы – а как жестоки.
– Ну, это положим, что вашего брата… сестры то есть вашей везде хватает, – весело вмешался в разговор Николай. – Есть такая статистика.
Он, как видно, этот третий сидящий за столом человек, все же догадался про тайный смысл подобных расспросов. И решительно продолжил прежний начатый серьезный разговор:
– Так вот, получили мы недавно трехшарошечные долотья. Для твердых пород. Сталь что надо…
Иван вежливо прислушивался к речи хозяина дома.
Но в этот момент хозяйка дома, Настя, вдруг судорожно всхлипнула, глаза у нее вмиг наполнились слезами, слезы пролились на щеки, она заслонилась локтем, поднялась со стула и выбежала на кухню.
Прорвало ее все-таки.
Николай нахмурился и с очевидной укоризной покосился на пустую бутылку из-под перцовки. Вот, мол, оно… дай бабе рюмку. А она тут же в слезы.
Он так и не успел рассказать Ивану толком, что там у них произошло, на восьмом участке, с долотьями.
Настя вскоре вошла снова, и лицо ее, глаза ее уже были совсем сухи. Тут вернулся и Валера. И Настя начала стелить им всем на ночь.
Она постелила себе и мужу в той же комнате, где ужинали, поблизости от деревянной зарешеченной кроватки. Машенька уже спала.
А Ивана она проводила в соседнюю комнату, где жил Валерка, и постелила им обоим на диване, откинув примятые валики. Диван все равно был короток и тесен, так что им с Валеркой пришлось расположиться валетом, голова от головы врозь.
Валерка тут же уснул, засопел.
А Иван еще долго ворочался с боку на бок, никак не умея приноровиться к этому куцему дивану, с которого его длинные ноги свисали плетьми. Да и Валерка давно уже перерос этот старый диван.
Заплакала все-таки…
Надо сказать, что Иван Еремеев никогда не позволял себе даже в мыслях упрекнуть Настю в том, что она тотчас развелась с ним, когда его посадили. Может быть, ей даже подсказали это сделать. Она ведь в ту пору не могла еще знать, что это горькая напраслина; испугалась, должно быть, не поняла что к чему. Да и кто тогда понимал? А ведь она еще совсем девчонкой была… И могла ли она знать, что впоследствии все образуется и муж ее честь по чести вернется к ней. Этого тоже тогда никто не знал. И, прямо скажем, никто не мог дать наперед гарантию, что это все-таки произойдет; когда-нибудь случится – не только с ним, с Иваном, а и с другими, которые останутся живы.
Равным образом Иван никогда не корил Настю за то, что она снова вышла замуж, за этого вот Николая. Помыкалась годок, другой, третий – да и вышла, как же иначе. Ведь она была молодая и красивая женщина. К тому же осталась с ребенком на руках, куда же ей было деться?
Все это Иван хорошо понимал, когда долгими ночами, месяцами, годами обдумывал происшедшее. Конечно, было ему это тяжело, и изводился он так, что об этом не расскажешь. И не стоит, наверное, рассказывать. Но самым мучительным в его мыслях, пожалуй, в ту пору было даже не замужество Насти, о котором он узнал и с которым вполне смирился. Его почему-то терзало совсем другое: он все пытал, все спрашивал неизвестно кого – было ли у нее, у Насти, что до этого второго замужества, между тем, как его посадили и как она снова вышла замуж. Изменяла ли она ему?
А он…
Иван снова грузно перевернулся с одного бока на другой, подушка выскользнула у него из-под головы, шлепнулась на пол, он нашарил ее рукой, положил на место, злобно ткнул кулаком, приник к ней лбом.
Он почувствовал, что опять пришло к нему это, то, что беспрестанно и навязчиво возвращалось к нему в такие вот бессонные часы – самое страшное изо всего страшного, что было в его жизни…
…Февраль выдался чудовищным даже для тех мест. Три недели бушевала пурга, ледяной океанский ветер-хановей достигал такой силы, что, говорят, уносил людей, не успевших спрятаться, прямо в мутное небо. Они сидели в бараках, коченея у беспомощных печей и млея от голода: подвоза продуктов не было, а что было – съели.
Потом пурга унялась. Прежде всего надо было найти под двухметровым навалом сухого колючего снега дорогу – найти ее и снова сделать дорогой.
Работали с утра до ночи, впрочем, ночь была все время, стояла полярная ночь.
Они широкими фанерными лопатами разгребали бездонный снег.
Луч прожектора рассекал темноту. Свет полз по кругу. Ослепляющий и сам будто слепой, ощупью выбирающий путь. Пожалуй, на этот раз прожектор старался просто остаться ориентиром для людей и подсветить им место работы…
Иван, орудуя лопатой, прокладывал лощину в плотных сугробах. Он и сам не заметил, как оказался рядом с забором. Высокие столбы на две трети ушли в снег, меж ними была натянута – и вдоль, и поперек, и вкось – колючая проволока.
Там, за проволокой, работали женщины. Их тоже вывели на аврал.
И как раз в это время, когда Иван достиг забора, рядом с ним, по ту сторону, оказалась женщина в мышастой телогрейке, с обмотанной тряпками головой. Она тоже ворошила лопатой снег. Они оказались совсем рядом, так близко, что услышали надсадное дыхание друг друга.
Свет прожектора, медленно обегающий круг, скользнул по ним обоим и поплыл дальше, в сторону…
…Всю ночь Иван, как в бреду, метался и ворочался на узком ложе, не находя себе места. Он заснул лишь под самое утро. Но и этот сон был недолог.
А когда он проснулся и раскрыл неотдохнувшие, воспаленные глаза – он увидел напротив, там, близ его ног, лицо Валерки, своего сына.
Парень не спал и, наверное, уже давно рассматривал его внимательным, изучающим взглядом.
Курорт, куда он приехал, был на побережье Черного моря. И хотя Иван в ранней молодости жил и работал не так уж далеко от этого побережья, он впервые увидел море, и впервые увидел такое ослепительное солнце, и впервые увидел пальмы, и он впервые увидел одновременно столько людей, проводящих время в счастливом и полном безделье.
Все вокруг казалось сказкой.
Пусть санаторий, куда он прибыл со своей бесплатной путевкой, был самым обыкновенным санаторием, вовсе не какого-нибудь особого или закрытого типа, а вполне заурядным, из тех, что сами профсоюзные деятели в шутку называют «пролетарии всех стран, соединяйтесь», – однако этот санаторий ошеломил и потряс Ивана своей несказанной роскошью.
Санаторий стоял над самым морем, белый, будто выплеснутый пенной волной, и такой же легкий, ажурный, сияющий всеми своими ясными стеклами. Вокруг него росли кипарисы, цвели голубые папахи диких гортензий, а лавровый лист, тот, который кладут в суп и который продают в магазинах за деньги, а когда его нет в магазинах, то его привозят с юга кавказские жители и тоже продают за деньги, – тут он рос прямо на кустах, сплошняком, рви сколько хочешь, нюхай, жуй, сплетай из него лавровые венки и носи на голове.
Каждый день тут было кино – под открытым благоуханным небом, и, если иной раз кино казалось неинтересным, можно было просто задрать голову и смотреть в это небо, где мерцают звезды и созвездия, Большая Медведица, Малая Медведица и прочие, которые мало кто знает по названиям.
Кормили тут очень хорошо, четырежды в день, хоть ты лопни. Надо заметить, что в те, совсем недавние времена медицина еще не так свирепо боролась за то, чтобы люди худели, скидывали жир, – может быть, просто еще человечество не опомнилось от военной голодухи и других напастей, – поэтому врачи не так уж настаивали на тощих диетах, а результаты лечения в санатории в общем оценивались по тому, кто сколько прибавил в своем живом весе, и это записывалось каждому отдыхающему в санаторную книжку.
Иван еще никогда в жизни не ел таких вкусных и сытных блюд, какие здесь подавали. Но почему-то его особенно умиляло и трогало, что в каждый завтрак на его тарелке, чуть сбоку, лежал квадратный кусочек масла, еще не размякший от жары, плотный, свежий, как само утро, с прозрачной росинкой на срезе.
А комната, где он жил, была на втором этаже, с балконом, и балкон выходил прямо на Черное море, и целый день это море, огромное и явственно выпуклое, вздутое по округлости земного шара, меняло свой цвет – то в белесую марь, то в нежную голубизну, то в густую купоросную синь, то в зелень, то в свинцовую хмурь. И порой на дальней черте горизонта появлялся маленький чистый теплоход.
Комната была двухместная, на две кровати, на двоих. И вторым, соседом его, к радости Ивана, оказался тоже рабочий человек, как и он, только помоложе, двадцати пяти лет, шахтер из города Кемерово – звали его Гриша. Он был компанейским и славным парнем – добро, что не какой-нибудь хрыч с давней язвой, пишущий в жалобные книги.
Они с Гришей на пару ходили в кино, жарились на пляже, купались. И однажды, под настроение, Иван рассказал Грише вкратце про свою судьбу: как его ни за что ни про что посадили, как он скоротал в общем счете пятнадцать лет, как его с честью потом реабилитировали, и вот он приехал сюда. Ничего, конечно, зазорного не было в том, что Ивана потянуло на эту душевную исповедь. Он даже где-то в глубине души рассчитывал на то, что после этого разговора его сосед Гриша, такой же, как и он сам, рабочий человек, только гораздо моложе, еще, наверное, не набравшийся большого жизненного опыта, не знающий, почем фунт настоящего лиха, – что он зауважает его еще больше, и они, может быть, станут настоящими друзьями, и, даже разъехавшись, не потеряют друг друга из виду, будут переписываться.
Гриша выслушал его рассказ без особого заметного удивления. Ему конечно же помимо Ивана все это было известно – и насчет лагерей, и насчет культа личности, он ведь, поди, и газеты читал, и радио слушал. На лице его минутами отражалось и сочувствие, и страдание, и жалость, когда он внимал Ивановым одиссеям.
Но, странное дело, сразу же после этой задушевной беседы он вроде бы начал сторониться Ивана. Хотя они и продолжали жить в одной двухместной комнате, но жизнь эта была уже не вместе, а врозь. Они еще переговаривались меж собой по утрам, дескать, «доброе утро», и по вечерам, залезая под одеяло, мол, «спокойной ночи», но все это уже был не тот разговор. Когда их глаза ненароком встречались, Гриша уклонял свой взгляд, и во всем его изменившемся поведении чувствовалось борение разных противоречивых чувств, вроде бы он и стыдился, и понимал, что ужасно неправ, но в то же время не мог подавить в себе этого возникшего отчуждения к товарищу, не умел преодолеть обременительной досады, которая мешала ему теперь чувствовать себя беззаботно и весело, тяготился его обществом и по возможности избегал.
Они теперь перестали ходить на пару в кино и на пляж и на разные отмеченные указательными стрелками прогулки. Гриша быстро обзавелся другими приятелями, прилепился к другой компании, а та компания в основном проводила время, забивая «козла» под вечнозеленой сенью, они с утра до ночи колотили костями по столу, и когда один раз Иван Еремеев приблизился к этому столу, просто так, от нечего делать, посмотреть на чужую игру, – ему показалось, что при его появлении вдруг сразу оборвался шедший там, меж делом, за игрой, текущий разговор и сидящие за столом, взглянув на него, так же отвели глаза, как делал это в последнее время его сосед Гриша. Стало быть, догадался Иван, они уже все про него знали, вероятно от Гриши, и его появление навело на них тоже досаду и тоску, и хотя Иван вовсе не имел намерения проситься в игру, а хотел лишь поглядеть, как играют другие, один из сидящих за столом принужденно улыбнулся и, как бы извиняясь, сказал:
– Четверо.
И он после этого окончательно понял, что, несмотря на происшедшую крупную перемену в его жизни, невзирая на то, что вроде бы он теперь полностью восстановился во всех своих гражданских правах, что-то продолжало тянуться за ним из прошлого, осталось что-то такое вроде несмываемой татуировки, от которой уже не избавишься.
Что же касается Гриши и его новых приятелей, то Иван, подумав, пришел к выводу, что обижаться на них не стоит. Видно, так уж свойственно человеческой натуре – стараться себя оградить от неприятных мыслей, от всего, что докучает, что тревожит и бередит сердце. А то ведь, если обо всем этом беспрерывно думать, и без конца судачить об этом, и головами покачивать, и разводить руками, то какая же это будет у людей нормальная жизнь и тем более какой отдых? Лучше уж не думать, не бередить, а там и забыть помаленьку.
В общем, после этого случая с Гришей Иван уже сам отдалился от других и не пытался завязывать новых знакомств, замкнулся в себе.
Он бродил в одиночку по горам, по шоссейным дорогам, по лавровым аллеям.
А больше всего времени он проводил теперь в море: и в утренней незыблемой штилевой глади, и в дневной многолюдной голосистой брызгающей кипени, и в вечернем размеренном прибое. Он впервые в своей жизни познал эту соленую сладость морской воды, ее живительный запах, ее играющую добрую силу. Он плавал часами, без устали, радуясь той бесподобной легкости тела, которая особенно удивляет людей, привыкших к пресноводью.
Он заплывал далеко за красные буи, качающиеся близ берега и обозначающие зону для купания, – дальше плавать не разрешалось, и охранники с вышки спасательной станции зорко за этим следили через бинокли, чтобы никто не нарушал запрет, и ругались на весь пляж, если кто нарушал, в громоподобный мегафон.
Но Ивана неудержимо тянуло в открытое море, он не обращал внимания на эти буи и на этих охранников, и может быть, в этом подспудно проявлялись чувства человека, почувствовавшего теперь себя совершенно свободным – как рыба в воде.
Он только прятался за гребни волн, а когда его выносило на гребень, уходил в него с головой, подныривая, ощущая, как по хребту перекатывается пенный вал.
Однажды, когда дул сильный ветер, его снесло в сторону, и он даже потерял из виду ярко размалеванные дощатые навесы своего санаторного пляжа, а на берегу сейчас виднелись уже другие навесы, полотняные, вздувающиеся парусами, а за ними высилось здание какого-то другого санатория, выстроенное в сказочном стиле, и он понял, что находится в чужих водах, – в это самое время, рядом с ним, в десятке метров из-под волны вынырнула другая голова, обутая в белый резиновый шлем, сверкающий на солнце. Голова эта на вид была уже довольно пожилая, но энергичная, загорелая, мужественная.
Голова тоже увидела Ивана и заговорщицки ему улыбнулась: дескать, знай наших…
Их разделил пенистый гребень.
Ивану показалось, что он уже где-то видел эту выразительную голову. Он дождался, пока схлынет волна и голова появится снова, чтобы к ней приглядеться. И когда голова снова появилась, он заметил, что она тоже приглядывается к нему. Но на той голове был тугой резиновый шлем, обычно до неузнаваемости искажающий лица. А сам Иван купался без шлема, и волосы, когда он выныривал, мокрыми прядями сплошь облепляли его лицо, так что его тоже, наверное, было нелегко узнать.
И они оба, выскакивая из волн, сплевывая и смаргивая соленую воду, присматривались друг к другу.
Но в этот момент оттуда, с суши, издалека, относимое ветром, долетело:
– …ра… ем… мед… ни… ря…
Что, по всей вероятности, относилось к ним обоим и должно было означать: «Граждане за буем, немедленно вернитесь! Повторяю…»
Их засекли.
Голова в белом шлеме еще раз улыбнулась Ивану – мол, ничего не поделаешь – и двинулась обратно.
Иван тоже покорно поплыл к берегу.
Этот, рядом, шел хорошо натренированным кролем, торпедой прорезая воду, и лишь в ногах, как у винта, бурлила пена.
А Иван плыл доморощенным способом, почти до пояса выносясь из воды, каждым взмахом отмеряя сажени.
Они шли все время наравне. И одновременно оба ощутили дно и встали на ноги, чувствуя, как прибой больно сечет камнями лодыжки, и, выждав, когда отбежит волна, шагнули на берег.
Повернулись друг к другу. Иван был чуть повыше, а этот был чуть плотнее. И они оба были в одинаковых черных сатиновых плавках, которые продавались в здешнем «Курортторге».
– Товарищ Еремеев? – спросил тот.
И, со щелчком стянув с головы резиновый шлем, тряхнул седой шевелюрой.
– Товарищ Хохлов?..
Теперь и Иван узнал лихого пловца. Они ведь не раз встречались. Там, на Севере. В первый раз они встретились еще в ту пору, когда Иван был заключенным и его бригада пробурила скважину на Лыже, из скважины ударил нефтяной фонтан, и по этому случаю состоялся митинг, на котором ему, Ивану, довелось держать речь вслед за самим Хохловым. А потом он еще не раз видел его на таежных буровых, и в базовом городе, и на разных там собраниях-совещаниях.
Ивану даже сделалось крайне неловко оттого, что не он первый узнал товарища Хохлова, главного геолога, а именно главный геолог раньше признал его, Ивана Еремеева, рядового бурмастера, которых в комбинате было, может, и сто.
Но, впрочем, они встретились теперь на ничейной курортной земле, где все равны, к тому же Иван уже не работал в нефтяном комбинате. И они оба стояли на берегу одинаково голые, на них обоих были совершенно одинаковые сатиновые плавки со шнуровкой на боку.
К тому же главный геолог Платон Андреевич Хохлов вовсе не давал ему понять, что обижен, а наоборот даже, вроде ему самому было очень приятно лишний раз убедиться, какая у него цепкая и еще молодая безошибочная память, и вообще, судя по всему, он душевно обрадовался, встретив здесь, в открытом южном море, северного знакомца.
Он крепко пожал Ивану руку. Потом огляделся, поискал свободный пятачок, нашел невдалеке, и оба с награждением улеглись животами на горячую гальку.
Тотчас выяснилось, что жили они в соседних санаториях, и приехали сюда в один и тот же день, и путевки у и их были на один и тот же срок.
– Значит, вместе махнем домой? – ликовал Хохлов. – И закажу билеты на обоих, хотите? Самолетом?
Ивану вдруг показалось, что этому человеку здесь, так же как и ему, не шибко повезло с компанией, что он тут тоже вкусил неприятного одиночества и потому столь откровенно радовался встрече. Ивана это очень удивило, так как ему казалось, что такой человек, как Платон Андреевич Хохлов, никогда не может испытывать недостатка в дружках, вокруг такого большого человека всегда должны увиваться люди.
– Так ведь мне не туда, Платон Андреевич… – вроде бы извиняясь, сказал Иван.