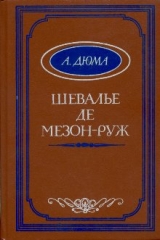
Текст книги "Шевалье де Мезон-Руж (другой перевод)"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
Глава XV
Богиня Разума
Как сказали накануне генералу Сантерру, Морис действительно был серьезно болен.
С тех пор как больной не выходил из своей комнаты, Лорэн регулярно навещал его и делал все возможное, чтобы хоть как-то развлечь друга. Морису по-прежнему нездоровилось. Есть такие болезни, когда не хотят поправляться.
Первого июня Лорэн пришел около часа.
– Что за праздник сегодня? – поинтересовался Морис. – Ты просто великолепен.
И действительно, на Лорэне был костюм, строго соответствующий времени: красный колпак, якобинская куртка и трехцветный пояс, украшенный игрушками, которые называются пистолетами.
– Вначале, – сказал Лорэн, – будет разгром Жиронды, которая уже доживает Последние часы, о чем извещает барабанный бой. Сейчас, например, на площади Каррусель уже готовят ядра для пушек. Затем, послезавтра, состоится большое торжество, на которое я тебя приглашаю.
– А что сегодня? Ты ведь сказал, что зашел за мной?
– Ах да! Сегодня у нас репетиция.
– Какая репетиция?
– Репетиция большого торжества.
– Мой дорогой, – сказал Морис, – ты ведь знаешь, что я, никуда не выхожу уже целую неделю и, следовательно, ничего не знаю. Нужно, чтобы ты мне всё объяснил.
– Как! Разве я тебе ничего не говорил?
– Ничего.
– Ну, прежде всего, ты уже знаешь, что мы некоторое время назад упразднили старого Бога и заменили его новым.
– Да, знаю.
– А теперь, кажется, все заметили, что новое божество – умеренный, роландист и жирондист.
– Лорэн, хватит святотатствовать. Ты же знаешь, я это не люблю.
– Мой дорогой, чего же ты хочешь? Нужно жить в своем времени. Я ведь тоже любил его, этого прежнего Бога, хотя бы потому, что я к нему привык. Ну, а, что касается нового божества, то он действительно виновен, потому что с тех пор, как он на небесах, все идет вкривь и вкось, ну и, наконец, наши законодатели подписали декрет о своем отказе от власти…
Морис пожал плечами.
– Можешь пожимать плечами сколько угодно.
– Ну что же, – продолжал Лорэн, – пойдем, полюбуешься богиней Разума.
– Зачем ты впутываешься во все эти маскарады? – спросил Морис.
– Друг мой, если бы ты знал богиню Разума так, как знаю ее я, ты бы стал одним из самых ярых ее приверженцев. Я хочу вас познакомить, я представлю тебя ей.
– Оставь меня в покое с твоими глупостями. Мне грустно, и ты это прекрасно знаешь.
– Тем более, черт возьми! Она хоть немного тебя развеселит, это хорошая девушка… Да ты ведь ее знаешь, эту суровую богиню, которую парижане собираются украсить лавровыми венками и возить в позолоченной повозке! Это… угадай…
– Ну, как я могу угадать?
– Это Артемиза.
– Артемиза? – переспросил Морис, пытаясь вспомнить, что у него связано с этим именем.
– Ну, высокая брюнетка, с которой я познакомил тебя в прошлом году, на балу в Опере. Ты потом еще пошел с нами ужинать.
– А, да, действительно, – ответил Морис, – теперь припоминаю. Так это она?
– Да, у нее больше всех шансов получить этот титул. Я представил ее на конкурс, все фермопилы обещали мне отдать за нее свои голоса. Через три дня состоится конкурс, а сегодня – подготовительный обед. Сегодня мы будем разливать шампанское, а послезавтра, возможно, будем разливать кровь? Но пусть разливают, что хотят, Артемиза станет богиней, черт меня побери! Итак, пойдем, примерим ей тунику.
– Благодарю, но у меня всегда было отвращение к подобным вещам.
– Одевать богинь? Черт возьми, дорогой мой! С тобой очень нелегко. Хорошо, если это может тебя развеселить, то я буду надевать на нее тунику, а ты – снимать.
– Лорэн, я болен. Я не только не могу сам веселиться, но мне плохо и от веселья других.
– Ты меня просто пугаешь, Морис: ты больше не дерешься, не смеешься. Ты, случайно, не участвуешь в каком-нибудь заговоре?
– Не выдумывай, Лорэн. Оставь меня в покое. Я не могу и не хочу никуда идти. У меня постельный режим, я остаюсь.
Лорэн почесал за ухом.
– Я вижу в чем тут дело, – сказал он.
– Что же ты видишь?
– Я вижу, что ты ждешь богиню Разума.
– Черт возьми, – разозлился Морис, – очень тягостно иметь таких остроумных друзей. Уходи, или я осыплю проклятьями и тебя, и твою богиню…
– Давай, осыпай…
Но стоило Морису поднять руку, чтобы усилить слова жестом, как вошел слуга и протянул ему письмо.
– Гражданин Ажесилас[42]42
Ажесилас – король Спарты 397–360 г. до н. э., спас родину от нашествия врагов. Употребляется как символ патриотизма.
[Закрыть], ты входишь в самый неподходящий момент, – воскликнул Лорэн. – Именно сейчас твой хозяин собирался проявить себя во всем великолепии.
Морис опустил руку и с полным безразличием потянулся за письмом. Но стоило ему лишь коснуться конверта, как он вздрогнул, с жадностью поднес письмо к глазам, пожирая взглядом и почерк, и печать. Побледнев так, что, казалось, сейчас последует обморок, он распечатал конверт.
– О! – прошептал Лорэн. – Вот, кажется, и у тебя пробуждается интерес к жизни.
Но Морис больше его не слушал, целиком погрузившись в эти несколько строк, написанных Женевьевой. Прочитал их раз, потом перечитал два, три, четыре раза. Потом он вытер лоб и уронил руку с видом ошалевшего человека.
– Черт побери! – закричал Лорэн. – Кажется, пришло письмо с хорошими известиями?
Морис в пятый раз перечитал текст, и вновь румянец окрасил его лицо. Иссохшие глаза вновь увлажнились, глубокий вздох расширил грудь, и Морис, позабыв о болезни и слабости, выпрыгнул из кровати.
– Одежду! – крикнул он удивленному слуге. – Мою одежду, дорогой Ажесилас. О, Лорэн, мой добрый Лорэн, я ведь ждал это письмо каждый день, но, по правде говоря, уже не надеялся. Так, белые штаны, рубашка с жабо. Сейчас же бриться и причесываться!
Слуга бросился выполнять приказания Мориса.
– О! Вновь увидеть ее! – воскликнул молодой человек. – Лорэн, ведь до сих пор я не знал, что такое счастье.
– Бедный Морис, – заметил Лорэн, – мне кажется, тебе надо сделать то, что я тебе посоветовал.
– О, дорогой друг, – опять воскликнул Морис, – прости меня, но сейчас я совсем потерял голову.
– Возьми мою, – смеясь ответил Лорэн, довольный своей шуткой.
Морис тоже рассмеялся, и другу было удивительно вновь слышать его смех.
Счастье вновь вернуло ему чувство юмора.
Но это было еще не все.
– Вот возьми, – сказал он, протягивая цветущую ветку апельсинового дерева, – передай от моего имени этот цветок достойной вдове Мавзола[43]43
Имеется в виду Артемиза. Артемиза – королева одного из древних государств в Малой Азии, проживала в Галикарнассе; построила для своего умершего супруга Мавзола роскошную усыпальницу, являющуюся одним из семи чудес света. Ее имя используют как символ супружеской верности. (От имени Мавзола происходит слово мавзолей).
[Закрыть].
– Вот так галантность! – воскликнул Лорэн. – Прощаю тебя, потому мне кажется, что ты влюблен, а я всегда с глубоким почтением отношусь к большим несчастьям.
– Да, я влюблен, – проговорил Морис, сердце которого разрывалось от захлестнувшего его счастья. – Да, я влюблен и теперь знаю, что она меня тоже любит. Если бы она меня не любила, то не позвала бы, не так ли, Лорэн?
– Согласен, – ответил обожатель богини Разума. – Но то, как ты воспринимаешь подобные вещи, меня просто пугает.
– Браво! Браво! – закричал Морис, хлопая в ладоши.
Он бросился к лестнице, перепрыгивая через четыре ступени, выбежал на улицу и устремился в знакомом направлении – на старинную улочку Сен-Жак.
– Это он мне аплодировал, как ты думаешь, Ажесилас? – спросил Лорэн.
– Да, конечно, гражданин, и в этом нет ничего удивительного, то, что вы прочли, было очень красиво.
– В таком случае он болен еще сильнее, чем я думал, – заметил Лорэн.
И в свою очередь он спустился по лестнице, только более спокойно. Ведь Артемиза не была Женевьевой.
Едва Лорэн с цветущей веткой апельсинового дерева вышел на улицу Сент-Оноре, как толпа молодых граждан почтительно проследовала за ним, несомненно принимая его за одного из тех добродетельных молодых людей, которым Сен-Жюст[45]45
Сен-Жюст Луи-Антуан Флорель (1767–1794) – один из виднейших деятелей французской революции; был членом Конвента и Комитета общественного спасения; якобинец, друг Робеспьера; после переворота 9 термидора был казнен.
[Закрыть] предлагал носить белые одежды и ходить, держа в руке флер-доранж.
Этот эскорт разрастался, поскольку в то время добродетельного молодого человека можно было встретить весьма редко.
И вся процессия была свидетелем того, как цветы были преподнесены Артемизе. Это был знак внимания, от которого остальные претендентки на титул богини Разума сделались просто больными.
В этот же вечер по Парижу распространилась известная теперь кантата:
Да здравствует богиня Разума!
Ясное пламя и мягкий твой свет.
И поскольку эта кантата дошла до нас без имени ее автора, установление которого потребует от исследователей этого периода истории Франции большой настойчивости, мы возьмем на себя смелость утверждать, что она была сочинена для прекрасной Артемизы нашим другом Гиацинтом Лорэном.
Глава XVI
Блудный сын
Даже если бы у него за спиной выросли крылья, Морис не смог бы бежать быстрее.
Улицы были заполнены народом, но Морис замечал толпу только потому, что она замедляла его бег. Говорили, что Конвент осажден, что большинство народа недовольно им, что депутатов не выпускают из здания. Очевидно, в этих слухах была доля истины, поскольку гремела барабанная дробь и слышались пушечные выстрелы.
Но что значили в этот момент для Мориса и пальба, и удары набата? Что ему до того, что депутаты не могут выйти из здания? Он несся со всех ног.
На бегу он представлял, как Женевьева ждет его у окна, выходящего в сад, чтобы еще издалека, только заметив его, послать свою самую очаровательную улыбку.
Несомненно и Диксмера предупредят о его счастливом возвращении, и он протянет Морису свою мягкую большую руку для преданного и искреннего рукопожатия.
В этот день он любил Диксмера, любил даже Морана с его черными волосами и зелеными очками, под которыми угадывался неискренний взгляд.
Он любил всех, потому что был счастлив. Он охотно осыпал бы всех встречных цветами, чтобы и они были счастливы также как он.
Но в своих ожиданиях Морис обманывался, как это обычно бывает с девятнадцатью из двадцати слушающих только голос своего сердца.
Вместо того, чтобы ждать Мориса с самой нежной улыбкой, Женевьева дала себе обещание встретить его холодной вежливостью. Это был слабый заслон, который она хотела поставить бурному потоку, бушевавшему в ее сердце.
Она поднялась в свою комнату на втором этаже и решила спуститься, только когда ее позовут.
Увы! Она тоже обманывала себя.
Не обманывался только Диксмер, он ждал появления Мориса за оградой и иронично улыбался.
Что же касается гражданина Морана, то он, как всегда, был занят своими делами.
Морис толкнул маленькую дверь, которая вела в сад. Как и раньше прозвонил колокольчик, извещая о его приходе.
Стоящая у закрытого окна Женевьева вздрогнула.
Она опустила занавеску, которую держала чуть отодвинутой.
Первое, что ощутил Морис, вернувшись в этот дом, было разочарование. Женевьева не только не ждала его у окна на первом этаже, но и войдя в салон, где они расстались, он не обнаружил ее и с горечью про себя отметил, что за три недели отсутствия стал здесь чужим.
Его сердце сжалось.
Морис увидел Диксмера. Тот подбежал к нему со словами радости.
Тогда появилась и Женевьева, которая перед этим долго хлопала себя по щекам, чтобы вызвать прилив крови. Но ей не удалось даже дойти до конца лестницы, как весь этот искусственный румянец исчез, отхлынув к сердцу.
Морис заметил, как Женевьева появилась в дверном проеме, он приблизился к ней, чтобы поцеловать руку. Вот тогда-то он и заметил, как изменилась молодая женщина.
В свою очередь, она с ужасом отметила его худобу и лихорадочный блеск глаз.
– Ну вот и вы, сударь? – произнесла она с волнением, которое ей не удалось скрыть.
А ведь она обещала себе, что при встрече будет говорить безразличным тоном: «Здравствуйте, гражданин Морис. Почему вы так редко бываете у нас?»
Но произнесенное ею приветствие показалось Морису холодным.
Диксмер сразу прекратил эти затянувшиеся взаимные разглядывания, приказав подать обед. Было около двух часов.
В столовой Морис заметил, что его прибор тоже был на столе.
Пришел и гражданин Моран, одетый в коричневый костюм. У нет были все те же очки с зелеными стеклами, те же пряди черных волос и то же белое жабо. Морис держался миролюбиво и всем присутствующим внушал гораздо меньше опасений, так как был у них перед глазами, а не находился где-то в отдалении.
Ну какова была вероятность того, что Женевьева любила этого маленького химика? Нужно быть очень влюбленным, а следовательно сумасшедшим, чтобы придумать этакую нелепость.
Да и момент для ревности был явно неподходящим. В кармане у Мориса лежало письмо от Женевьевы, и сердце его, прыгая от радости, казалось куда-то падает.
Женевьева вновь обрела спокойствие. У женщин есть такая особенность: настоящее почти всегда может стереть у них следы прошлого и угрозы будущего.
Женевьева почувствовала себя счастливой и овладела собой, то есть стала спокойной и холодной, несмотря на ее приветливость при встрече. Этот нюанс ее поведения Морис так и не смог понять. Лорэну легче, он, наверняка, нашел бы какое-нибудь объяснение в творениях своих любимых авторов.
Разговор зашел о богине Разума. Падение жирондистов и рождение нового культа, который все небесное наследство передавал в женские руки – эти два события были главными на этот день. Диксмер утверждал, что он бы не рассердился, если бы честь быть богиней Разума была бы оказана Женевьеве. Морис хотел было рассмеяться, но Женевьева оказалась того же мнения, что и ее муж. Морис, глядя на них, поразился, что дух патриотизма затмил даже трезвый ум Диксмера и повлиял на поэтическую натуру Женевьевы.
Моран развивал мысль о роли женщины в политике, вспоминая деятельность Теруань де Мерикур[46]46
Теруань де Мерикур (1762–1817) – героиня французской революции, активно участвовала во взятии Бастилии и в восстании 10 августа. Ее называли «Амазонка Свободы».
[Закрыть], героини событий 10 августа и мадам Ролан[47]47
Ролан Манон (1754–1793) – жена жирондиста Ролана, высокообразованная, женщина, знаток литературы и искусства, хозяйка знаменитого в Париже салона. Имела большое влияние на ход политических событий. Неневисть монтаньяров привела ее на эшафот.
[Закрыть], которая была душой Жиронды. Затем он метнул несколько словесных стрел против женщин из народа, участвовавших в заседаниях Конвента. Эти слова заставили Мориса улыбнуться. А ведь это были злые насмешки над женщинами-патриотками, которым впоследствии придумали отвратительное название – лакомки гильотины.
– Гражданин Моран, – остановил его Диксмер, – давайте-ка уважать патриотизм, даже когда он заблуждается.
– А я считаю, – произнес Морис, – что касается патриотизма, то женщины всегда в достаточной мере патриоты, если, конечно, они не слишком аристократичны.
– Вы правы, – ответил Моран, – но я открыто заявляю, что считаю женщину достойной презрения, если она приобретает мужские манеры, а мужчину – подлецом, если он оскорбляет женщину даже в том случае, если женщина его заклятый враг.
Моран очень естественно подвел Мориса к этой деликатной теме. Морис утвердительно кивнул головой. Полемика была начата, и Диксмер добавил:
– Минуточку, минуточку, Моран, надеюсь, вы исключите тех женщин, которые являются врагами нации?
После этого замечания несколько минут стояла тишина…
И эту тишину нарушил именно Морис.
– Не будем исключать никого, – грустно сказал он. – Женщины, которые были врагами нации, уже сегодня достаточно наказаны, как мне кажется.
– Вы говорите об узницах Тампля? Об Австриячке, о сестре и дочери Капета? – произнес Диксмер такой скороговоркой, что лишил свою фразу всякого выражения.
Моран побледнел в ожидании ответа молодого республиканца, остальные пребывали в таком же напряжении – ведь они придавали ответу огромное значение.
– Да, я говорю именно о них, – пояснил Морис.
– Как! – сдавленным голосом сказал Моран. – Так это правда, что о них говорят, гражданин Морис?
– А что говорят? – спросил молодой человек.
– Что с ними жестоко обращаются как раз те, чей долг их защищать.
– Есть такие, кто недостоин называться мужчиной. Есть неспособные сражаться подлецы, которым нужно мучить побежденных для того, чтобы убедить самих себя в том, что они – победители.
– О! Вы совсем не из таких, Морис, я в этом абсолютно уверена, – воскликнула Женевьева.
– Сударыня, – ответил Морис, – во время казни короля я должен был убить каждого, кто захотел бы спасти его. И тем не менее, когда он проходил мимо меня, я невольно снял шляпу и, повернувшись к своему отряду, сказал: «Граждане, я вас предупреждаю, что изрублю всякого, кто посмеет оскорбить бывшего короля!»
– И после этого предупреждения не последовало ни одного возгласа. Кстати, я собственноручно написал первое из десяти тысяч объявлений, которые были расклеены по Парижу, когда король возвращался из Варенны:
«Кто поклонится королю – будет избит,
Кто оскорбит его – будет повешен.»
– Итак, – продолжал Морис, не замечая, какой потрясающий эффект произвели на присутствующих его слова, – я в достаточной мере доказал, что являюсь истинным патриотом, что ненавижу королей и их сторонников. И я заявляю, что несмотря на мои взгляды, а они основаны на глубоких убеждениях, несмотря на то, что считаю Австриячку виновной в большей части тех бед, которые приносят горе Франции, никогда ни один мужчина, кто бы он ни был, будь это даже сам Сантерр, не оскорбит бывшую королеву в моем присутствии.
– Гражданин, – перебил его Диксмер, покачав головой, как сделал бы человек, не одобряющий подобной смелости, – знаете, вам нужно быть очень уверенным в нас, чтобы говорить подобное.
– Я могу сказать это перед вами и перед кем угодно, Диксмер. Еще добавлю: она, может быть, погибнет на эшафоте также, как и ее муж, но я не из тех, кому женщина внушает страх, я соблюдаю законы человечности по отношению к тем, кто слабее меня.
– А королева, – робко спросила Женевьева, – показывала ли она как-нибудь, мсье Морис, что она ценит вашу порядочность по отношению к ней?
– Узница неоднократно благодарила меня за проявленное уважение, сударыня.
– Выходит, она с удовольствием ждет, когда же наступит ваше дежурство?
– Надеюсь на это, – ответил Морис.
– Тогда значит, – произнес Моран, дрожа, – вы и детей не мучаете?
– Я? – воскликнул Морис. – Спросите у этого подлого сапожника Симона, как тяжела моя рука, он это хорошо прочувствовал, когда посмел бить молодого Капета.
Этот ответ произвел за столом Диксмера самопроизвольное движение: все собравшиеся почтительно встали.
Только Морис продолжал сидеть ц даже не подозревал, что явился причиной этого порыва восхищения.
– А в чем дело? – с удивлением спросил он.
– Мне показалось, что позвали из мастерской, – ответил Диксмер.
– Нет, нет, – отозвалась Женевьева, – мне тоже так показалось, но мы ошиблись.
И все снова заняли свои места.
– Так это, значит, о вас говорят, гражданин Морис? – спросил Моран дрожащим голосом. – Так это, значит, вы тот гвардеец, кто так благородно защитил ребенка?
– А разве об этом говорят? – наивно спросил Морис.
– Вот оно, благородное сердце, – сказал Моран, поднимаясь из-за стола, чтобы больше не проявить случайно своих чувств. Он направился в мастерскую, как будто там его ждала срочная работа.
– Да, гражданин, об этот говорили, – ответил Диксмер, – и смею заметить, что все мужественные и благородные люди восхищались вами, даже не зная вас.
– И оставим его неизвестным, – сказала Женевьева. – Это очень опасная слава.
Итак, в этой беседе каждый высказал свое отношение к героизму, самопожертвованию и чувствительности, вплоть до признания в любви.
Глава XVII
«Горняки»
Когда обед был закончен, Диксмеру доложили, что в кабинете его ожидает нотариус. Он извинился перед Морисом, с которым именно так он обычно и расставался, и направился к себе.
Речь шла о приобретении небольшого дома на улице Кордери, напротив сада у башни Тампль. Диксмер скорее покупал место, а не полуразрушенный дом, который намеревался восстановить.
Поэтому его владелец почти не торговался. В то же утро нотариус встретился с ним, и они сошлись на цене в девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят ливров. Оставалось только подписать купчую и выдать сумму в обмен на это строение. Владелец должен был полностью освободить дом в тот же день, а на следующий – рабочие должны были приступить к его реставрации.
Купчая была подготовлена, Диксмер и Моран направились на улицу Кордери вместе с нотариусом, чтобы тотчас же осмотреть новое приобретение, ведь они покупали дом без предварительного осмотра.
Это строение находилось неподалеку от того места, где сейчас находится дом № 20, было оно четырехэтажным, с мансардой. Нижний этаж раньше сдавали виноторговцу, поэтому под домом находились великолепные подвалы.
Их-то особенно и расхваливал владелец, потому что подвалы были своеобразной достопримечательностью дома. Диксмер и Моран, казалось, не обратили на подвалы особого внимания, но тем не менее оба из любезности вместе с домовладельцем спустились и осмотрели то, что он называл подземельем.
Хозяин дома нисколько не преувеличивал, подвалы действительно были великолепны. Один из них находился под улицей Кордери. Было слышно, как наверху по мостовой проезжали экипажи.
Казалось, Диксмер и Моран не заинтересовались этим роскошным подземельем и даже поговорили между собой о том, чтобы засыпать его. Ведь то, что было необходимо торговцу вином, было абсолютно ни к чему двум добропорядочным буржуа, рассчитавшим занять весь дом.
Осмотрев подвалы, они поднялись на второй этаж, потом на третий и на четвертый. С четвертого сад Тампля был весь как на ладони, по нему разгуливал караул из муниципальной гвардии, получивший эту территорию для своих нужд с тех пор, как члены королевской семьи сюда не выходили.
Диксмер и Моран увидели также вдовушку Плюмо, как всегда суетившуюся у своего кабачка. Сами же они, конечно, не хотели, чтобы она их тоже узнала, поэтому стали у окна позади хозяина, который расхваливал очередную достопримечательность этого дома.
Покупатель захотел осмотреть мансарду.
Владелец дома не ожидал этого, и у него не оказалось с собой ключей. Однако, при виде продемонстрированной ему пачки ассигнаций тотчас же отправился за ними вниз.
– Я не ошибся, – сказал Моран, – этот дом как нельзя лучше подходит для нашего дела.
– А что вы скажете о подвалах?
– Это просто помощь Провидения, которое сократит нашу работу на два дня.
– Вы уверены, что подвалы тянутся в сторону кабачка за стенами Тампля?
– Они отклоняются немного влево, но это не страшно.
– Каким же образом, – спросил Диксмер, – вы станете продвигаться под землей в нужном направлении?
– Будьте спокойны, дорогой друг, я уже подумал об этом.
– А если мы отсюда подадим королеве условный знак?
– Она не сможет увидеть его со своей площадки. Только мансарда может находиться на нужном уровне, да и то я пока сомневаюсь. Надо посмотреть.
– Неважно, – ответил Диксмер, – Тулан или Мони смогут увидеть наш сигнал откуда-нибудь и предупредят Ее Величество.
Диксмер завязал на ситцевой занавеске несколько узлов и выставил ее из окна, словно занавеску выдуло ветром.
Потом оба, будто бы им не терпелось осмотреть мансарду, подошли к лестнице и стали ждать владельца дома. Уходя, они закрыли дверь четвертого этажа, чтобы владельцу не пришло в голову убрать обратно в комнату развевающуюся занавеску.
Мансарда, как и предвидел Моран, оказалась ниже уровня верхней площадки Тампля. Это было одновременно и трудностью, и преимуществом: трудность заключалась в том, что нельзя было продолжать общаться с королевой с помощью условных знаков, а преимуществом же было то, что отсутствие этой возможности исключало всякое подозрение.
Ведь за высокими домами наблюдали особо.
– Надо бы через Мони, Тулана или дочь Тизона как-то сообщить королеве, чтобы она была начеку, – прошептал Диксмер.
– Я подумаю об этом, – ответил Моран.
И они спустились вниз, где в салоне их ожидал нотариус с приготовленной купчей.
– Хорошо, – сказал Диксмер, – дом мне подходит. Отсчитайте гражданину 19 тысяч 550 ливров, и пусть он ставит свою подпись.
Владелец дома тщательно пересчитал деньги и расписался.
– Тебе известно, гражданин, – сказал Диксмер, – мое главное условие? Дом должен быть освобожден сегодня, потому что завтра сюда придут мои рабочие.
– Да, конечно, гражданин. Ты можешь взять ключи. Сегодня вечером, к восьми часам, дом будет абсолютно пуст.
– Извини, – сказал Диксмер, – но нотариус говорил, что из дома есть также выход на улицу Порт-Фуэн?
– Да, гражданин, есть, – ответил домовладелец, – но я его закрыл, потому что у меня один слуга, ему трудно следить сразу за двумя входными дверьми. Если поработать там пару часов, то и ту дверь можно будет прекрасно использовать. Хотите в этом убедиться?
– Спасибо, не стоит, – ответил Диксмер, – мне совершенно не нужна та дверь.
И они удалились, в третий раз напомнив владельцу, что тот обещал освободить дом к восьми часам вечера.
Они вернулись в девять. За ними на некотором расстоянии следовали человек пять-шесть, на которых при общем беспорядке, царившем в Париже, никто не обратил внимания.
Сначала они вошли в дом вдвоем: бывший владелец сдержал слово, дом был абсолютно пуст.
Ставни были тщательно закрыты. Высекли огонь и зажгли свечи, которые захватил с собой Моран.
Затем в дом, один за другим, вошли сопровождавшие их мужчины. Это оказались контрабандисты, которые однажды вечером хотели убить Мориса, а впоследствии стали его друзьями.
Заперли двери и спустились в подвал.
И вот подвал, на который днем совсем не обращали внимания, вечером стал самой важной частью всего дома.
Сначала закрыли все отверстия, через которые любопытный взгляд мог проникнуть внутрь.
Потом Моран перевернул пустую бочку, взял лист бумаги и стал чертить на нем карандашом геометрические фигуры.
А в это время его товарищи с Диксмером вышли из дома, прошли на улицу Кордери, туда, где она пересекается с улицей Бос и остановились у закрытого экипажа.
В этом экипаже находился человек, который молча выдал каж дому шанцевые инструменты: одному – заступ, другому – кирку, третьему – лопату, четвертому – мотыгу. И каждый спрятал полученный инструмент под широким плащом. «Горняки» опять направились к дому, а экипаж исчез.
Моран закончил свои расчеты. Он встал прямо в углу подвала.
– Копайте здесь, – сказал он.
И спасители королевы тотчас же принялись за работу.
Положение узниц Тампля становилось все более тяжелым и мучительным. Какое-то время у королевы, мадам Елизаветы и принцессы была небольшая надежда. Гвардейцы из муниципальных войск Тулан и Лепитр сочувствовали августейшим узницам и проявляли к ним внимание. Сначала не привыкшие к этому бедные женщины им не доверяли. Но разве можно не доверять, когда надеешься? Да и что еще могло случиться с королевой, которая была разлучена с сыном тюрьмой, а с мужем смертью? Погибнуть на эшафоте, как он? Она уже думала об этом и свыклась с этой мыслью.
Когда в первый раз дежурили Тулан и Лепитр, королева спросила у них, действительно ли они интересуются ее судьбой и попросила подробнее рассказать о гибели короля. Это было грустное испытание, которому она подвергла их сочувствие.
Королева попросила принести ей газеты, в которых рассказывалось о казни. Лепитр пообещал захватить их с собой в следующий раз, их смена была через три недели.
Пока был жив король, в Тампле дежурили четыре гвардейца из муниципалитета. После смерти короля гвардейцев стало трое: один дежурил днем, а двое – ночью. Тулан и Лепитр придумали хитрость, благодаря которой всегда дежурили вместе по ночам.
Часы дежурства обычно распределялись по жребию: на одной бумажке писали «день», а на двух других – «ночь», бросали в шляпу, а затем гвардейцы по очереди вытаскивали их. Таким образом случай определял время дежурства.
Каждый раз, когда дежурили Лепитр и Тулан, они на всех трех бумажках писали «день» и предлагали третьему гвардейцу тянуть жребий. Тот испытывал судьбу, и, конечно же, на его бумажке всегда было написано, что он должен дежурить днем. Тулан и Лепитр брали оставшиеся бумажки и тихонько ворчали, что им всегда достается самое неприятное для дежурства время, то есть ночь.
Когда королева убедилась в их добром отношении, то наладила через них связь с шевалье де Мезон-Ружем. Но тогда попытка освобождения не удалась. Королева и мадам Елизавета должны были бежать, переодевшись в офицеров муниципальной гвардии, их должны были обеспечить пропусками. Что же касается детей королевы, принцессы и дофина, то для их похищения был придуман другой план. Служитель, который зажигал в Тампле масляные лампы, всегда приводил с собой двоих детей, которые были такого же возраста, что и принц с принцессой. Один из заговорщиков, Тюржи, должен был одеть костюм этого служителя и вывести королевских детей.
А теперь несколько слов об этом Тюржи.
Это был старый лакей, который обычно прислуживал королю за столом, он был переведен в Тампль из Тюильри вместе с несколькими слугами, потому что на первых порах стол короля был просто роскошен. В первый месяц заключения он стоил нации в 30–40 тысяч франков.
Но можно легко догадаться, что подобная расточительность не могла продолжаться долго. Коммуна издала приказ. Из Тампля отослали поваров, кухарок и поварят. Оставили только одного лакея, это и был Тюржи. Вполне естественно, что Тюржи был посредником между узницами и их сторонниками, потому что имел право выходить из Тампля, а стало быть, мог относить записки и приносить ответы.
Обычно эти ответы были скручены и спрятаны в пробки графинов с миндальным молоком, которые приносили королеве и мадам Елизавете. Они были написаны с помощью лимонного сока и становились видимыми, только когда их подносили к огню.
Все было готово для побега, но однажды Тизон раскурил свою трубку с помощью пробки от графина. По мере того, как бумага горела, он стал замечать проявляющийся на ней текст. Тизон потушил наполовину сгоревшую бумагу и принес ее остатки в Совет Тампля. Там ее поднесли к огню, но прочитать могли лишь обрывки слов, поскольку другая половина записки превратилась в пепел.
Опознали почерк королевы. Тизона допросили, и он рассказал, что со стороны Лепитра и Тулана, по его мнению, наблюдается в отношении узницы попустительство. На гвардейцев донесли в муниципалитет, и они больше в Тампле не появлялись.
Оставался Тюржи.
Но подозрительность достигла высшей точки. Его никогда не оставляли с принцессами наедине. Всякое сношение с внешним миром сделалось невозможным.
В один из дней мадам Елизавета отдала Тюржи маленький ножичек с золотым лезвием, которым она пользовалась, разрезая фрукты, чтобы он его почистил. У Тюржи появились кое-какие догадки, и во время чистки он отделил ручку. Внутри лежала записка.
В этой записке был перечень условных знаков.
Тюржи протянул нож мадам Елизавете, но находившийся поблизости гвардеец вырвал его и внимательно осмотрел, также отделив ручку от лезвия. К счастью, записки там не было. Но гвардеец тем не менее конфисковал нож.
Это было как раз в то время, когда неутомимый шевалье де Мезон-Руж мечтал о повторной попытке и собирался осуществить задуманное с помощью дома, который только что приобрел Диксмер.
Мало-помалу узницы потеряли надежду на спасение. В этот день королева была напугана криками, доносящимися с улицы. Она поняла, что обвиняли жирондистов, которые были последним оплотом умеренности. И от всего этого королеву охватила смертельная тоска. Если не будет жирондистов, то в Конвенте некому будет защищать королевскую семью.








