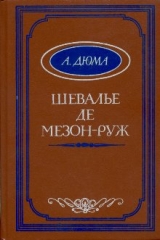
Текст книги "Шевалье де Мезон-Руж (другой перевод)"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
Глава XIII
31 мая
В этот день, вошедший в историю, 31 мая, когда с самого утра слышался гул набата и трубили общий сбор, отряд из предместья Сен-Виктор вошел в Тампль.
После того как все обычные формальности по размещению караула были выполнены, для охраны башни прибыл дежурный из муниципальной гвардии с четырьмя дополнительными орудиями.
В это же время явился и Сантерр в форме с желтыми эполетами, забрызганной жирными пятнами.
Он провел смотр отряда и счел его состояние удовлетворительным, затем пересчитал караульных из муниципальной гвардии, их оказалось трое.
– Почему гвардейцев только трое? – спросил он. – Кто же этот отсутствующий, недостойный называться гражданином?
– Того, кого здесь нет, гражданин генерал, – ответил наш старый знакомый Агрикола, – не обвинишь в умеренности, ведь это секретарь секции Лепеллетье, лидер бравых фермопилов, гражданин Морис Линдей.
– Хорошо, – ответил Сантерр, – я тоже знаю Мориса Линдея как достойного патриота, однако, если он не явится в течение десяти минут, его занесут в списки отсутствующих.
И генерал занялся другими делами.
Во время этой беседы в нескольких шагах находились капитан стрелков и солдат. Один из них опирался на ружье, другой сидел на стволе пушки.
– Вы слышали? – вполголоса спросил капитан солдата. – Морис до сих пор не пришел.
– Да. Но он придет, будьте спокойны.
– Если он не явится, – сказал капитан, – я поставлю вас часовым на лестнице и, когда она поднимется на площадку, вы сможете сказать ей несколько слов.
В это время вошел человек, по трехцветному шарфу которого можно было определить принадлежность к муниципальной гвардии. Но он был незнаком капитану и солдату, поэтому они не сводили с него глаз.
– Гражданин генерал, – обратился незнакомец к Сантерру, – прошу назначить меня вместо гражданина Мориса Линдея. Он болен, вот заключение врача. Мое дежурство через неделю, так что он отдежурит за меня также, как сегодня я за него.
– Да, но только в том случае, если все эти Капеты через неделю будут еще живы, – заметил один из гвардейцев.
Сантерр в ответ на шутку усмехнулся, затем повернулся к ходатаю Мориса.
– Ладно, – сказал он, – иди и запишись вместо Мориса Линдея, но в графе примечаний отметь причину этой замены.
С радостным удивлением капитан и солдат переглянулись.
– Через неделю, – сказали они друг другу.
– Капитан Диксмер, – крикнул Сантерр, – займите вместе с солдатом ваш пост в саду.
– Пойдемте, Моран, – сказал капитан стоявшему рядом стрелку.
Раздалась барабанная дробь, и владелец кожевенных мастерских вместе со своим компаньоном направились в указанное место.
По пути на территории Тампля им встречались группы вооруженных караульных, прохаживающихся по охраняемым участкам.
Их пост находился в саду, где во времена Людовика XVI иногда прогуливалось королевское семейство. Теперь он был запущен и бесплоден, почти без цветов и деревьев.
Шагах в двадцати пяти от части стены, ограждавшей Тампль и выходившей на улицу Порт-Фуэн, находилась хибара, которую муниципальные власти разрешили построить для удобства караульных. В дни, когда им запрещалось покидать Тампль, они могли здесь подкрепиться. Вести хозяйство в этом небольшом кабачке было поручено истинной патриотке, вдове жителя предместья, убитого 10 августа. Ее называли вдовушка Плюмо.
Эта хижина, построенная из досок и самана, располагалась посредине бывшей грядки, о существовании которой напоминали остатки карликовой изгороди из самшита. Состояла она всего из одной комнаты площадью в двенадцать квадратных футов. Под хижиной размещался подвал, в который вели вырубленные прямо в земле ступени. В нем вдовушка Плюмо хранила продукты и напитки, о которых заботилась вместе с дочерью, девочкой лет двенадцати-пятнадцати.
После начала дежурства караульные прохаживались по саду, рассматривали рисунки, патриотическое содержание которых соответствовало подписям, которыми была испещрена стена, окружавшая Тампль. Под рисунком повешенного короля надпись гласила: «Мсье Вето принимает воздушные ванны». Или другой – изображен гильотинированный король и надпись: «Мсье Вето гильотинирован». Другие караульные уже направились к вдовушке Плюмо за информацией гастрономического характера.
Среди них находились и капитан со стрелком, на которых мы уже обратили внимание.
– А, капитан Диксмер, – сказала кабатчица, – заходите. У меня есть для вас превосходное сомюрское вино!
– Благодарю, гражданка Плюмо, но ведь сомюрское, на мой взгляд, ничего не стоит без сыра бри, – ответил капитан, который прежде чем произнести это, внимательно осмотрелся и заметил, что на полках нет именно этого сыра.
– Капитан, как нарочно у меня только что взяли последний кусок этого сыра.
– Ну что ж, – сказал капитан, – нет сыра, не будет и сомюрского, а ведь я хотел угостить не только своего напарника, но и остальных.
– Прошу тебя, капитан, подожди минут пять, я сбегаю к консьержу. Он соперничает со мной, и у него всегда есть этот сыр. Пусть я переплачу, но постараюсь для тебя, потому что ты достойный патриот.
– Да, сходи, – ответил Диксмер, – а мы пока сами спустимся в подвал и выберем вино.
– Будь как у себя дома, капитан.
Вдова Плюмо во весь дух понеслась к домику консьержа, а капитан, взяв свечу, вместе со стрелком спустился в подвал.
– Итак, – осмотревшись, сказал Моран, – подвал идет в сторону улицы Порт-Фуэн, глубина девять-десять футов и каменной облицовки нет.
– А какой грунт?
– Известковый туф. Это все наносная земля, ее несколько раз перекапывали, поэтому нигде нет даже намека на камень.
– Быстрее, – воскликнул Диксмер, – я слышу возвращается хозяйка. Возьми пару бутылок и давай наверх.
Они вылезли из подвала как раз в тот момент, когда вдова вернулась с великолепным сыром бри, который они так настойчиво требовали.
Следом за ней вошли несколько солдат, привлеченных превосходным сыром.
Диксмер выставил двадцать бутылок вина, а гражданин Моран рассказывал о самопожертвовании Куртиуса, бескорыстии Фабрициуса, патриотизме Брута и Кассия. Все оценили эти рассказы, также как и сыр бри, и анжуйское вино, предложенное Диксмером.
Пробило одиннадцать часов. В половине двенадцатого менялись часовые.
– Обычно Австриячка прогуливается с двенадцати до часу, не так ли? – спросил Диксмер у Тизона, который в это время проходил мимо кабачка.
– Точно, с двенадцати до часу. – И он принялся напевать:
В свою очередь поднялась мадам,
Тарам, там там, там там.
Солдаты знали эту грубоватую песенку и встретили ее обычными ухмылками.
Диксмер объявил, что часовые меняются, и теперь их черед стоять на постах до половины второго. Он велел всем поторопиться с завтраком, затем подал знак Морану, чтобы тот взял оружие и, как было условлено, отправился на последний этаж башни, дежурить у той самой будки, в которой прятался Морис, когда заметил подаваемые королеве сигналы из окна дома на улице Порт-Фуэн.
Если бы в момент, когда Моран получил этот приказ, который он так ждал, кто-нибудь взглянул на него, то наверняка отметил бы смертельную бледность его лица, обрамленного черными прядями волос.
Вдруг вокруг Тампля раздался шум, и вдалеке послышались крики и рев.
– В чем дело? – поинтересовался Диксмер у Тизона.
– Да так, мелочи, – ответил тюремщик. – Этот бриссотинский[39]39
Бриссотинцы – от Бриссо. Бриссо Жан-Пьер (1754–1793) – один из вождей партии жирондистов, член Законодательного собрания и Конвента; боролся против якобинцев, казнен по приговору Революционного трибунала.
[Закрыть] сброд перед тем как отправиться на гильотину решил устроить нам небольшой бунт.
Шум становился все более угрожающим. Было слышно, как подкатывали артиллерийские орудия. Мимо Тампля с воплями пробежала толпа:
– Да здравствуют секции! Да здравствует Анрио![40]40
Анрио Франсуа (1761–1794) – якобинец, начальник парижской национальной гвардии 31 мая 1793 г. казнен вместе с Робеспьером.
[Закрыть] Долой бриссотинцев! Долой роландистов![41]41
Ролан Жак-Мари (1734–1793) – член Конвента, жирондист; после событий 31 мая–2 июня 1793 года бежал из Парижа и покончил жизнь самоубийством.
[Закрыть] Долой мадам Вето!
– Хорошо орут! – сказал Тизон, довольно потирая руки, – Пойду открою окно, чтобы мадам Вето могла полностью насладиться любовью, которую питает к ней ее народ.
И он направился к башне.
– Эй, Тизон! – крикнул кто-то мощным голосом.
– Да, генерал, – резко остановившись, ответил тюремщик.
– Сегодня никаких прогулок, – приказал Сантерр. – Узницы не должны покидать своих комнат.
Приказ не подлежал обсуждению.
– Хорошо! – сказал Тизон. – Это прибавит им огорчений.
Диксмер и Моран мрачно переглянулись, потом в ожидании времени теперь уже бессмысленного караула, прогуливались от кабачка до стены, выходящей на улицу Порт-Фуэн. Моран измерял это расстояние шагами – каждый шаг равнялся трем футам.
– Сколько? – спросил Диксмер.
– Шестьдесят или шестьдесят один фут, – ответил Моран.
– И сколько понадобится дней?
Моран задумался, затем тростинкой начертил на песке какие-то геометрические знаки, которые тотчас же стер.
– Не менее семи.
– Морис будет здесь через неделю, – прошептал Диксмер. Итак, за эту неделю обязательно нужно помириться с ним.
Пробило половину двенадцатого. Моран взял ружье и, вздыхая, в сопровождении капрала пошел сменять часового, который прохаживался на верхней площадке башни.
Глава XIV
Самопожертвование
На следующий день после событий, о которых мы рассказали в предыдущей главе, то есть 1 июня, в десять часов утра Женевьева сидела у окна на своем привычном месте. Она спрашивала себя, почему вот уже три недели как дни стали для нее такими грустными, почему они тянутся так медленно, и почему вместо того, чтобы с нетерпением ждать наступления вечера, теперь она ждет его со страхом?
Ночи ее тоже были печальными. А прежде они были прекрасны: она вспоминала прошедший день и мечтала о завтрашнем.
Ее взгляд упал на ящик с чудесными цветами – это были красные гвоздики. Зимой этот ящик стоял в помещении, где под временным арестом оказался Морис, теперь же она перенесла его в комнату, чтобы распустившиеся цветы радовали ее взор.
Это Морис научил ее ухаживать за цветами в этом деревянном ящике. Она сама их поливала, подрезала, подвязывала под руководством Мориса. Во время его визитов ей нравилось показывать ему цветы, которые росли, благодаря их совместному любовному уходу. Но, с тех пор как Морис перестал приходить, за бедными цветами некому было ухаживать, увядающие бутоны желтели, и полузасохшие цветы свисали по обе стороны ящика.
Взглянув на это плачевное зрелище, Женевьева поняла причину своей печали. Ей подумалось, что дружба схожа с цветами, если ее питать своими чувствами, то сердце от этого расцветает, потом какой-нибудь каприз или несчастье срезает эту дружбу на корню, и бедное сердце, жившее этим, сжимается, изнемогающее и увядшее.
Молодая женщина ощутила ужасную тоску. Чувство, которое она хотела побороть в себе и надеялась, что добилась в этом успеха, кричало, что оно умрет только вместе с ее сердцем. Она была в отчаянии – эта борьба становится для нее все невыносимее. Она склонила голову, поцеловала один из увядших бутонов и заплакала.
Ее муж вошел, когда она вытирала глаза.
Но занятый своими мыслями Диксмер не заметил, какую мучительную боль только что перенесла его жена, не обратил внимания на ее покрасневшие веки.
При появлении мужа, Женевьева быстро поднялась, подбежала к нему и повернулась так, чтобы окно оказалось у нее за спиной.
– Ну как? – поинтересовалась она.
– Ничего нового. К ней невозможно приблизиться. Ей ничего невозможно передать, невозможно даже увидеть ее.
– Как! – воскликнула Женевьева. – Это все из-за этого бунта в Париже?
– Да! Именно из-за него надзиратели стали вдвое недоверчивее. Они боятся, что во время всеобщей неразберихи кто-нибудь попытается вновь проникнуть в Тампль. В то время, когда Ее Величество должна была подняться на верхнюю площадку башни, Сантерр отдал приказ, запрещающий прогулку и королеве, и мадам Елизавете, и принцессе.
– Бедный шевалье, он должно быть очень расстроен.
– Узнав, что мы лишились такого шанса, он пришел в отчаяние. Он до такой степени побледнел, что мне пришлось увести его оттуда из боязни, что его состояние может нас выдать.
– Но, – робко спросила Женевьева, – разве в Тампле не было никого из ваших знакомых из муниципальной гвардии?
– Там должен был дежурить один наш знакомый, но он не пришел.
– Кто же это?
– Гражданин Морис Линдей, – сказал Диксмер тоном, которому постарался придать видимость безразличия.
– А почему он не пришел? – спросила Женевьева, в свою очередь делая такое же усилие.
– Он болен.
– Болен?
– Да, и даже серьезно. Вы знаете, что он истинный патриот, и, несмотря на это, вынужден был уступить свое дежурство другому.
– Боже мой, Женевьева, вы теперь осознаете, – продолжил Диксмер, – что он, по всей вероятности, избегает встреч и общения с нами.
– Я думаю, друг мой, – ответила Женевьева, – что вы преувеличиваете сложность ситуации. Мсье Морис может не приходить сюда из-за своих капризов, и не видеться с нами из-за каких-то пустяков, но тем не менее, он нам не враг. Ведь холодность не исключает вежливости, и я уверена, что своим визитом вы прошли половину пути к примирению.
– Женевьева, – сказал Диксмер, – для того, что мы ждем от Мориса, нужна не вежливость, а настоящая глубокая дружба. Эта дружба разбита, и надеяться не на что.
Диксмер глубоко вздохнул, и его лицо, обычно такое безмятежное, омрачилось морщинами.
– Нет, – робко произнесла Женевьева, – если вы считаете, что мсье Морис так нужен в ваших делах…
– Я не представляю успеха без его помощи, – ответил Диксмер.
– Тогда почему вы не попытаетесь еще раз посетить гражданина Линдея?
Ей казалось, что если она назовет молодого человека по фамилии, то ее голос будет менее нежен, чем в том случае, если бы она произнесла его имя.
– Нет, – ответил Диксмер, покачав головой. – Я сделал все, что в моих силах. Новый визит может показаться ему странным и возбудить подозрения. И потом, видите ли, Женевьева, в этом деле я вижу глубже, чем вы: в сердце у Мориса рана.
– Рана? – спросила очень взволнованно Женевьева. – О, Боже! Что вы хотите сказать? Говорите же, друг мой!
– Я хочу сказать, и вы в этом убеждены, также как и я, Женевьева, что причина нашего разрыва с гражданином Линдсем не только каприз.
– Что же еще вы считаете причиной разрыва?
– Возможно гордость, – живо ответил Диксмер.
– Гордость?..
– Да, он оказывал нам честь. По крайней мерс он так думал, этот парижский буржуа, этот полуаристократ, судя по тому как он одевается, полуаристократ, скрывающий свою чувствительность под маской патриотизма. Он оказывал нам честь, этот республиканец, всемогущий в своей секции, в клубе, в муниципалитете, жалуя дружбой фабрикантов-кожевенников. Может, мы не всегда шли ему навстречу, может быть, в чем-то мы забывались?
– Но, – вновь заговорила Женевьева, – если мы не всегда шли ему навстречу или в чем-то забывались, то, мне кажется, ваш визит должен был искупить эту вину.
– Да, но только в том случае, если вина исходила от меня. А если она исходила от вас?
– От меня! Ну, в чем я могла провиниться перед мсье Морисом, друг мой? – удивленно произнесла Женевьева.
– Ах, да кто знает? Но разве не вы первая обвиняли его в капризах? Я возвращаюсь к моей первоначальной мысли. Вы, Женевьева, виновны в том, что не написали Морису.
– Я! – воскликнула Женевьева. – Вы так думаете?
– Я не только в данный момент так думаю, – ответил Диксмер, – я много об этом думал в течение трех недель, пока длится наш разрыв.
– И?.. – робко произнесла Женевьева.
– И считаю этот шаг просто необходимым.
– О нет! – воскликнула Женевьева. – Диксмер, не требуйте от меня этого.
– Вы же знаете, Женевьева, что я никогда и ничего от вас не требую: я только прошу. Вы слышите? Я прошу вас написать гражданину Морису.
– Но… – произнесла Женевьева.
– Послушайте, – перебил ее Диксмер, – или у вас были серьезные причины для ссоры с Морисом, потому что по отношению ко мне он не высказал никаких претензий, или ваша ссора – простое ребячество.
Женевьева ничего не ответила.
– Если эта ссора – ребячество, было бы безумием так ее затягивать. И если даже была серьезная причина, то, исходя из положения, в котором мы сейчас находимся, мы тем более не должны – хорошо поймите это – считаться ни с нашим достоинством, ни с самолюбием. Не будем взвешивать все «за» и «против». Пересильте себя, напишите записку гражданину Морису Линдею, и он вернется.
– Но, – сказала она, – нельзя ли найти другого, менее компрометирующего средства для того, чтобы вернуть полное согласие между вами и мсье Морисом?
– Компрометирующего, так вы сказали? Но, напротив, это как мне кажется, самое естественное средство.
– Но не для меня, друг мой.
– Вы очень упрямы, Женевьева.
– Но согласитесь, что вы сталкиваетесь с моим упрямством впервые.
Диксмер мял в руках носовой платок, которым уже несколько раз вытирал вспотевший лоб.
– Да, – сказал он, – и именно поэтому я очень удивлен.
– Боже мой! – сказала Женевьева. – Диксмер, неужели вы и правда совсем не понимаете причин моего упрямства и хотите заставить меня говорить?
Она уронила голову на грудь, ее руки безвольно повисли вдоль тела.
Диксмер, казалось, сделал над собой неимоверное усилие, взял за руку Женевьеву, заставил ее поднять голову и, посмотрев ей в глаза, рассмеялся. Его смех показался бы Женевьеве крайне неестественным, если бы в тот момент она не была так взволнованна.
Я понял в чем дело, – сказал он, – вы правы, я был слеп. С вашим редкостным умом, дорогая Женевьева, с вашим благородством, вы попались на банальность, вы испугались, как бы Морис не влюбился в вас.
Женевьева почувствовала, как смертельный холод пронзил ее сердце. Эта ирония мужа по поводу любви Мориса, любви неистовой силы, которую, зная характер молодого человека, она ценила и в глубине сердца сама разделяла, боясь признаться в этом самой себе, ошеломила ее. Ей даже не хватало сил взглянуть на мужа. Она чувствовала, что не может что-либо ему ответить.
– Я угадал, не так ли? – продолжал Диксмер. – Но успокойтесь, Женевьева, я знаю Мориса. Это непримиримый республиканец, в сердце которого может быть только одна любовь, любовь к родине.
– Сударь, – воскликнула Женевьева, – вы уверены в том, что сказали?
– Ну, конечно, – ответил Диксмер. – Если бы Морис любил вас, то вместо того, чтобы ссориться с вами, он удвоил бы заботу и предупредительность по отношению к тому, кого намеревался обмануть. Если бы Морис любил вас, он не отказался бы так легко от титула друга дома, с помощью которого и совершают подобные измены.
– Заклинаю вашей честью, – воскликнула Женевьева, – не шутите этим, умоляю Вас!
– А я и не шучу, сударыня. Я говорю, что Морис не любит вас, вот и все!
– А я, – покраснев, воскликнула Женевьева, – говорю вам, что вы ошибаетесь.
– В таком случае, – ответил Диксмер, – Морис, у которого хватило сил скорее удалиться, чем обмануть доверие хозяина, – честный человек. А честные люди теперь редкость, Женевьева, и нужно стараться сблизиться с ними. Женевьева, вы напишете Морису, не так ли?..
– О! Боже мой! – только и произнесла молодая женщина.
И она уронила голову на руки. Тот, на которого она рассчитывала опереться в минуту опасности, вместо того, чтобы поддержать ее, еще и подталкивал к краю пропасти.
Диксмер с минуту смотрел на нее, потом попытался улыбнуться.
– Хватит, дорогая, – сказал он, – не будем больше говорить о женском самолюбии. Если Морис захочет сделать вам какое-то признание, так же как и в первый раз не обращайте на это внимание. Я вас знаю, Женевьева. У вас достойное и благородное сердце. Я уверен в вас.
– О, Боже! – воскликнула Женевьева и, сделав шаг, поскользнулась так, что коленом коснулась пола. – Кто может быть уверен в других, когда никто не уверен в себе самом?
Диксмер побледнел так, что казалось вся кровь отхлынула у него от лица к сердцу.
– Женевьева, – сказал он, – я виновен в том, что заставил вас пройти через все муки, которые вы только что испытали. Я должен был сказать вам сразу: Женевьева, мы живем с вами в эпоху великих пожертвований. Женевьева, ради королевы, нашей благодетельницы, я бы пожертвовал не только рукой, головой, но даже и моим счастьем. Некоторые отдадут за нее свои жизни. Я же сделаю для нее больше, ради нее я рискну своей честью, моя честь, если она будет поругана, будет еще одной слезой, которая упадет в океан печали, готовый поглотить Францию. Но моей чести ничего не угрожает до тех пор, пока ее охраняет такая женщину, как Женевьева.
Диксмер впервые раскрыл себя полностью.
Женевьева подняла голову, взглянула на него полными восхищения глазами, медленно встала и подставила лоб для поцелуя.
– Вы этого хотите? – спросила она.
Диксмер утвердительно кивнул головой., х
– Тогда диктуйте.
И она взяла перо.
– Нет, – сказал! Диксмер, – поскольку он помирится с нами после того, как получит письмо от Женевьевы, то пусть же это письмо и будет от Женевьевы, а не от Диксмера.
Диксмер во второй раз поцеловал жену в лоб, поблагодарил ее и вышел.
И тогда дрожащая Женевьева написала:
«Гражданин Морис!
Вы знаете, как вас любит мой муж. Неужели за эти три недели разлуки, которые нам показались вечностью, вы все забыли? Приходите, мы ждем вас. Ваше возвращение будет для нас настоящим праздником.
Женевьева».








