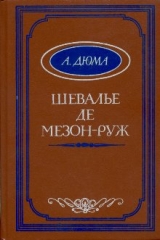
Текст книги "Шевалье де Мезон-Руж (другой перевод)"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
Глава V
На следующий день
Веселые солнечные лучи проникли сквозь зеленые ставни и своим светом золотили листья трех больших розовых кустов, которые росли в деревянных ящиках, стоящих на окне.
Эти цветы сильнее радовали глаз еще и потому, что сезон уже начал подходить к концу, а розы наполняли ароматом маленькую столовую, покрытую плитками, сияющую чистотой, где за накрытой изящно, но без особого изобилия стол, только сели Женевьева и Морис.
На столе было все необходимое, поэтому дверь была закрыта. И само собой разумеется, они сказали слуге:
– Мы обслужим себя сами.
Он что-то делал в соседней комнате, суетясь как слуга у Федры. Тепло и красота последних погожих дней врывались в комнату через полуоткрытые жалюзы, заставляя сверкать золотом и изумрудами листья кустов роз, ласкаемых солнцем.
Женевьева уронила на тарелку фрукт, который держала в руках, и, задумавшись, улыбнулась одними лишь губами, тогда как ее большие глаза выражали меланхолию. Она сидела молчаливо, словно в оцепенении, хотя и была счастлива в солнце любви, как цветы под лучами небесного светила.
Вскоре ее взгляд отыскал глаза Мориса, который, не отрываясь, смотрел на нее и мечтал.
Женевьева положила руку на плечо молодою человека, вздрогнувшего от этого прикосновения. Потом она положила ему на плечо и голову с тем доверием и той непринужденностью, которые порой значат больше, чем слова любви. Не говоря ни слова, Женевьева смотрела на него.
Морису нужно было только слегка наклонить голову, чтобы прикоснуться губами к полуоткрытым губам своей возлюбленной.
Он наклонил голову. Женевьева побледнела и ее глаза закрылись, как лепестки цветка, который скрывает свою чашечку от лучей света.
Так они и пребывали в полузабытьи непривычного счастья, как вдруг резкий звонок заставил их вздрогнуть. Они отстранились друг от друга.
Вошел слуга и с таинственным видом прикрыл дверь.
– Это гражданин Лорэн, – сказал он.
– Так это мой дорогой Лорэн! – воскликнул Морис. – Сейчас я его выпровожу. Извини, Женевьева.
Молодая женщина остановила его.
– Выпроводить вашего друга, Морис, – сказала она, – который помогал вам, поддерживал вас. Нет, я не хочу гнать такого друга из вашего дома и из вашего сердца. Пусть он войдет, Морис, пусть войдет.
– Как, вы позволяете?.. – произнес Морис.
– И даже хочу этого, – ответила Женевьева.
– О! Значит вы находите, что я недостаточно люблю вас, – воскликнул Морис, восхищенный такой деликатностью, – вам хочется, чтобы вас боготворили?
Женевьева склонила свое покрасневшее лицо к молодому человеку. Морис открыл дверь. Вошел Лоран, пригожий, как ясный день, в своем полущегольском костюме. Заметив Женевьеву, он удивился, но удивление тут же сменилось почтительным поклоном.
– Входи, Лорэн, входи, – сказал Морис. – Ты низвергнут с трона, Лорэн: теперь появился кто-то, кого я предпочитаю тебе. Я отдал бы за тебя жизнь, но ради нее, как ты уже знаешь, Лорэн, я пожертвовал честью.
– Сударыня, – сказал Лорэн серьезно, что свидетельствовало о его глубоком волнении, – я постараюсь любить Мориса сильнее, чем вы, чтобы он вообще не перестал любить меня.
– Садитесь, сударь, – улыбаясь, сказала Женевьева.
– Да садись ты, – добавил Морис, справа от которого теперь находился друг, слева – возлюбленная. Его сердце наполнилось тем счастьем, к которому человек на земле может только стремиться.
– Надеюсь, ты больше не хочешь лишать себя жизни?
– Как это? – не поняла Женевьева.
– Боже мой! – произнес Лорэн, – какое непостоянное существо – человек. Философы правы, презирая его за легкомыслие. Вот один из них. Верите ли, сударыня, еще вчера вечером он хотел кинуться в воду, еще вчера заявлял, что для него в этом мире нет больше счастья, сегодня же утром, как я вижу, он весел, на его устах играет улыбка, а на лице написано счастье, а его сердце вновь бьется жизнерадостно. Правда, он не ест, но это не свидетельствует о том, что он несчастен от этого.
– Как? – спросила Женевьева. – Он хотел сделать все это?
– Все это и еще кое-что. Я расскажу вам об этом немного позже. А сейчас я голоден. Кстати, это Морис виноват в том, что вчера я вместе с ним оббегал весь квартал Сен-Жак. Так что позвольте мне разделить с вами завтрак, к которому никто из вас еще не притрагивался.
– А ведь ты прав! – с детской радостью воскликнул Морис. – Давайте завтракать. Я ведь ничего не ел, да и вы, Женевьева.
Он проследил за реакцией Лорэна, когда произнес это имя, но тот даже не нахмурил брови.
– Ах так, значит ты угадал, кто она такая? – спросил его Морис.
– Черт возьми! – ответил Лорэн, отрезая большой кусок белорозовой ветчины.
– Я тоже голодная, – сказала Женевьева, протягивая Лорэну свою тарелку.
– Лорэн, – сказал Морис, – вчера вечером я был болен.
– Ты был больше, чем болен, ты был просто безумен.
– А сегодня утром, мне кажется, что страдаешь ты.
– Почему?
– Потому что ты не сочинил еще стихов.
– Как раз этим-то я и занимаюсь. – ответил Лорэн.
Когда среди Граций сидя,
Лирой Феб в руках играет;
По следам Венеры ж выйдя,
Лиру он в пути теряет.
– Как всегда – четверостишье. Здорово! – смеясь, отметил Морис.
– Да и нужно, чтобы ты ими довольствовался, потому что сейчас нам надо поговорить о менее веселых вещах.
– Что-нибудь случилось? – с беспокойством спросил Морис.
– Следующим в Консьержери дежурю я.
– В Консьержери? – воскликнула Женевьева. – Возле королевы?
– Да, возле королевы, сударыня, думаю, что да…
Женевьева побледнела. Морис нахмурился и подал знак Лорэну.
Тот отрезал новый кусок ветчины, который был раза в два больше первого…
Королева действительно была переведена в Консьержери, куда за нею последуем и мы.
Глава VI
Консьержери
У моста Шанж на набережной Флер возвышается старинный дворец Сен-Луи, который называли просто Дворцом, как Рим – просто Городом. Его продолжают называть так и сейчас, несмотря на то, что вместо королей в нем сегодня обитают секретари суда, судьи и адвокаты.
Большое и мрачное здание Дворца вызывает больше страха, чем любви к строгой богине правосудия. Здесь собрано все необходимое для человеческой мести. Это и помещения, где во время следствия содержатся арестованные, и залы, в которых проходят судебные процессы. Ниже расположились камеры для тех, кому уже объявлен приговор. У входа находится маленькая площадка, где осужденных клеймят раскаленным железом, навсегда выжигая знак бесчестья. А в ста пятидесяти шагах от нее расположена большая площадь, где проходят казни – Гревская площадь, на ней и заканчивается процесс отмщения, начатый во Дворце. У правосудия все было под рукой.
Часть зданий на набережной Люнетт, вставших рядом друг с другом, мрачных и серых, с маленькими зарешеченными окнами на широких сводах – это и есть Консьержери. Страшная и мрачная тюрьма с камерами, стены которых проросли влажной черной плесенью. Через таинственные выходы, устроенные в здании, сбрасывали в реку трупы тех, кто должен был исчезнуть бесследно. В 1793 году Консьержери, неустанная поставщица жертв эшафота, была переполнена арестованными, не выручала и быстротечность – приговоры выносились в одночасье – судебного процесса. Старая тюрьма Сен-Луи превратилась в пристанище смерти. По ночам под сводами ее дверей раскачивался красный фонарь – зловещий символ ужаса и скорби.
Накануне того дня, когда Морис, Лорэн и Женевьева вместе завтракали, тяжелый перестук потряс мостовую набережной и стекла тюрьмы. Он затих под ее сводами, жандармы ударили рукоятками сабель в ворота. Они распахнулись и экипаж въехал во двор. Ворота тут же закрылись и проскрежетали запираемые замки. Повинуясь команде, из кареты вышла какая-то женщина. И тотчас открывшаяся дверь поглотила ее. Три или четыре любопытных физиономии, высунувшиеся на свет фонарей, чтобы увидеть заключенную, через мгновенье вновь исчезли. Послышалось несколько вульгарных смешков и несколько грубых слов, которыми они обменялись. Голоса еще были слышны, но их владельцев уже поглотила темнота.
Женщина, которую доставили таким образом, оставалась в первой каморке вместе с жандармами. Она понимала, что нужно было перейти во вторую. И попыталась сделать это, но не учла, что требовалось одновременно согнуть ноги в коленях и опустить голову, как бы свернуться. Потому что снизу поднималась ступенька, а сверху опускалась балка. И узница, которая, несомненно, еще не привыкла к тюремной архитектуре, хотя довольно долго пребывала под арестом, забыла опустить голову и с силой ударилась о железную балку.
– Вам больно, гражданка? – спросил один из жандармов.
– Мне уже больше ничего не причиняет боль, – спокойно ответила она. И без единой жалобы прошла дальше, хотя у нее над бровью появился красный от проступившей крови след от удара.
Далее находилось кресло консьержа, более почтенное в глазах заключенных, чем в глазах придворных. Поскольку тюремный консьерж – это раздатчик милостей, а для узника каждая милость крайне важна. Часто малейшая благосклонность консьержа превращает несчастному мрачное небо в лучезарный небосвод.
Консьерж Ришар удобно устроился в кресле, которое подчеркивало его значимость. Шум экипажа, скрежет решеток, извещающие о появлении нового «гостя», не подняли его. Он взял щепотку табаку, посмотрел на узницу, открыл толстую книгу регистрации и обмакнул перо в маленькую деревянную чернильницу, напоминавшую кратер вулкана, по краям которого всегда есть остатки расплавленной массы.
– Гражданин консьерж, – сказал старший конвойной группы, – занеси-ка привезенную в книгу, да поживее – нас давно уже ждут в Коммуне.
– О! Это совсем не долго, – ответил консьерж, добавляя в чернильницу несколько капель вина, оставшихся в стакане. – Для этого у нас есть, слава Богу, руки! Твое имя и фамилия, гражданка?
И, обмакнув перо в чернильницу, он приготовился записать в нижней части листа, заполненного уже на три четверти, сведения о вновь прибывшей узнице. Стоявшая позади его кресла гражданка Ришар приветливо и с почтительным удивлением рассматривала женщину, которую расспрашивал муж. Удивляла ее внешность – грустная, но и одновременно благородная, гордая.
– Мария-Антуанетта-Жанна-Жозефина Лотарингская – ответила узница, – эрцгерцогиня Австрийская, королева Франции.
– Королева Франции? – удивленно повторил консьерж, приподнимаясь и опираясь руками о кресло.
– Королева Франции, – повторила узница тем же тоном.
– То есть, вдова Капета, – заметил старший конвойный группы.
– Под каким же из этих имен мне записать ее? – спросил консьерж.
– Под каким хочешь, только быстрее, – ответил жандарм. Консьерж опустился вновь в свое кресло и, слегка дрожа, записал в своей книге фамилию, имя и титул, названные узницей. Эта запись, отливающая красноватым цветом чернил, сохранилась, но крысы революционной Консьержери, отгрызли на листе самое драгоценное место.
Жена Ришара по-прежнему стояла за креслом мужа, сложив из чувства религиозного сострадания руки на груди.
– Ваш возраст?
– Тридцать семь лет и девять месяцев, – ответила королева. Ришар привычно занес все данные, описал приметы узницы, добавил необходимые обычные формулировки.
– Вот и все, дело сделано, – произнес он.
– Куда ты ее поместишь? – спросил старший.
Ришар опять взял щепотку табака и посмотрел на жену.
– Ну вот! – заволновалась та. – Нас ведь не предупредили и мы совсем не знали…
– Давай, поищи! – сказал конвоир.
– Есть совещательная комната судей, – продолжала жена.
– Гм! Но она довольно большая, – прошептал Ришар.
– Тем лучше! Если она большая, то в ней легко разместить охрану.
– Иди туда, – сказал Ришар. – Только она нежилая. В ней нет даже кровати.
– Да, действительно. Об этом я и не подумала.
– Чего уж там! – заметил один из жандармов. – Поставите кровать завтра, а это завтра наступит уже совсем скоро.
– Впрочем, гражданка может провести ночь и в нашей комнате, не так ли? – обратилась жена Ришара к мужу.
– А как же мы? – спросил консьерж.
– Просто не будем ложиться. Как сказал гражданин жандарм, скоро наступит утро.
– Хорошо, – решил Ришар, – проводите гражданку в мою комнату.
– Тем временем подготовьте нам расписку в получении арестованной, – заметил старший.
– Вы получите ее после того, как проводите гражданку.
Жена Ришара взяла стоявшую на столе свечу и пошла первой. Мария-Антуанетта, не проронив ни слова, последовала за ней, как всегда бледная и спокойная. Двое тюремщиков замыкали шествие. Королеве показали кровать, которую жена Ришара поспешила застелить чистым бельем. Конвоиры стали у выхода, дверь закрылась на двойной оборот замка, и Мария-Антуанетта осталась одна.
Никто не знает, как она провела эту ночь, потому что в эту ночь она осталась наедине с Богом.
На следующий день королеву перевели в продолговатую комнату, где совещались судьи. Помещение разделили на две части ширмой, не достигавшей потолка. Одна часть комнаты предназначалась для королевы. Вторая – для охраны. Окно в толстых решетках освещало каждую из этих двух частей. Ширма, служившая вместе с тем и дверью, отделяла королеву от стражи.
Вся комната была выложена плиткой. Ее стены были когда-то облицованы деревом и оклеены обоями, обрывки которых, украшенные геральдическими лилиями, еще кое-где виднелись. Кровать у окна, рядом с ней стул. Вот и вся меблировка королевской тюрьмы.
Войдя в эту камеру, королева попросила, чтобы принесли ее книги и рукоделие. Ей принесли «Революции в Англии», книгу, которую она начала читать еще в Тампле, «Путешествие молодого Анаршарсиса» и ее вышивку.
Охранники устроились на своей половине. История сохранила их имена. Как обычно и случается с незначительными существами, которых судьба связывает с великими событиями, и на которых отражаются отблески того света, которые бросает молния, разбивая либо королевские троны, либо самих королей.
Их звали Дюшен и Жильбер.
Коммуна назначила их, потому что они считались истинными патриотами. Они должны были оставаться на своем посту в этой камере до суда над Марией-Антуанеттой: так надеялись избежать беспорядка, почти неминуемого в том случае, если охрана меняется несколько раз в день. Так что на этих двоих лег тяжелый груз ответственности.
И с этого самого дня королева, слушая разговоры охранников, которые никогда не понижали голоса, о чем бы ни говорили, поняла, что стража ее будет постоянной. Это и радовало, и беспокоило се. С одной стороны, говорила она себе, они должны быть очень надежными, поскольку их выбрали среди множества других. С другой – ее друзьям легче подкупить двух постоянных сторожей, чем сотню незнакомцев, волею случая определенных на дежурство и неожиданно оказавшихся рядом с ней на один день.
В первую ночь перед тем как лечь, один из жандармов по привычке закурил. Дым табака проник через перегородку и окутал несчастную королеву, у которой все несчастья вместо того, чтобы притупить, наоборот, обострили чувствительность. Вскоре она почувствовала недомогание и тошноту, голова ее раскалывалась от удушья. Но, верная своей неукротимой гордости, так ничего и не сказала.
Изнемогая от бессоницы, она вслушивалась в ночную тишину. И казалось, что сквозь стены доносятся протяжные и зазывные стоны. В них было что-то зловещее и пронзительное. Как бывает при вое ветра, когда буря заимствует голос человека, чтобы одушевить страсти стихии.
Вскоре она догадалась, что стоны, заставившие ее вздрогнуть, были печальной и настойчивой жалобой собаки, скулившей на набережной. Она тотчас же подумала о своем бедном Блэке. О нем она не вспомнила в тот момент, когда ее увозили из Тампля, но голос которого она, казалось, теперь узнала. И действительно, бедное животное, из-за избытка бдительности потерявшее свою хозяйку, незаметно следовало за экипажем из Тампля до решеток Консьержери. Здесь его остановили железные ворота, захлопнувшиеся за королевой и едва не убившие его. Но бедное животное вскоре опять вернулось и, поняв, что его хозяйка заперта в этом каменном склепе, звало её, завывая, в десяти шагах от часового, в ожидании ответной ласки.
Королева ответила вздохом, встревожившим охрану.
Но поскольку вздох был единственным и на половине, где разместилась Мария-Антуанетта, снова наступила тишина, охранники успокоились и опять задремали.
На рассвете королева поднялась и оделась. Позже, сидя у зарешеченного окна, из которого лился голубоватый свет, падавший на ее исхудавшие руки, она делала вид, что читает. На самом же деле ее мысли были далеки от книги. Жандарм Жильбер приоткрыл ширму и молча посмотрел на нее. Мария-Антуанетта услышала шум его шагов, но даже не шевельнулась.
Она сидела так, что ее голова находилась в ореоле утреннего света. Жильбер подал товарищу знак, чтобы тот увидел эту картину.
Дюшен подошел.
– Посмотри, – шепотом произнес Жильбер, – как она бледна. Это ужасно! Ее глаза покраснели. Скорей всего она плакала от страданий.
– Ты же хорошо знаешь, – ответил Дюшен, – что вдова Капета никогда не плачет. Для этого она слишком горда.
– Значит, она больна, – решил Жильбер.
И продолжил, повысив голос:
– Скажи-ка, гражданка Капет, не больна ли ты?
Королева медленно подняла глаза и направила свой ясный и вопрошающий взгляд на охранников.
– Это вы со мной говорите, судари? – спросила она голосом, полным доброты, поскольку, как ей казалось, заметила оттенок интереса у того, кто обратился к ней.
– Да, гражданка, с тобой, – продолжал Жильбер. – Мы спрашиваем тебя: не больна ли ты?
– Почему вы это спрашиваете?
– Потому что у тебя покраснели глаза.
– К тому же, ты очень бледна, – добавил Дюшен.
– Благодарю вас, судари. Нет, я не больна, но ночью мне
действительно было плохо.
– Тебя мучили твои печали?
– Нет, судари, мои печали всегда одинаковы. Религия научила меня складывать их к подножию креста. Я страдаю каждый день одинаково. Нет, просто этой ночью я слишком мало спала.
– Наверное, из-за перемены жилища и смены кровати, – предположил Дюшен.
– К тому же, это жилище не из лучших, – посочувствовал Жильбер.
– Нет, судари, не из-за этого, – покачав головой, сказала королева. – Хорошее или нет, но мне безразлично мое жилище.
– В чем же тогда причина?
– В чем?
– Да.
– Прошу простить меня за мои слова, но я очень непривычна к запаху табака, который и сейчас исходит от вас, сударь.
– А, Боже мой! – воскликнул Жильбер, взволнованный той кротостью, с которой с ним говорила королева. – Почему же, гражданка, ты не сказала мне об этом раньше?
– Потому что не думала, что имею право стеснять вас своими привычками, сударь.
– В таком случае у тебя больше не будет неудобств, по крайней мере с моей стороны, – сказал Жильбер, отбросив трубку, которая разбилась, ударившись о пол. – Я не стану больше курить.
И он повернулся, уводя своего компаньона и закрывая ширму.
– Возможно, ей отрубят голову, это дело нации. Но к чему нам заставлять страдать эту женщину? Мы ведь солдаты, а не палачи, как Симон.
– Твое поведение отдает аристократией, – заметил Дюшен, покачав головой.
– Что ты называешь аристократией? Ну, хоть немного, объясни мне.
– Я называю аристократией все, что досаждает нации и доставляет удовольствие ее врагам.
– По твоему выходит, что я досаждаю нации, потому что прекратил окуривать вдову Капета? Ну, хватит? Видишь ли, – продолжал он, – я помню о своей клятве, которую дал родине, и о приказе моего командира. Приказ я знаю наизусть: «Не позволить узнице бежать, не позволять никому проникать к ней, прекращать всякую переписку, которую она захочет завязать или поддержать и умереть, если надо, на своем посту!» Вот что я обещал и выполню свое обещание. Да здравствует нация!
– То, о чем я тебе сказал, – продолжал Дюшен, – не говорит о том, что я слежу за тобой. Я просто не хочу, чтобы у тебя Тэыли неприятности…
– Тихо! Кто-то идет.
Из этого разговора королева не упустила ни слова, хотя охранники и говорили шепотом. Жизнь в неволе удваивает остроту чувств.
Охранники насторожились не зря – к комнате по коридору приближались люди.
Дверь открылась. Вошли двое гвардейцев муниципалитета вместе с консьержем и несколькими тюремщиками.
– Где арестованная? – спросили они.
– Там, – в один голос ответили охранники, указав на ту часть комнаты, где находилась королева.
– Как она устроилась?
– Посмотрите сами.
И Жильбер открыл ширму.
– Что вам угодно? – спросила королева.
– Они представляют Коммуну, гражданка Капет, – сказал охранник.
«Этот человек добрый, – подумала Мария-Антуанетта, – и, если мои друзья очень захотят…»
– Ладно, ладно, – прервали гвардейцы муниципалитета, оттолкнув Жильбера и входя к королеве. – Ни к чему здесь церемониться.
Королева сделала вид, что не заметила их. По ее безучастности можно было понять, что она не видит и не слышит происходящего вокруг, словно по-прежнему находится одна.
Представители Коммуны тщательно осмотрели комнату, постучали по деревянным стенам с остатками обоев, перерыли постель, проверили решетки на окне, которое выходило на женский двор. Потом, напомнив охранникам о чрезвычайной бдительности, вышли, не сказав ни слова Марии-Антуанетте. И она сохранила полную безучастность, словно и не было этих бесцеремонных визитеров.








