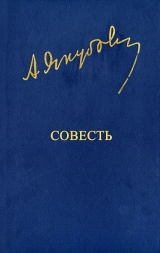
Текст книги "Совесть"
Автор книги: Адыл Якубов
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 41 страниц)
И потом эта всечасная угодливость дервишей, их раболепство перед теми, кто знатен и богат (чего нет у людей науки!)… А знатные и богатые к нему, дервишу, относятся так, как к другим дервишам, – как к собаке, вечно ожидающей, что хозяин бросит ей кость.
Был случай, когда опять судьба свела его с Хурши-дой-бану… На мгновение, увы…
Был случай…
Голодный и усталый, остановился он однажды перед роскошными воротами неподалеку от «Мазари шериф». Забубнил, как обычно: «О аллах, о всемогущий…» Сторож вынес ему из дому похлебку, приправленную кислым молоком, и маленькую кукурузную лепешку. Уселся Каландар около ворот, съел похлебку, поднял было руки для свершения благодарственной молитвы, но тут из-за угла показался всадник, богато одетый, статный, а чуть позже под звон колокольчиков выехала кабульская арба. Каркас ее был покрыт красной парчой. Плотный полог полностью скрывал тех, кто сидел внутри.
Всадник выпрыгнул из седла, отдал сторожу поводья аргамака.
– Эй, дервиш! Ты насытился тем, что получил от добрых хозяев этого дома? Тогда иди-ка своей дорогой, дервиш!
Слова, сказанные таким тоном, не могли не задеть Каландара, но дервиш есть дервиш, смирять свои желания – закон его жизни, и потому Каландар стерпел. Закончил молитву. Потом поднялся. Прошел мимо арбы. И вдруг из-за полога услышал голос, который он помнил бы, проживи даже сотню лет!
– Господин мой, – сказала Хуршида-бану, и Калан-дару послышались слезы в этом ее обращении к мужу. – Господин мой, я видела сегодня дурной сон и утром дала себе обещание… пожертвовать семь таньга святому Ходже Бахауддину… Прошу вас, дайте от меня эти семь таньга вот тому дервишу, – и красивая, снежно-белая, в браслетах рука приподняла край полога, а нежные пальцы схватили бахрому и дернули ее, будто хотели оторвать. Каландар увидел, как задрожали эти пальцы, как, отпустив бахрому, стали словно искать что-то, звать кого-то, увидел, хотя все это длилось чуть больше мгновения.
Всадник кивнул арбакешу: давай, мол, трогай, раскрытые ворота перед тобой. Потом, нахмуренный и надменный, покопался в кармане, вытащил горсть монет и бросил их, не считая, на мощеную дорогу к ногам Каландара. А тот стоял, оцепенев, все еще растерянно глядя на опустившийся полог кабульской арбы. Звон монет смешался с шумом арбы, въезжавшей в ворота. Они тотчас захлопнулись, и Хуршида-бану, арба, занавес с бахромой, конь вельможи и сам вельможа – все исчезло за массивными воротами.
Что значило все это? Хотела ли она напомнить о себе или просто пожалела дервиша, независимо от того, узнала или не узнала человека в рубище и кулохе? Эти деньги – искренняя помощь, знак особого расположения или… или подачка, средство выказать свое презрение к нему, свое богатство и довольство? Нет, нет, голос Хуршиды был полон печали, а ворота богатого особняка захлопнулись зловеще. Так захлопывается клетка… Или вход в склеп.
В тот день Каландар то и дело возвращался к этим воротам и только вечером, сам не ведая как, очутился на кладбище Шахи-Зинда, но и здесь в его памяти все стояли арба с пологом, рука женщины, дрожь пальцев, стиснувших бахрому, звучал нервный голос. И вспоминались строки:
Как взор зовет глаза твои – того не знаешь ты.
Как ночью я томлюсь: «Приди!» – того не знаешь ты.
Ищу свиданья я сама, гублю себя сама.
Как сохнет сердце без любви – того не знаешь ты.
Вскоре после этой нечаянной встречи Хуршида-бану попала в гарем Абдул-Азиза, а муж ее нашел свой конец на плахе…
Каландар обошел обсерваторию, вернулся к чинаре. Воспоминания терзали его, и даже топот копыт не сразу прогнал их. Четыре нукера неожиданно осадили коней у ворот; лошади загарцевали на месте после лихой скачки.
Каландар пришел в себя.
Кто это прибыл? Ба – эмир Джандар! Чернобровый красавец, покоритель женских сердец, храбрец военачальник, близкий к Мирзе Улугбеку! А что ему нужно тут, в обсерватории, эмиру, про которого говорили как про опору Улугбекову?
Один из всадников спешился, подошел к воротам, застучал в них рукояткой плетки.
– Эй, сторож, эй, Али Кушчи! Где вы там? Отворяйте!
Видно, сторож, не открывая, ответил, что Али Кушчи нет. Тогда уже все хором закричали, чтобы он отворил. Эмир Султан Джандар с нукером вошел внутрь. Двое других остались у ворот. Вскоре эмир и нукер снова появились у ворот, все четверо вскочили в седла и помчались той же дорогой, что привела их сюда. За подкреплением, что ли?
Вот вам верность, вот вам честность! Выходит, и эмир Джандар, «опора Улугбека», переметнулся к врагам Улугбека! Если б не так было, поостерегался бы он появляться в Самарканде, захваченном Абдул-Латифом… И, видишь, ищет уже Али Кушчи. Правда, сейчас ночь, вернее, самое начало рассвета. Но уж слишком открыто, не заботясь ни о какой осторожности, держали себя всадники, слишком громко кричали. Так ведут себя не те, кто скрывается, а те, кто ищут скрывающихся…
А вон та тень, опять тень, она ищет или скрывается?
Каландар осторожно слез с супы на землю, зашел за ствол чинары; тень двигалась по противоположной стороне улицы. Потом тень пересекла улицу, а Каландар, тоже держась темной стороны, последовал за ней, перерезая таинственному низкорослому человеку путь к отступлению. Не замечая Каландара, человек огляделся вокруг, осторожно приподнял медное кольцо на калитке, тихо, но внятно стукнул им.
– Опять стук, – услышал Каландар голос хрипатого сторожа, – опять стучат… Полуночники, не спится им… Кого носит по ночам?!
– Это я, посланец…
– Какой еще посланец? Сюда не велено никого пускать!
– Меня послал Мирза Улугбек, – человек явно боялся сказать хоть слово погромче. – Мне нужен мавляна Али Кушчи.
– Нет его, говорю же, нету! Куда девался, не знаю!
Человек постоял немного перед воротами, потом медленно двинулся обратно.
Каландар вышел из темноты.
– Стой, – властным шепотом остановил он незнакомца. – Какое дело у тебя к Али Кушчи? Ну, говори… если жизнь дорога. Я ему… передам.
Низкорослый человек от страха онемел. Он только все чертил перед собой маленькими ручками какие-то круги, будто отталкивал от себя что-то.
– Не бойся! Я шагирд Али Кушчи, понял?.. Ну, какое дело у тебя к нему?
– Ма… мавляну Али Кушчи желает видегь повелитель…
– Какой? Султан Улугбек?!
Человечек кивнул.
– Где же он сам?
– В саду «Баги майдан», – промямлил человечек.
И, как всегда, Каландар сразу отбросил свои колебания.
– Поведешь меня к нему! Прямо сейчас, понял?
13
Нет ничего хуже неопределенности.
Как ни тяжела бывает беда, выпадающая на долю человека, он может терпением и выдержкой побороть ее. А неопределенность гложет человека, лишает сил, отнимает саму способность бороться или даже терпеть.
Улугбеку было очень тяжело услышать о своем изгнании из Мавераннахра; покинуть родину казалось немыслимым, невозможным делом, но прошло время, и Улугбек свыкся с этой мыслью, потому что она была определенным исходом, а свыкшись, стал готовиться к предстоящему путешествию.
Его никуда не переводили из той самой комнаты, неуютной и холодной, в которой он находился. И с этой угловой комнатой, так мало соответствующей его званию и его гордости, Улугбек стал свыкаться, ибо и тут ничего другого уже не ждал, и тут все было определенно. На следующий день после разговора с Абдул-Лати-фом к Улугбеку явился новый сарайбон-дворецкий, темнокожий уроженец Балха с серьгами в мочках ушей. Дворецкий попросил Мирзу Улугбека начать готовиться к тому, чтобы покинуть пределы Мавераннахра, и обещал ни в чем не отказать из того, что необходимо для такой цели.
Улугбек не просил ничего лишнего. Теплая одежда, пищи дня на три-четыре, хорошая верховая лошадь – вот и все. Золото? Его не было у Улугбека, просить же золота у шах-заде он не захотел. Да и зачем ему золото, простому паломнику, слуге аллаха? Откажут разве ему в куске хлеба и глотке воды, если он собрался в Мекку, к святым местам? Он был готов к смерти и даже думал о ней, о голодной смерти в начале пути, как об избавлении от бед, утолении давней-предавней жажды. Что на роду написано, тому и свершиться! Не перечить больше судьбе, а покориться ей – так стал думать теперь Улугбек о смысле жизни человеческой.
Всю ночь, прощальную, последнюю ночь перед отправлением в путь Улугбек не сомкнул глаз. Как ни успокаивал он себя мыслью о смирении перед судьбой, голова лихорадочно работала, строила планы. Ну, доберется он до Мекки, выполнит долг, будет иметь право называться хаджи, а потом? А потом он отправится в Дамаск или Каир. Он непременно будет жить в каком-нибудь медресе, пусть простым подметальщиком на дворе, пусть так… Да и не будет он подметальщиком, имя его известно людям науки и в Дамаске, и в Египте, и в городе мудрости, как называют Багдад. Они не дадут ему пропасть, не дадут.
Мучило Улугбека только одно: то, что он покидает и, очевидно, навсегда, родной Мавераннахр, любимый, трижды любимый Самарканд, реку Зеравшан, на чьих берегах прошло детство. Странник – пусть странник, но странник-чужеземец – вот что терзало его, вот что болело неотвязчиво, как, бывает, болит рана, когда до нее дотрагиваются чем-нибудь острым.
После обеда сарайбон привел к нему человека лет пятидесяти, худощавого, на вид кроткого и спокойного. Улугбек сразу узнал его: Мухаммад Хисрав, паломник-хаджи, обитавший в Шахи-Зинда. Мухаммад понравился Улугбеку– улыбкой мягкой, не сходившей с лица, манерой держаться, не подобострастной, однако, подчеркнуто уважительной, даже тем понравился, что борода у Мухаммада была, как бы это повежливее сказать… не густая, так, две-три волосинки. Выяснилось, что Хисрав дан ему в спутники. Выяснилось в разговоре и другое: уже сегодня после вечерней молитвы Улугбеку и Мухаммаду Хисраву надлежало покинуть Кок-сарай. Переночевав в «Баги майдане», они должны ранним утром отправиться в путешествие, о котором «осведомлен, конечно, высокочтимый Мирза», как добавил к сказанному дворецким Мухаммад.
«Не хочет, чтобы меня увидел народ», – подумал Улугбек о сыне, но обида как-то вяло шевельнулась в душе, потому что иного, хорошего душа уже не ждала, а ждала она лишь определенности решений. Теперь решение было принято, ясное, недвусмысленное, надо было готовиться к выполнению его.
Улугбек оглядел одежду своего спутника: темный изношенный чекмень, скромная чалма, на ногах разбитые краснокожие ичиги.
– Не слишком ли легко вы оделись в столь дальнюю дорогу, хаджи?
Мухаммад Хисрав все с той же постоянной улыбкой ответил:
– Одежда султана не приличествует простому смертному, да и неудобна она в паломничестве, разве не так? Не ошибается ли ваш покорный слуга?
Улугбеку и этот ответ понравился, хотя ясно было, что спутник его в теплой одежде весьма нуждался, отправлялись-то они осенью, а не весной. О том Улугбек и сказал, когда явился к ним дворецкий. Мухаммаду Хисраву новая одежда была обещана.
Глубоким молчанием и непроглядной темнотой (бирюзовые купола стали совсем черными на фоне поздне-вечернего неба) проводил Кок-сарай своего бывшего властелина, которому было в нем не всегда радостно, почти всегда неуютно, но который прожил во дворце этом ни много ни мало – всю жизнь свою. Что оставляет он здесь, с чем жаль расстаться ему? Остановившись на минуту, Улугбек обвел взглядом дворцовую громаду, башни, уходившие ввысь, к звездам. Вон опять горит огонек в крайнем окошке гарема. Тихо звенит фонтан. Перемигиваются вокруг водоема каменные светильники, их слабое мерцание лишь подчеркивает темноту дворца.
Словно далекая звездочка, поблескивало окошко невольницы с печально-ласковыми глазами. Да полно, почему это он решил, что за этим окошком именно она, то солнышко, которое нежило и умиротворяло осень его сердца? Но хотелось думать, что это она не спит. Может быть, читает… А если с ней-то как раз сейчас Абдул-Латиф?!
Мгновенно помутнело перед глазами. Улугбек вынужден был зажмуриться от внезапной боли в груди, прислониться к стене. Право победителя – жестокое право… Смешно, о чем это он думает в такую минуту? Ревность? С этим чувством отправляется он в путешествие к святым местам?
Сарайбон вежливо покашлял. Улугбек пошел к воротам.
Их ждали четверо всадников-нукеров с двумя запасными лошадьми, собранными в дорогу. Улугбек хотел перед тем, как оставить Самарканд, пройти по любимым улицам и площадям великого города, посетить Гур-Эмир, дабы отдать долг почитания памяти деда и отца, но всадники стали впереди и сзади паломников, и получилось так, что не паломники, а всадники определили маршрут: сразу вниз, к Регистану и далее к выходу из города.
«Отец! Ты простишь меня, ибо я в руках твоего безжалостного внука», – мысленно промолвил Улугбек. Он прочитал короткую молитву, прощальным взглядом обвел траурно-синеватый купол усыпальницы, потом сел в седло.
Они ехали шагом вдоль тихих улиц, вымощенных гладким камнем, сопровождаемые цоканьем подков. Дворы, окруженные глиняными стенами, и торговые лавки, мимо которых они проезжали, были немы. И это в осенне-праздничные дни, когда обычно город не спал до глубокой ночи, когда шум, и пение, и клики радующихся урожаю людей не смолкали чуть ли не до зари. Иные времена, трудные, тяжелые, беззвучные! Кладбище какое-то, а не город, не Самарканд, умеющий работать, но и веселиться тоже… Кстати, вот и звуки, нарушающие тишину, – увы, это всего лишь дервиши, столь любящие кладбища. Напротив медресе Улугбека – ханака, странноприимный дом, где они обосновались и откуда сейчас слышно их «ху-ху».
Улугбек придержал коня. Дадут ли ему возможность зайти хоть на минуту в свое медресе, попрощаться с ним, положить руку на плечо хотя бы одного талиба?!
– Не велено останавливаться! Стегните коня… повелитель.
Да, вот когда понял Улугбек, чем он стал теперь. Бедный, не по своей воле поступающий изгнанник, лишенный не просто власти, но и милости закона, человеческого и божеского. Бесцеремонный окрик – вот что теперь только и будешь ты слышать. И поступать, как велят тебе. И только в терпении находить утешение. Вот когда стало ясно, что и этот Регистан с медресе, и талибы, и шагирды, и сама возможность прийти сюда для высоких бесед и умственно-бескорыстных раздумий, что все это прошло для тебя и никогда больше не вернется к тебе. «За что, всевышний, за что ты отнял у меня эти бескорыстные радости, за что так жестоко покарал раба своего?»
Не задержались они и у соборной мечети, где следовало бы сотворить молитву путешествующих. Остались позади и усыпальницы Шахи-Зинда… Они выехали на широкую каменную дорогу, что ведет к «Баги майдана». Отсюда можно завернуть к обсерватории, не доезжая до «Баги майдана». Но всадники еще до поворота пошли другим путем, пересекли Сиаб и стали подниматься на возвышенность. Что? И к обсерватории его не пустят, попрощаться? Ну, нет, он будет там – не до «Баги майдана», так после, он не уедет из Мавераннахра, не посетив своего детища!
У ворот «Баги майдана» четверка сопровождавших Улугбека нукеров передала его и Мухаммада другой вооруженной четверке. Те приняли от паломников коней, пригласили идти во дворец Чил устун – Сорок колонн, что стоял посреди знаменитого сада; сам дворец был тоже знаменит, помимо прочего, китайскими изразцами по всем своим четырем стенам. Со второго этажа дворца – Улугбеку ли этого не знать? – прямо как на ладони видна обсерватория, а если пересечь сад и выйти не через парадные ворота, а через специальную калитку в стене, то до обсерватории можно было дойти очень быстро.
Горбатый старик – махарам, смотритель дворца, служивший еще Тимуру, встретил Улугбека подобающими поклонами. Сколько раз прислуживал он ему, и какое дело глухонемому старику с бородой до пояса, что там происходит у повелителей и детей их, – повелители остаются повелителями. Но бывший повелитель Улугбек жестом показал, что ему нужен всего лишь кумган воды – и ничего больше; бывший повелитель Улугбек даже не вошел– в покои дворца, а, взяв кумган воды, испрошенный у старика, удалился в сад, в самое глухое место сада, не приказав никому следовать за собой.
Наполовину облетевший осенний сад шумел размеренно тихо. Желтые листья светились на земле. Улугбек не стал терять времени, а, стараясь не шуршать листвой под ногами, быстро направился знакомой тропой к калитке, что выводила к обсерватории.
Но кто там идет за ним?! Старик? Улугбек резко обернулся: тихий, будто бесплотный ангел, тщедушный и улыбчивый, за ним крался Мухаммад Хисрав!
– Хаджи! Вы мой спутник в паломничестве или соглядатай?
– О, простите, простите, я ваш слуга… Аллах свидетель, я даже не мыслил следить за вами… Но вы идете к обсерватории, а горбун забеспокоился. Он ищет вас… он может поднять на ноги воинов…
Улугбек заколебался на мгновение, но потом твердо сказал, что не покинет Самарканда, не побывав в обсерватории и не узнав об Али Кушчи, с ним ему надо поговорить непременно.
– Тогда позвольте мне сходить за Али Кушчи. Я постараюсь привести его сюда. Иначе… поднимется тревога и вас станут искать.
– Почему же только меня?
– Их интересует, где вы и что с вами. До меня кому какое дело из них?
Улугбек решил довериться этому тихому и, кажется, верному человеку. Показал Мухаммаду, как пройти из сада к обсерватории, а сам вернулся назад. И вовремя, потому что и впрямь обеспокоенный старик горбун уже хотел звать воинов. Завидев Улугбека, он жестами и знаками стал выражать бурную радость и приглашать войти во дворец. Там на втором этаже он подготовил комнату-веранду, зажег свечи, расстелил одеяла, поставил столик с угощениями из мяса и фруктов.
С пиалой остывшего чая в руке Улугбек долго простоял на террасе, смотрел на небо, на сад. Серп луны висел над далекими горами Ургута, холодный, будто кусочек льда. В лунном свете осенний сад казался еще сиротливее. Не менялись только звезды – прекрасные, зовущие к себе. На самом верху неба опрокинулся ковш Большой Медведицы, ниже рассыпался Млечный Путь, а над льдышкой-месяцем, словно горячий уголек, Хулькар. Привычно подумалось о том, что вот уже сорок лет разгадывает он тайны звезд, думая, что и человеческие тайны тем самым разгадывает, но нет… их-то не разгадал и теперь сирым изгнанником продолжает дорогу жизни, помыкаемый, мучимый… Но ведь такова участь не его одного, бывшего властителя. Сколько простых, бедных людей живут жизнью вечно помыкаемых, их мучат владыки, они терпят, они терпели, может быть, и от него, Мирзы Улугбека, терпели так, как терпит он теперь от своего гонителя-сына. И, быть может, тогда обращались к всевышнему, прося защитить их, прося отомстить за слезы, пролитые по его, Мирзы Улугбека, вине.
Или совесть и справедливость в самом деле, как говорили поэты, не может ужиться с обладанием властью? Властвовать над теми, кто подобен тебе, подчинять их своему произволу – это гадко, бесчеловечно, это от помрачения разума. И это наказуемо, да, да, наказуемо хотя бы уже тем, что все мы бренны и обладание властью для тебя временное состояние, к которому нельзя привыкать, если у тебя не спит совесть. Неужели, только став сирым и гонимым, человек может понять сирых и гонимых, сострадать им?
Усилием воли Улугбек попытался отогнать эти не радующие душу думы.
Он все вглядывался и вглядывался в серовато-призрачную темноту переплетавшихся ветвей, стараясь увидеть сквозь них контуры здания обсерватории. Вспомнилось давнее-давнее: вместе с наставником своим Кази-заде Руми он ходит по дорожкам этого сада, беседует о задуманном строительстве, обсуждает каждую деталь будущего величественного здания, а то присаживается на корточки, чтобы начертить что-то для наглядности вот тут, прямо на красном песке садовой дорожки.
Потеплело на душе от таких воспоминаний.
Вдруг стала перед ним и другая картина: молодой, сильный и, как все Тимуровы потомку, горячий и своевластный, он, султан Мавераннахра, он, ученый человек, избивает плетью старого строителя – несправедливо, злобно, безжалостно наказывает… а наказывать-то надо было не того, кто сказал ему правду о мытарствах простых строителей, а тех, кто кормил их гнилой пищей, наверное, не без корысти для своего кармана… Сколько таких, как тот старик, было согнано сюда, к холму, какие лишения пришлось претерпеть им?!
Стыд за теперь уже неисправимые несправедливости, им свершенные, добавился к мучительному ощущению того, что жизненный путь кончается, и волна раскаяния смыла с души Улугбека жалость к себе.
От невеселых мыслей оторвал Улугбека Мухаммад Хисрав. Он иривел Каландара. Они прокрались по саду незаметно для воинов, большинство которых спали. Спал где-то в покоях дворца и горбун махарам.
– Ассалам алейкум, повелитель-устод!
«Устод! Он называет меня устодом? Кто же он сам, этот дервиш?» Улугбек, стоя в дверях комнаты, вгляделся в пришельца, память сработала мгновенно.
– Каландар Карнаки?
– О, вы узнали меня, учитель! Узнали даже в этом рубище…
Все еще не приглашая гостя в комнату, Улугбек спрашивал:
– Ты покинул медресе, стал дервишем, да-» Но тогда как ты попал в обсерваторию, что там делал?
Каландар усмехнулся.
– Соглядатайствовал, устод!
– Не шути, не говори загадками, дервиш!
– Нет, учитель, это не шутка, – Каландар поправил свой кулох. – Шейх Низамиддин Хомуш сделал меня соглядатаем. Дабы не выкрали без его ведома из обсерватории вероотступника Улугбека «еретические» книги, написанные такими же вероотступниками, каков он сам… Да еще приказано мне было узнать, где золото эмира Тимура и кто это отдал его мавляне Али Кушчи на богопротивное дело…
– Еще раз говорю, не шути со мной, дервиш!.. Коли таков был приказ и ты принял его к исполнению, зачем пришел к бывшему султану? В чем твоя цель?
Каландар помолчал, потом ответил серьезно и скорбно:
– Моя цель… в меру сил своих приносить добро людям науки.
Улугбек не уловил тона, в котором были произнесены эти слова.
– Продолжаешь смеяться, да?.. Человек оставил храм науки, стал своим среди невежд и гонителей науки, а теперь пожелал приносить добро людям науки? С чего бы это, дервиш, и как я могу поверить в такие превращения?
…Они долго говорили в ту ночь. Не сразу открылась перед Улугбеком душа Каландара, но, когда султан поверил в искренность дервиша, в чистосердечное признание им своей ошибки, когда узнал, какую помощь оказал Каландар Али Кушчи, Улугбек возблагодарил аллаха. «Вот она, чистая душа под грязным покровом одежды нищего, – подумал Улугбек. – Вот оно, служение истине и добру. А стало быть, и науке. Ибо что есть истина, спросили однажды мудреца Абубакира Тахира Абхари, и он ответил: «Наука». «А что такое наука?» – снова спросили его. И он ответил: «Истина»… А я бы добавил еще: «И добро…»
Припомнилось Улугбеку в беседе с Каландаром и то, что советовал сделать прямодушный и верный Бобо Хусейн, – поднять городское население, ремесленников, простой люд. Он тогда не послушал совета, не поднял «чернь», а в ней-то, может быть, и было его спасение, в ней чистота и добрая сила… Но что случилось, то уже случилось. Надо думать о завтрашнем, а не о вчерашнем.
Из рассказа Каландара Улугбек понял, что место, куда Али Кушчи тайно отвез шестнадцать сундуков с книгами, никому не известно, кроме самого Али Кушчи. Но он-то, Улугбек, должен знать его!
– Я встречусь с мавляной, – сказал Каландар, – передам ему ваше желание, и мы догоним вас в дороге, учитель.
– Нет, Каландар. Али Кушчи должен скрыться. Его будут искать, преследовать.
– Тогда я сообщу вам. Я найду способ…
«О всевышний, о жизнь! Вот как круто поворачиваешь ты передо мной ход событий! В трудный час, покинутый и одинокий, пришел ко мне когда-то этот простодушный джигит, теперь сердце его откликнулось на тревогу моего сердца, его боль слилась с моей… Благодарю, благодарю!»
– Благодарю тебя, Каландар… И прости меня. Прости мою вину перед тобой… Увы, я не спас твой родной город от Барак-хана… Не уберег твою любимую, – на миг в памяти Улугбека предстала Хуршида-бану, невольница гарема, ее распущенные, длинные, до полу, волосы, печально-трогательная, беззащитная красота. – Много тягот пришлось тебе испытать, я добавляю тебе новые. Не знаю, смогу ли отблагодарить тебя за них я сам, – Улугбек положил руки на плечи Каландара, – но да наградит тебя всевышний за чистое сердце, за верность… сын мой…
14
Али Кушчи вернулся в Самарканд около полудня. Понукаемый пятками мавляны, осел весело бежал вперед, а его собрат, на котором восседал Мирам Чалаби – он теперь вел верблюдов, – несколько поотстал.
Каландар встретил учителя и ученика там же, где третьего дня проводил их, – у подножия горы Кухак.
Дервиш все эти часы после прощания с Улугбеком ходил взволнованный. Слезы султана, его руки на плечах Каландара – все это потрясло бывшего сурового воина и тоже бывшего теперь, если не по одежде, то по образу мыслей, дервиша. Каландар дал себе клятву во что бы то ни стало исполнить последнее желание повелителя-устода.
Вернувшись из «Баги майдана» к обсерватории, на свое наблюдательное место, Каландар довольно долго выжидал, не появится ли поблизости какая-нибудь сомнительная личность. Удостоверился, что кругом все тихо и спокойно, взял хурджун и осторожно спустился вниз, прошел оврагом вдоль высохшего ручья до места встречи с Али Кушчи.
Шел он ночью, во вторую ее половину, и все же нежданно наткнулся – уже рядом с условленным местом – на двух табунщиков. Молодой и пожилой, они сидели, беседуя о чем-то, у костра, подкидывая в пламя сухие ветки. Дервиша с хурджуном на плече они встретили уважительно, напоили кумысом, угостили холодным мясом.
Но Каландар словно и не ощутил вкуса питья и еды; он беспокойно вставал, уходил, возвращался (будто взглянуть на лошадей, пущенных табунщиками пастись неподалеку). К утру поднялся на Кухак, благо гора была невысока, и увидел сквозь клочковатую пелену сизого тумана небольшой караван; тогда он признался табунщикам, удивленным его непоседливостью, что пришел сюда на встречу, и попросил коня. Пожилой табунщик разрешил взять иноходца.
Каландара, взволнованного и несколько запыхавшегося, встретили Али Кушчи и Мирам ЧалаСи.
– Что случилось, Каландар? – встревожился мавляна.
– Хвала аллаху! Все спокойно, устод.
Торопливо и сбивчиво рассказал Каландар о вчерашнем свидании с Улугбеком, о желании повелителя узнать, где спрятаны книги. Али Кушчи, не дослушав его, спросил:
– По какой дороге поехал повелитель?
– По дороге к Кешу…
– Дай мне своего коня, – приказал вдруг мавляна.
– Но… это не мой конь… и потом Мирза Улугбек ведь сказал, что вам надо спрятаться… Да и сам я видел, что вас искал эмир Султан Джандар…
– Дай коня, говорю, или я пойду пешком!
– Но, устод…
– Ты сказал: устод. Пойми, что и я хочу видеть своего устода, не мешай мне, сын мой. Я не прощу себе, если не попрощаюсь с ним… Дай мне коня, Каландар!
Каландар недолго раздумывал, жажда немедленного действия снова захлестнула его.
– Тогда мы едем вместе. Я не могу оставить вас! Повелитель поручил мне оберегать вас, мавляна.
Каландар оставил табунщикам верблюдов как залог до возвращения двух коней. Взял у молодого табунщика чекмень и шапку, они пришлись впору. И, не теряя ни минуты, отправив к обсерватории одного Мирама, бывший дервиш и ученый пустились в путь.
Солнце поднялось уже на высоту тополя, оно, словно по распоряжению смилостивившейся над бедными людьми природы, грело не по-осеннему сильно. В небе распелись жаворонки. Но нежные белые паутинки, реявшие в прозрачном, все-таки не прогретом воздухе, напоминали, что весна далеко, да и лето прошло.
Али Кушчи и Каландар мчались степью, в стороне от обычной дороги. Надо было обойти Самарканд, но все равно его близость давала о себе знать. Степь была обжитой: то и дело им попадались пастухи и подпаски, лениво дремлющие в тени какого-нибудь холма; в золотистых рощах пестрели цветастые платки девушек и женщин, ветер доносил их голоса, крик и гам детей. Когда всадники спускались в ложбины, громадный высокостенный город скрывался из глаз, но, стоило выехать на косогор, он опять маячил перед ними и потом сбоку от них – по мере их движения в объезд Самарканда; с более высоких холмов они могли разглядеть, если бы остановились, даже отдельные дворы в городе, похожие издали на медные блюда, а сияние куполов мечетей медресе и усыпальниц сопровождало путников долго-долго.
Как мирны картины, встречавшие их, этих несчастных, гонимых сторонников Улугбека, будто и дела нет людям до бед и преступлений, творящихся за этой внешне безмятежной пеленой жизни. А люди на самом-то деле живут совсем не мирно, ненавидят, преследуют друг друга. Вот и с Улугбеком, повелителем-устодом, обошлись несправедливо, не по совести. Да, Али Кушчи предчувствовал это еще в ту ночь, когда устод неожиданно вызвал его к себе в Кок-сарай. Но то, что ему, ученому, астроному, не дадут даже близко подойти к обсерватории, которую он создал, – такой судьбы для Улугбека, судьбы изгоя, не предвидел и Али Кушчи…Если такова судьба повелителя, того, перед кем падали ниц, какой же будет его, Али Кушчи, собственная судьба? С ним и подавно церемониться не станут.
Почувствовав, как сердце его охватывает давний холодный страх, Али Кушчи обругал себя трусом и еще яростнее пришпорил коня. Даже на краю пропасти устод не позабыл о своем шагирде. «Велел оберегать меня, словно я особа, которой положены телохранители. Он не велел мне искать встречи с собой, но я не могу… не могу не услышать последних ваших напутственных слов, устод… Нет, нет, Али Кушчи не из низкого племени неблагодарных, не из тех, кто при виде чужого меча над своей головой трусливо бежит в кусты».
Через степь и рощи, через скошенные посевы и холмы всадники, сократив расстояние, выскочили наконец на дорогу, ведущую в Кешу. Но и здесь они пошли параллельно ей, по косогорам и полям. То навстречу им, то обгоняя их, мчались по дороге воины, и тогда осторожности ради они спрыгивали наземь и держались так, чтобы с дороги их не было заметно.
Когда солнце стало клониться к западной части горизонта, они миновали Димишк, и тут зоркий глаз Каландара заметил на дороге четырех всадников впереди; выехали из Димишка, видно, незадолго до них, ехали очень медленно, будто нехотя.
– Стойте, мавляна, воины!.. Обернутся, увидят нас, поскачут – догонят. У нас лошади притомились… Спрячемся?
И в самом деле всадники остановились, оглянулись, и двое из них пошли назад, к ним!
– Спустимся в лощину? – полувопросительно сказал Каландар. Но тут Али Кушчи воскликнул:
– Устод!
Он узнал переднего всадника по светло-серой чалме, конец которой развевался на ветру. Передний всадник вдруг резко прибавил коню прыти. И Али Кушчи, в свою очередь, пришпорил коня, помчался навстречу.








