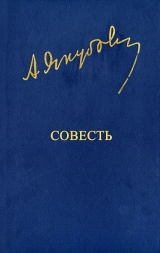
Текст книги "Совесть"
Автор книги: Адыл Якубов
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 41 страниц)
– Где вашему покорному слуге разбираться в камнях? Я могу только припомнить, что устод сказал о том, что камни остались у него от деда…
– От великого эмира Тимура Гурагана?! – степенный Ходжа Салахиддин даже подскочил на месте, щеки его залил румянец. – Принес ли уважаемый мавляна эти драгоценности с собой или припрятал?
– Разумеется, припрятал.
– Куда? – полушепотом спросил старик. – Ну, я имею в виду, в надежное ли место?
Перед Али Кушчи ожила картина: внутренняя комната в обсерватории, полки, полные книг.
– В надежное, уважаемый ходжа.
– Камни эмира Тимура! Да, мавляна, тут надо быть очень-очень осторожным… О камнях слышал только я, мавляна! Даже он не слышал! – взмах руки в сторону сына. – Только я, договорились?.. Самое надежное место – мой дом. Мы сойдемся в цене, я думаю.
Али Кушчи отвел глаза от разрумянившегося лица ювелира. «Правильно ли я сделал, сказав о драгоценностях Тимура Гурагана? Но как же иначе поступить? И кто обменяет мне драгоценности на деньги, если не Салахиддин? Его рекомендовал и устод, правда, вряд ли предполагая, что здесь так поступят с его посланцем».
Али Кушчи вдруг почему-то вспомнил о матери, приехавшей к нему сегодня, ее слова об опасности, которые угрожали шагирдам Улугбека.
И черный страх ударил холодом в сердце.
6
Мирза Улугбек ехал впереди своего войска на белом арабском скакуне – прошлогодний подарок правителя Багдада. Рати эмира Джандара и Султаншаха Барласа ушли вперед. Сам Улугбек вел несколько туменов, и, хотя в каждом не было точно десяти тысяч всадников, как полагалось по воинскому уставу, завещанному еще Чингисом, войско было большим, и степь содрогалась; за воинами вслед тащились оружейники, дворцовые слуги, бакаулы в крытых арбах; ржание коней, рев мулов и верблюдов, звон оружия сливались в общий грозный гул, как при землетрясении.
Обычно сановники и военачальники окружали султана. Сегодня они приотстали, будто не желая мешать думам Улугбека.
В одиночку скакал и Абдул-Азиз. То, настегивая аргамака, мчался вперед, то пускал коня в галоп и уходил в сторону невысоких холмов, что тянулись в степи сбоку войска. Он старался казаться беззаботно-спокойным, но лицо, бескровное, бледно-желтое, словно тигровая шкура, наброшенная на его коня, мятущийся взгляд, сама беспорядочность движений – все выдавало волнение, взвинченность молодого шах-заде.
Но ничего этого не замечал отец.
Не обращал внимания Улугбек и на нетерпеливое желание своего скакуна, откормленного, застоявшегося без походов и охот, ринуться вперед, не разбирая дороги, птицей помчаться по степи, порвав удила. Напрягалась по-лебединому прекрасная шея коня, резко и вразброс гремели колокольца на его холке и маленькие серебряные колечки на оторочке седла, но ничего этого не замечал всадник. Он опустил на грудь отяжелевшую голову; рука с привычной твердостью сжимала поводья.
…Третьего дня, в обычную теперь для него бессонницу, Улугбек сидел в библиотеке, листая книги. И натолкнулся на одно сказание…
Однажды прославленный на весь мир падишах Индии выехал на охоту. Была с ним свита, был и сын, единственный наследник. Падишах, посадив любимого черного беркута себе на плечо, помчался вскачь по берегу реки, а за ним князья и воины. Вырвался падишах вперед, один из воинов и начал кричать: «Остановись, повелитель, там в зарослях тигры!» Но падишах не послушал воина и все так же вскачь углублялся в заросли. Вдруг из-под копыт коня прыснули две золотистые лисицы и кинулись бежать перед всадником. А он, отпустив поводья, дал полную волю бегу коня. Лисицы внезапно умножились вдвое, потом обратились в восемь, и некоторые на бегу оглядывались на падишаха и скалили зубы, будто в насмешку. И тогда разгневанный властелин выпустил любимого беркута. Но тот – о неожиданность! – не глянув на лисиц, взмыл вдруг ввысь и низвергся оттуда камнем на самого падишаха! Кинжалом пришлось отбиваться властелину, да тщетно: улучив удобный момент, беркут вырвал ему правый глаз; бросив оружие, падишах прикрыл руками лицо, опасаясь за левый, и тут-то заметил, что это не беркут терзает его, а родной, единственный сын, одетый во все черное. Сын, обратившийся в беркута!..
Вот полных два дня прошло, а не уходит из головы это сказание. Словно нравоучительная притча оно.
Или опять припоминается дурной сон, давний, четверть века прошло, как приснился впервые. Тогда еще кипчак Барак-хан выступил против него, Улугбека…
Приснилось тогда, будто он, молодой в ту пору правитель Мавераннахра, убежал к мавзолею Ходжи Ахмада Ясави, что возвышается в городе Ясен, убежал от нелюбимой жены своей Угабегим. Одетая в яркие китайские шелка, побежала она за ним, звеня тяжелыми индийскими серьгами и багдадскими браслетами. Догнала на верху мавзолея, вцепилась в платье его, бесстыдно предлагая себя ему. Улугбек кинулся вниз, но не упал на землю, а, став птицей, полетел по небу. Но и Угабегим превратилась в стервятника, возобновила погоню. И снова метнулся Улугбек под защиту лазурного купола мавзолея, как вдруг с треском распалось надгробие хаджи и послышалось грозное: «Эй, Мухаммад Тарагай! (Так и только так называл его дед Тимур, потрясатель вселенной.) Эх, внук мой, престолонаследник Мухаммад Тарагай! Куда же ты? Стой!»
И Улугбек увидел деда: торчмя торчал он из чужой могилы, увенчанный остроконечным шлемом, разъяренный и… черный – от одежды ль, от гнева?
«Султан Мухаммад Тарагай! На то ли я надеялся, сажая тебя четырнадцатилетним юнцом на престол Ма-вераннахра?! А ну-ка ответь, правитель, зачем я воздвиг мавзолей, столь громадный в этой бесплодной степи? Отвечай!»
Грозно говорил это дед, всегда столь ласковый с ним, любимым внуком. Улугбек ответил:
«Чтобы порадовать светлый дух благословенного святого Ходжи Ахмада Ясави».
«Порадовать дух?! – загремел Тимур. – Не знаешь! Скажу. Чтоб страх навести, понял? На чернь, во первых! А во-вторых, на врагов моих извечных, золотоордынцев и кипчаков… Пусть смотрят на это до небес достающее надгробие, пусть трепещут перед мощью нашей и величием… Ну, а теперь гляди вниз: кипчаки и калмыки топчут эту священную землю, – глаза Тимура метали молнии, – враги овладевают городом!»
И было так на самом деле: увидел Улугбек с мавзолея тучи пыли, языки огня, что облизывали дома и лавки, блеск сабель свирепых степняков.
«Мавераннахр в огне и дыму! – закричал исступленно Тимур. – А ты со своей бесстыдной прелюбодейкой… что делаете вы здесь? Знай же, я возвел тебя на престол, я же низвергну тебя с него!.. Или ты прогонишь врагов, или отдашь престол!»
И Тимур стал вдруг расти, расти, выскочил из могилы и пошел к нему, Улугбеку. Тот в ужасе проснулся, будто вынырнул со дна преисподней, весь мокрый от пота… А самое удивительное, что на рассвете того же дня к нему явились посланцы джигиты из окраинного города Ясен, десять человек, прося помочь им, послать сильное войско против Барак-хана, что уже овладел их городом и соседним Сигнаком.
Неудачлив, ох как неудачлив оказался тот Улугбеков поход… И если бы не Каландар Карнаки, о котором он говорил ночью с Али Кушчи!.. Отважный воин-степняк Каландар спас его тогда от смерти, даже хуже, чем от смерти, – от плена. Что позорнее было бы для Тимурова потомка?! Каландар и его джигиты пробили тогда, в битве сигнакской, кольцо кипчакских воинов и, схватив его коня за поводья, вывели из окружения…
И давний дурной сон, и недавно прочитанная притча о черном беркуте – все одно к одному. «Неужели не будет удачи и в этом походе? О аллах, не лиши заступничества меня, раба своего!»
Уже в течение недели каждый вечер составляет он гороскоп – зойча, в движении звезд пытается предугадать свою судьбу, но она ускользает, покрывается туманом. То, что раньше казалось ясным, как день, ныне лишается определенного толкования. Или небеса не желают открыть ему тайну грядущего, или собственный его разум ослабел, высох, словно река в зной.
…Улугбек поднял голову, оглянулся по сторонам. Солнца не видно в тучах пыли. На холмах вдали и на близких нивах, где все было скошено подчистую, в садах и рощах, мимо которых шло войско, нигде не души. Точно перед набегом разбойничьей орды, все попряталось – и люди, и овцы, и собаки. Да и есть ли разница для кишлачника-дехканина, облагает ли его поборами войско победоносного Тимура, или справедливца-неудачни-ка Улугбека, или лихая степная ватага…
Сизый туман скрывал вершины гор, гряда которых рассечена перевалом Даван, и дорогу, что вела к нему.
Там, за грядой, родные места Улугбека, земля предков. И дед и внук особо заботились о Кеше, городе, где в мавзолее Ак-Сарай, сооруженном по велению Тимура, покоится прах первых барласов[22], зачинателей династии. А у подножия Давана дед разбил когда-то «Райский сад», «Баги бехишт». Там росли банановые деревья, пересаженные из индийской почвы, финиковые пальмы-египтянки, расточали дивный, истинно райский аромат китайские яблони; рощи душистых елей, росших ближе к горам, скрывали белых архаров, чьи рога нельзя было охватить и при полном размахе рук; в рощах бродили игривые тонконогие олени, газели с невинно-печальными глазами; в прозрачных родниках, в маленьких искусственных озерцах, полных хрустально-чистой воды, резвились золотые рыбки… Дед Тимур часто отдыхал в этом саду после походов: охотился в еловом предгорье, устраивал пиры, что поражали пышностью тех послов, которых благоволил приглашать сюда потрясатель вселенной.
Кто там сейчас, у горной гряды? Его ли военачальники или, может быть, уже и туда успели конники Аб-дул-Латифа? Бобо Хусейн Бахадыр, любимый нукер, до сих пор не принес вестей, а послан ведь был еще ночыо!
Кто-то сзади подъехал к Улугбеку, прикосновением к колену вывел султана из задумчивости.
– Прошу простить, повелитель, но пора делать привал. Не то упустим время вечерней молитвы.
Да, верно. Солнце уже садится, сгущаются сумерки, в воздухе похолодало, и, как вчера, задул холодный ветер, заставляя людей поеживаться. Вон и Абдул-Азиз, недавно столь прыткий, сидит на коне угрюмо, кутается в соболью шубу: с самого рождения такой – то весь кипит, не зная, куда себя деть от волнения, то замыкается, становится будто не от мира сего.
– Где сарайбон? – крикнул Улугбек сыну. – Передай, пусть распорядится насчет привала!
Вскоре войсковые барабаны прогремели остановку. По обе стороны от дороги разбили лагерь; воины собирались по десяткам и сотням, рассыпались в степи, там и сям загорелись костры; стали готовить ужин, и поплыл, согревая душу и тело, взбадриваемый осенним ветром запах кизяка, сухой травы, мигом собранного хвороста. Шатер султана – на добрую сотню человек – поставили под прикрытие Разбойничьей горы, на ее склоне, слева от караванной дороги. Ниже выросли палатки слуг. Они кололи саксаул, привезенный с собой, резали овец, бакаулы-повара готовили шампуры и мясо. К шелковому шатру султана в таких походах вечерами созывали всех эмиров и беков; на дастархан выставляли изысканные блюда, в золотых чашах плескалось вино, шипел разливаемый из бурдюков кумыс. Иногда приказывали явиться музыкантам и танцовщицам – тогда пир длился всю ночь. Сейчас же Улугбеку не до пиров. После вечерней молитвы он пожелал, чтоб его скромный ужин разделил с ним один лишь шейх-уль-ислам.
Шейх-уль-ислам Бурханиддин, сорокалетний мужчина без единого седого волоса в бороде, пользовался доброй репутацией среди близких Улугбеку людей. Он не был таким же мудрым и проницательным советчиком – мюршидом, как его отец, покойный шейх-уль-ислам Исамиддин, но, насколько мог и умел, поддерживал султана, предохраняя от козней и неистовства фанатичных улемов. Должность главного законника государства важна и уважаема, с ней приходилось считаться всем.
Бурханиддин, пройдя по мягкому ковру, брошенному поверх сухой травы, предстал перед Улугбеком.
От свечей, вставленных в переносный походный светильник, в шатре потеплело. Мирза Улугбек и Абдул-Азиз скинули верхнюю одежду.
По знаку султана шейх-уль-ислам занял место рядом. Лицо Улугбека было каменно-непроницаемым, печальным. Поникший сидел Абдул-Азиз.
– Что случилось, повелитель?
Тень удивления прошла по лицу Улугбека: к чему спрашивать, разве неясно, что происходит?
– Ас-салотин зиллолоху фил-арз[23]… Так сказано в коране. По воле всевышнего все уладится, повелитель. Печаль не должна овладевать сердцем владыки!
«И этот думает про то же самое… Про то, что печаль моя от страха за власть, за обладанье престолом. Непонятливые души!»
Улугбек взглянул на Абдул-Азиза и, словно стесняясь его, произнес:
– Печаль не может не владеть сердцем того, кто вынужден сражаться против собственного сына.
Шейх-уль-ислам понимающе качнул головой. Закинул назад конец тяжелой, распустившейся немного чалмы.
– Конечно, конечно, повелитель… Но воля отца – закон для сына. И если последний не поступает согласно сей мудрости, а это мудрость и корана и обычая, то родитель вправе по-своему судить отпрыска, проявившего непокорство.
Разве не знал Улугбек об этом праве? Знал, сам утешал себя этим правом, и все же слова шейх-уль-ислама несколько облегчили тяжесть, от которой страдала душа. А Бурханиддин, догадываясь, что сейчас надо говорить, продолжал степенно, рассудительно, будто внушая:
– Престол ваш, повелитель, и ничей, кроме как ваш! Держите же меч, поднятый во имя справедливости, во имя шариата, держите крепко, и да не задрожит ваша победоносная десница… Плохо, что нет вестей от гонцов, хоть мы целый день уже в походе. Что в Кеше? Что с нашими передовыми ратями? Есть сведения о них, повелитель?
И как раз в этот момент в шатер ворвался звук бешеной скачки, храп резко остановленного коня, яростные вскрики, видно, напуганных стражников. Кто-то вбежал в шатер; в полусумраке Улугбек не сразу разобрал, кто это был, а узнав, вздрогнул: «Эмир Джандар?!»
То же имя вслух выкликнул шейх-уль-ислам.
Они не ошиблись: на краю ковра, недалеко от входа, пал ниц, нелепо откинув на сторону кривую саблю, эмир Джандар, военачальник Улугбека, предводитель одного из авангардных отрядов. Шлема на нем не было. На бритой голове резали глаз давние сабельные шрамы.
Улугбек позабыл о сдержанности, вскочил с места, закричал яростно:
– Что случилось?! Почему ты в таком виде? Где конница?!
Эмир Джандар оторвал лоб от ковра, выпрямился; смелости посмотреть в глаза султану у него хватило.
– Повелитель, вели казнить, но не могу скрыть жестокую правду: наш авангард попал в западню!
– Какую, где?!
– Хитрый Абдул-Латиф спрятал в засаде не меньше десяти тысяч воинов, они ждали нас уже на перевале. Мы подошли, они словно коршуны напали сверху… и сзади… и проглотили наших… Силы были неравны, повелитель.
– Где Султаншах Барлас?
– О смерти своей знаю, повелитель, об эмире Сул-таншахе нет!
Улугбек застыл посреди шатра темной каменной глыбой. При неверном свете свечей за спиной черна была его бобровая шапка с жемчугами, черно лицо…
– Что, распластался?! – крикнул он Джандару. – Где шлем боевой, достойный эмир?.. Поправь саблю, вставай и убирайся!.. Полководцы! – тяжко задышал, двинулся, сжав кулаки, к Джандару. – Эмиры с сердцами зайцев!.. Боитесь наследника моего!.. Ладно, я сам поведу на него войско… Убирайся, говорю!
Джандар, пятясь, выбрался из шатра. Подавив слепую ярость – дедово наследство, – Улугбек обернулся к Абдул-Азизу. Тоже заяц! Сидит весь бледный, нахохлился, челюсть дрожит…
– Ступай и ты! – обратился Улугбек к сыну. – Скажи начальнику охраны, пусть соберет сюда всех эмиров. Да живее! – Прошел к своему месту, все еще дрожа от гнева, в глазах, в раздутых ноздрях прямого носа – решимость, озлобленность.
Шейх-уль-ислам осторожно спросил:
– Какое решение принял наш повелитель?
– Будем сражаться!
– Да снизойдет на вас благоволение аллаха!.. А где сражаться? Может, оставить здесь несколько отрядов во главе с достойными доверия эмирами, а главные силы отвести в Самарканд? Стены столицы могучи, а народ предан вам, повелитель…
Губы султана скривились в злой усмешке.
– Достойных доверия? Кто это? Назовите!
– Эмир Султаншах… и эмир Джандар… и…
– Еще?
– Нужно подумать, повелитель… Вам это виднее, чем слуге вашему…
– Э-э, виднее, не виднее… Слова, слова… Сейчас мы их всех увидим, верных эмиров, храбрецов.
Предводители туменов и тысяч один за другим вместе с придворными входили в шатер, занимали заранее известные, по издавна узаконенным правам знатности и порядка места. Первым вошел начальник войска правой руки эмир Идрис-тархан, мохнатобровый, волосатый и, как всегда, угрюмый; сел рядом с Бурханиддином. Толстый Искандер Барлас (живот словно шар), шумно дыша, явился вторым, просеменил по ковру, забился в угол потемнее. Эмир Джандар, теперь уже в шлеме, разукрашенном золотистыми насечками, увенчанном пером – знаком эмирского достоинства, ничем не напоминал того человека, что униженно валялся несколько минут назад на том же ковре, по которому сейчас прошествовал самоуверенно и высокомерно. По кивку Улугбека он сел чуть правее шейх-уль-ислама.
Расселись полукругом. В шатре установилось молчание.
«Вот они, надежда моя и оплот», – подумал Улугбек, оглядывая эмиров и вельмож красными от бессонницы глазами. В собольих и лисьих шубах, в дорогих парчовых халатах, в шапках бобровых или шлемах остроконечных, отделанных золотом, каменьями, пояса-то, пояса тоже золотые, серебряные, у сабель рукоятки непростые – из слоновой кости, с драгоценными вкраплениями. От Улугбека их богатство, их высокое положение. Скольким обязаны они ему! Но, выходит, правы мудрецы, полагающие, что ничто так не подрывает твоей верности, как обязанность оплатить благодеяния, тобой полученные. На кого из сидящих здесь можно и впрямь положиться, на чью искреннюю преданность можно рассчитывать?
Надо было начинать совет.
– Почтенные эмиры и сановники! – Голос Улугбека был сдержанно-спокоен, звучал, как всегда, глуховато, – Скажу сразу о нерадостной новости. Авангард наш попал в засаду на перевале Даван. – Улугбек обвел взглядом сидящих перед ним: кто как воспримет эту весть? Но все сидели с опущенными глазами и не проронили ни звука. – Иные эмиры, вот самое нерадостное для меня, перешли на сторону бунтовщика наследника… Это подло! Но говорю вам: кто испытывает страх перед шах-заде, неверие в силу мою, пусть тоже уходит. Клянусь аллахом, я не попрекну их ни своим хлебом, ни другими милостями…
Ни звука в ответ.
Улугбек иронически усмехнулся и продолжал:
– Да будет вам известно, что войско Абдул-Латифа превышает наше…
Первым не вытерпел эмир Джандар. Будто зашипел от оскорбительных намеков.
– Эмир Джандар? Что-то хотел сказать?
Джандар с несвойственным для себя проворством вскочил на ноги, поклонился.
– Что угодно будет нашему повелителю приказать, то мы и сделаем, воля благодетеля – закон… разве не так? Зачем говорить о перебежчиках… мы не они… разве не так?
– А что скажет эмир Искандер Барлас?
Тот поднялся, сложив руки на круглом животе, затараторил было:
– Прав, прав эмир Джандар… За всех нас сказал… Готовы, мы все., готовы, как один, выполнить вашу волю, повелитель… ваша воля…
– Моя воля? А ваша, ваша-то? Готовы исполнить – ладно, а где у вас собственные головы?
– В ваших руках, в ваших… – заученные ответы посыпались со всех сторон.
«Пока в моих… а сердца ваши коварные в чьих?» Снова всматривался Улугбек в своих сподвижников, в тех, кто должен быть сподвижниками. Обменялся взглядами с Идрисом-тарханом, с шейх-уль-исламом, другие отводили глаза. «Ждут, от меня решения ждут… Сами ничего не скажут».
Поерзал на месте шейх-уль-ислам Бурханиддин, но тоже промолчал.
– Воля моя такова: дадим бой шах-заде… Здесь дадим!.. Кто еще скажет что-нибудь, кто какой совет даст?
Ни звука.
– Кончим на этом! Готовьте свои отряды… Все свободны.
Эмиры, беки, вельможи только того и ждали – будто талибы по окончании урока, шумно повскакали с мест и, толкая друг друга, заспешили к выходу. Талибы? Лучше сказать, будто овцы, подумал Улугбек, давая знак задержаться шейх-уль-исламу. Остался и Абдул-Азиз.
Медленно прохаживался султан по ковру, не зная, что же теперь сказать, но чувствуя потребность в разговоре.
И снова топот коня за стеной, голоса стражи. Это гонец! Бобо Хусейн!
Шлем чуть сдвинулся от земного поклона, железная кольчуга зазвенела, когда воин пал на колени перед повелителем. Этот верен, этот не подведет, не предаст.
Улугбек дал возможность нукеру отдышаться.
– Ну, рассказывай…
– Повелитель… когда мы встретили бежавших… после битвы на перевале… то среди них увидели того, кто подставил наши передовые отряды под удар из засады.
– Где он?!
– Мы захватили эмира Султаншаха и двух его сыновей. Они хотели сбежать… Несмотря на то что эмир ранен, мы их… Мы не дали им сбежать, повелитель.
Улугбек зло посмотрел на Абдул-Азиза: эмир Султаншах был братом жены Ибрагима-тархана, сына которого беспричинно обезглавил шах-заде.
Абдул-Азиз съежился под гневным взглядом отца.
– Эмира я подвергну казни за измену и за кровь моих воинов… Но конницу не вернуть, вот что страшно, Бобо Хусейн. Что предпринять, как поступить теперь? Как ты думаешь, нукер?
Бобо Хусейн поднялся с колен, посмотрел прямо в глаза повелителю.
– Коли спрашиваете, повелитель, скажу. В открытом месте нам не одолеть шах-заде. Он умный, опасный противник. И хитростью действовать умеет. История с эмиром Султаншахом тому пример, – прозрачно намекнул Бобо Хусейн на то, что имеет в виду, говоря о хитрости наследника. – Надо идти в Самарканд, повелитель. Среди народа Самарканда труднее… хитрить… Если уж сходиться с шах-заде врукопашную, то под стенами города. По милости аллаха, может, и победим… с помощью ополчения, повелитель. А не победим, так не все проиграем: за городскими стенами отсидимся.
Улугбек заметил, как подтверждающе закивал головой шейх-уль-ислам Бурханиддин. Услышал, как вполголоса, запинаясь, сказал Абдул-Азиз:
– Д-дельный сов-вет…
Ну, этот-то, ясное дело, боится брата: попади он к нему в руки, Абдул-Латиф не посмотрит, что брат, быстро устранит соперника. «Какой ужас, – подумалось Улугбеку, – и это мои сыновья!»
Противоречивые чувства боролись в душе султана.
Он ведь сказал уже о битве, он дал приказ готовиться к бою. Но не один шейх-уль-ислам, вот и воин, опытный воин Бобо Хусейн советует отступить к столице. Бобо Хусейн уповает на ополчение. Но поднять чернь – значит еще больше поколебать верность эмиров. И все равно неясно, как одолеть Абдул-Латифа. Во всяком случае, рассудок подсказывает, что вдали от столицы сил у него, Улугбека, меньше и, если уж суждено им таять из-за измены, они будут таять здесь быстрее.
– Ладно, будь по-вашему! – Улугбек махнул рукой. – Абдул-Азиз, передай приказ – конницу прикрытия собрать воедино, она остается здесь под началом эмира Джандара. Остальным строиться и двигаться по прежней дороге назад к Самарканду…
Улугбек остался один. Какая эта по счету бессонная ночь? Скорее бы все кончилось! Так или иначе, но кончилось бы!
В шатре было душно, и Улугбек вышел наружу.
На востоке еле-еле начинало светлеть. Бледно-желтая полоска лишь слегка ослабляла свечение звезд, что густо рассыпались по всему небу. Яркие ночью костры потухли, войско словно растворилось в темноте, только палатки выделялись черными пятнами, да еще там, где пробивался робкий рассвет, можно было разобрать человеку с орлиным зрением движущиеся точки – пасущихся, распряженных на ночь лошадей и верблюдов. Вблизи же ничего не разглядишь. Лишь звуки доносятся ясно: то звякнут стремена какой-то лошади, то простучит колотушка ближнего часового.
Сложив на груди руки, Улугбек долго стоял перед шатром, смотрел на небо.
Звезды!.. Полвека уже влечет его к ним непонятная сила. Сколько часов отдал он наблюдениям за ними, и сколь радостны были эти ночи без сна!
Да, за полвека он стал кое-что понимать в их движении, неостановимом и таинственном. Чуть-чуть приоткрыл завесу этой тайны и думал, что, сделав это, приоткроет и тайны человеческих судеб. Вот уж где ошибся!.. Какие земные тайны мог он раскрыть, если злых вожделений у собственных детей не смог заметить, не смог понять вовремя, а, поняв позже, оказался бессильным противодействовать!
На горизонте, там, где начинался рассвет, ярко вспыхнула любимая Улугбеком Зухра – планета Венера. Выше ее тускловато блестит Муштарий – Юпитер. Если год рождения человека совпадает с противостоянием этих двух звезд, значит, считают астрологи, такого человека никогда уже не покинет хумо – птица счастья. Дед Тимур в самом деле родился близко от года противостояния этих светил. Был ли он счастлив, дед? Наверное, был, хотя все зависит от того, как понимать смысл слова «счастье». Удачлив в битвах за власть, а потом в мирозавоевательных походах, да, удачлив был в этом эмир Тимур Гураган. Наверное, так удачлив будет и его правнук. Во всяком случае, на голову внука птица хумо что-то давно не садится.
Грохот барабанов и рев карнаев разорвал тишину военного лагеря, что досматривал последние предутренние сны. Быстро – как учил Тимур, а прежде него еще Чингис – поднималось по побудке войско. Лагерь зашумел, словно осиное гнездо, разворошенное палкой.
Птица хумо не любит тех, кто идет назад, да еще той самой дорогой, по которой шел сначала вперед. Своенравная птица не любит неудачников.
7
Каландар Карнаки должен был явиться к шейху Ни-замиддину Хомушу на рассвете, пред утренней молитвой. Каландар точно выполнил приказ, но вот уж и день подходит к концу, и прозвучал призыв на молитву вечернюю, а его все еще не зовут со двора к шейху.
Внутренний двор дома шейха с одной стороны соседствовал с кладбищем «Мазари шериф», с другой примыкал прямо к мечети. Но сегодня шейх даже мечеть не посетил: приемные покои его дома целый день были полны посетителей. То были священнослужители, вельможи, эмиры и беки; сквозь их толпу нередко проходили какие-то гонцы – их звали вне очереди. Без конца отворялись двустворчатые массивные ворота, что вели в первый, внешний двор, отделенный от внутреннего еще одним забором с калиткой.
Во внутренний двор Каландару так и не удалось попасть. Он сидел на помосте у водоема, который был вырыт посредине внешнего двора и украшен по бокам мраморной плиткой, сидел терпеливо, поглаживая холодный камень, неосознанно наблюдая за теми, кто входит к шейху и выходит от него; еще он следил за работой молодых мюридов. Осенний ветер, стихший было к полудню, в предвечерние часы снова задул, как и все последние дни, в прежнюю силу. Ветер покачивал стволы чинар и серебристых тополей, срывал листву с их ветвей, разноцветный ковер лежал на площадке двора, на зеленой глади хауза, на клумбах, только дорожки подметали, тщательно и постоянно, мюриды. Гости шли по гладкой, точно полированной, земле.
Каландар отметил про себя, что до полудня к шейху приходили больше военачальники – надменные, словно раздутые от важности и самомнения; позванивали сабли на поясах, поблескивали из-под златотканых халатов блестящие панцири. А после полудня потянулись вельможи города. Прежде прочих явился со свитой, которой позавидует иной султан, сам даруга, градоначальник столичный, Мираншах; его злое красное лицо было под стать красной парче халата; в глазах Мираншаха Каландар заметил беспокойство и неуверенность. После визита градоначальника по двору проплыли горделиво и вальяжно, будто стая откормленных белых гусей, улемы, все в белых шелковых халатах поверх одеяний из лисьих шкур, все в белоснежных чалмах. Потом появился верховный судья – казни Ходжа Мискин. Тощий, угловатый, решительный; на поклоны мюридов не ответил даже кивком; выбрасывая далеко перед собой длинный посох, казий направился прямо во внутренний двор.
Что-то долго задержался казий у шейха Низамиддина. Может быть, совсем забыл о Каландаре святейший шейх?..
Первая встреча с шейхом Низамиддином Хомушем произошла у Каландара Карнаки весною этого года. Потеряв Хуршиду-бану, пристав к дервишам, что жили в странноприимном доме неподалеку от Шахи-Зинда, Каландар твердо решил тогда, что путь отрешения от мира сего и есть его путь. Рубище казалось ему одеянием, единственно достойным человека, раба божьего.
Да, еще в медресе в часы странной, нежданно овладевавшей им тоски Каландар завидовал дервишам – их далекости от страстей и вожделений посюстороннего мира, крепкой привязанности их помыслов к миру потустороннему. Дервиши довольствовались лохмотьями, куском хлеба и пиалою простой воды; нищие, у них не было иных забот, кроме как славить аллаха. Не имея ничего, они и не жалели ни о чем.
И ничего не желали для себя – так представлялось Каландару тогда и чуть позже, после того уже, как он сам стал дервишем.
Вскоре, однако, Каландар убедился, что вовсе не все дервиши – ангелы в образе человеческом, вовсе не все. Вечерами, возвратившись в обитель после скитаний по улицам и базарам, дервиши преображались. Из смиренных становились злословящими и драчливыми, любящими властвовать над теми, кто послабее. Из бескорыстных и невожделеющих они превращались в алчных и обуреваемых порочными страстями. Не раз видел Каландар, как дервиши доставали откуда-то из складок лохмотьев зернышки анаши и закуривали этот дурман, трепеща от предвкушения сладострастных видений, вызываемых им.
Из той, первой своей кельи Каландар решил сбежать, а потом – коварен ум, что понаторел в учении, – подумал, что увиденное им, может быть, тоже для него испытание, ниспосланное аллахом, что не надо верить глазам, а следует предаться внутреннему созерцанию истины, которая скрыта бывает под коростой внешне видимого. И для такого самоочищения, для тариката[24], стал забираться в самую укромную часть помещения, в котором жили, ночевали, молились дервиши.
В день, когда он встретился с шейхом, было так: он молился вдали от всех, в самом укромном углу, под низкими сводами. Внезапно бормотание дервишей в комнате смолкло. Каландар почувствовал настороженную тишину, но глаз не открыл, продолжая медленно раскачиваться, думать о погружении в истину. Тут его кто-то сильно толкнул в бок: «Эй, проснись, очумел, что ли?»
Каландар открыл глаза. Увидел у порога в келью высокого старика, одетого во все белое, с длинной белой бородой. Группа мюридов за его спиной одета была тоже в белое. Косоглазый дервиш по прозвищу Шакал, главарь их группы – это он прервал моление Каландара, – закричал вдруг на него, выпучив глаза и показывая рукой на старика:
– Кому говорят, поднимись, невежа! Наш духовный отец, святейший шейх Низамиддин Хомуш пожаловал к нам, осчастливил приходом нашу убогую обитель!
Каландар поднялся, но низкие своды не давали возможности вполне разогнуться, так он и остался стоять, наполовину согбенный, не отрывая взгляда от шейха. Ему казалось, что и шейх смотрит только на него.








