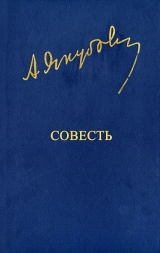
Текст книги "Совесть"
Автор книги: Адыл Якубов
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 41 страниц)
В ту же страшную ночь к ней пришел Абдул-Азиз.
До сих пор Хуршида-бану, если вспомнит горящие вожделением глаза шах-заде, его лицо, искаженное нервным тиком, его нескладное, длинное, малосильное тело, чувствует, как к горлу подкатывает тошнота…
Смахнув слезу с кончиков ресниц, Хуршида опять прислушалась к шагам во дворе. Но что это? Какой-то стук явственно донесся до ее слуха вроде бы с другой стороны. Будто кто-то постучал в окно, выходящее в сад?
Замирая от страха, Хуршида посмотрела на старую служанку, безмятежно спящую в углу комнаты: ждала-ждала, бедная, мавляну Мухиддина, который сказал, что скоро, мол, вернется, и не выдержала – заснула.
Хуршида на цыпочках подошла к занавешенному окошку.
Вот еще раз постучали. Так стучал когда-то Каландар, только он! Неужели?.. Что могло понадобиться дервишу Каландару?.. Хуршида оглянулась: старушка мирно спала, свернувшись в клубок, ровно ребенок… «Нет, это мне почудилось», – сказала сама себе Хуршида-бану, вдруг почувствовав острое разочарование, вспомнив сразу и то, как стучал когда-то Каландар в это оконце, и свою последнюю встречу с ним, у ворот; слезы снова навернулись на глаза. «Три раза подряд… небольшие перерывы… Так он стучал… А сейчас почудилось… Видно, это ветер… А в последний раз…»
Вот уж не думала она, что встретит Каландара в дервишеском рубище у ворот мужниного дома, хотя и слышала о том, что влюбленный в нее молодой мударрис оставил медресе и заботы грешного мира сего. Встретив Каландара, заросшего волосами, в ветхих лохмотьях, в старом-престаром треухе, она испытала тогда и острую боль, и жалость, и даже испуг. Она сама не знает, зачем захотела остановить Каландара, зачем вскрикнула «господин мой!» и как нашлась с этим объяснением про дурной сон. Муж ничего не заподозрил, кроме желания воздать нищему за нищету. В ту ночь нетерпеливые ласки мирзы, его, как обычно, жадные поцелуи были для нее, словно горькая отрава. Муж скоро заснул, а Хуршида неслышно проплакала целую ночь, и все грезился ей Каландар – и тот, в рубище, но с глазами, жарко вспыхнувшими при ее возгласе «господин мой!», и прежний Каландар, поэт Каландар, читавший ей стихи, робевший обнять ее в те счастливые минуты, когда они оставались одни в доме.
Счастье, счастье, где оно теперь, ее счастье, и возможно ли оно вообще?
Но что это? Опять стук! Опять… Раз, два… три!..
А старая спит… Раньше она первой выходила узнать, кто пришел, не Каландар ли, а уж тогда и Хуршида летела на свидание… Еще раз постучали, и опять трижды; стук и маленький перерыв, стук и маленький перерыв.
Хуршида-бану торопливо повязала пуховым платком голову, накинула душегрейку, сунула ноги в изящные кабульские кавуши. Тихо выскользнула из комнаты, потом из дома, миновала огромный, как в самом Кок-сарае, двор, еще освещаемый в поздний час каменными фонарями, и остановилась, тяжело дыша, перед калиткой в сад… Прислушалась. Всюду тихо, а из комнаты дедушки еле сочился тусклый свет, видно, уйдя в воспоминания, Хуршида и не услышала, как Салахиддин-заргар вернулся в дом и заперся у себя.
Женщина осторожно сняла цепочку и отворила калитку.
Никого! И дальше, у окошка ее комнаты со стороны-сада – тоже никого. С замирающим сердцем двинулась она ведомой когда-то тропинкой к орешине. Вдруг там, у дерева, словно ветка хрустнула. Хуршида остановилась, вгляделась в темное пятно под деревом. Едва различила фигуру человека с треугольным колпаком на голове… Он! Каландар!
Вмиг обессилев, Хуршида схватилась за ветви тальника у арыка… Тень под орешиной шевельнулась, замельтешила в путанице ветвей.
– Не бойтесь, матушка, это я, дервиш Каландар, – донесся шепот. – Хуршида-бану?! Это вы, госпожа?
Хуршида несмело подошла к орешине, вое еще не глядя на Каландара. Зачем-то разгребла накиданные у корней сухие ветки. Искоса посмотрела на стоящего рядом. Дервиш повернулся спиной к свету неполной луны, и, потому, наверное, могучая фигура его и заросшее бородой лицо казались мрачными, отпугивающе темными. Нет, непохоже это замкнутое, нахмуренное лицо на светлое ласково-печальное лицо прежнего Каландара. Только глаза были знакомые. Как будто излучали свет.
– Простите меня, госпожа, – Каландар смущенно кашлянул. – У меня к отцу вашему… к мавляне Мухиддину… небольшое дельце… Нельзя ли позвать его?
И голос был другим – чужой голос, незнакомый.
– Его… его нет дома. – Теплый комок слез подкатил к горлу. – Его увели в Кок-сарай… Нукеры приходили за ним.
– Нукеры? Когда?
– После вечерней молитвы… Четверо нукеров, – зачем-то добавила она.
А вот ее лицо для Каландара совсем не изменилось. Или в том виноват был лунный свет, что лился сквозь ветви старой орешины? Удлиненный овал, высокий чистый лоб, опушенные густыми ресницами глаза доверчиво и кротко смотрят из-под темных бровей, и все так же нежны губы, все те же маленькие ямочки по краям, чуть сверху, над концами губ… Нет, что-то все-таки изменилось в ней. Похудела, стала еще тоньше, стройнее.
Пристальный взгляд дервиша смущал Хуршиду-бану, она отвернулась.
Будто грустный напев звенел в душе Каландара, напев, который звенел в нем прежде, когда он встречался с девушкой наедине, думал о возможном счастье. Положив подбородок на сплетенные кисти рук, краснея и восторгаясь, слушала Хуршида его стихи, и эта ее поза, и стыдливая тяга ее к нему вызывали в душе Каландара ласково-грустный напев любви, более упоительный для него, пожалуй, чем призыв горячей, жаркой страсти.
«Не надо огорчать ее. Она ни в чем не виновата».
– Не бойтесь, госпожа, за отца. С ним ничего не случится!
– Да сбудутся ваши слова, – прошептала, все еще не глядя на него, Хуршида-бану. – Время уж за полночь, а о нем нет вестей…
– Уверяю: ни один волосок не падет с его головы!
Хуршида уловила что-то такое в голосе Каландара, что заставило ее наконец посмотреть ему в лицо.
– Откуда вам знать?
– Я знаю, госпожа. Знаю! Потому что…
Ясные глаза смотрели на него, блестя то ли от слез, то ли от лунного света. «Не надо огорчать ее. Она ведь ни в чем не виновата. Зачем ранить ее сердце еще и вестью о черной измене отца?»
– Что ж вы замолчали?
– Потому что… будет лучше, госпожа, если вы не будете знать об этом…
– Почему же?
– Потому что… то, что знаю я, вам не надо знать… Это причинит вам боль…
– Но зачем же вы начали говорить, если знали, что это причинит мне боль? – Хуршида-бану протянула руку и положила ее на согнутую в локте руку Каландара. – Говорите же, прошу, говорите, пусть даже меч занесен над моей головой!
Каландар опустил голову, он понял, что, промолчав, больше обидит, сильнее ранит ее сердце, чем сказав то, о чем решил было не говорить.
– Простите, Хуршида-бану, я очень, очень виноват перед вами…
– Не надо ворошить прошлое. Я не в обиде на вас. Все от аллаха…
– От аллаха! – Каландар рванул ворот рубахи, крепко потер шею, грудь, – От аллаха? Почему я не послушался вас, не согласился бежать с вами в свой край? Или почему не умер до встречи с вами где-нибудь в степи, раненный врагами в бою?.. Вот уж сколько месяцев терзаюсь я этим, Хуршида-бану… госпожа моя!
Хуршида промолчала: обиды оскорбленного сердца забылись, а сочувствие и тяга к Каландару, и понимание того, что уже ничего не исправишь, все это разом нахлынуло на нее. Он каялся в своей вине перед ней, он излил свою печаль, и сострадание к нему было в ней сильнее всех прочих чувств. И она испугалась вдруг этого нахлынувшего чувства больше даже, чем загадки появления Каландара здесь. Испугалась, что не выдержит – сейчас зарыдает.
– Так что же все-таки вы скрываете от меня? – переспросила Хуршида-бану. – Говорите же! Не бойтесь за меня: чему быть – того не миновать!
Каландар все еще медлил.
– Госпожа моя… Известно ли вам, что Мирза Улугбек казнен?
– Когда? – Хуршида испуганно отшатнулась.
– Уже неделю назад… И пал он от рук убийц, по воле собственного сына, шах-заде Абдул-Латифд.
«О создатель…» Хуршида-бану закрыла глаза, зашептала молитву. Мгновенно вспомнилось: гарем в Кок-сарае, Мирза Улугбек за тонкой шелковой занавесью, приглушенно-печальный голос: «Я наказал вашего оскорбителя… Что случилось, того не поправишь… Ваша воля, оставаться в гареме или вернуться в свой дом». И, когда она сказала, что просит разрешить ей вернуться, Мирза Улугбек опять извинился перед нею, передал привет отцу, а потом с непонятной ей грустью добавил: «Вы еще молоды… и прекрасны, дочь моя. Да ниспошлет вам всевышний счастье, воздав за страдания». И снова добавил: «Дочь моя…»
Дочь моя…
Хуршида облизнула сухие губы.
– Это ли не конец света, если сын предает смерти своего отца! Как это… мерзко и страшно!
– Да, и страшно, и мерзко… Сыновья – исчадия мрака. Но отец их, устод, поверьте, госпожа моя, словно яркое солнце, лучи мудрости его просвещали не одних мужчин, но и женщин…
– Истинно так, истинно, – прошептала Хуршида-бану.
– Устод Мирза Улугбек, желая сохранить сокровища, накопленные им за сорок лет…
– Сокровища?
– Да, сокровища науки – редкие книги, рукописи… вам, наверное, приходилось их видеть, госпожа?
– Приходилось… Я однажды даже переписала трактат повелителя…
– Так вот, за неделю до всего, что произошло… за неделю до… смерти своей… он поручил судьбу этого сокровища мавляне Али Кушчи. Тот же, зная о возможных опасностях, принял меры предосторожности, и об этих мерах осведомлены были в столице всего три человека.
– И один из них… мой отец? – догадалась Хуршида. – И вы опасаетесь теперь, что отец выдаст тайну?
– У меня есть основания для таких опасений…
– Нет, нет! – испуганно воскликнула Хуршида-бану. – Он не свершит такой низости!
– И все же я хотел бы поговорить с мавляной об этом деле…
– Но я же сказала, что он… что его… Вы говорите, что отец вернется из Кок-сарая целым и невредимым…
– Да будет так!
– Если он вернется, я сама поговорю с ним. Я сама!
– Тогда… Позвольте слуге вашему наведаться сюда завтра?
Ответа на этот вопрос он не получил.
– Мне нельзя не прийти. Мне нельзя не поговорить с вашим отцом. Потому что не только сокровища знаний, но и… жизнь мавляны Али Кушчи в руках вашего родителя!
– Я поговорю с ним, – снова сказала женщина, но в голосе ее уже не было прежней уверенности…
Каландар не в силах был уйти. Ему хотелось взять ее руку, прижать эту нежную, беспомощную руку к губам, хотелось упасть на колени перед Хуршидой-бану и говорить о любви, о пожаре, который все эти месяцы бушевал в его груди, и молить, молить о прощении. Но она же сказала: «Я не в обиде на вас… Все от аллаха».
«Как странно и жестоко устроена жизнь… Кажется, ничем не обделил творец Хуршиду-бану. Все есть – и красота, и богатство, и знатное имя. А вот малого нет – счастья! Обыкновенного, человеческого, женского счастья…»
Молчание затягивалось. Это почувствовала и Хуршида. Мягко сказала:
– До свидания, и да хранит вас аллах…
– До свидания, госпожа.
Она слышала, как шуршали под его ногами листья, пока дошел он до края оврага в самом конце сада. Тогда и она побрела обратно, домой. Сникшая, обессиленная, постояла у калитки. Прижалась лбом к холодной глине дувала, заплакала, сначала без слез, а потом наконец облегчающе обильными слезами.
8
О подвальных темницах Кок-сарая ходили легенды одна ужасней другой.
Но темница, куда привели Али Кушчи, ничем не походила, к его удивлению, на тесный и мрачный колодец, которым пугали воображение рассказчики легенд. Довольно сносная клетушка, ширина – две трети длины; по крайней мере, поначалу ему показалось, что «устроили» его даже просторно.
Ощупывая ладонями стены, неровные, бугристые, он обошел комнату. Ладно, роптать ему нечего. Самое плохое в том, что темница примыкала к дворцовой конюшне, откуда и сквозь каменные стены проникало трудно выносимое зловоние. А вот солнечного тепла эти стены не пропускали, так что было здесь и сыро, и очень холодно. Но что же сделаешь? Ведь его не на торжественный совет к устоду позвали в Кок-сарай, не на вечернее пиршество, не для занимательных и поучительных бесед в кругу поэтов и мудрецов – его привезли совсем в другое место и с совсем иной целью. Как было прежде, при Мирзе Улугбеке, так уже не будет… Один создатель знает, когда Али Кушчи выпустят из этой тесной кельи, да и выпустят ли вообще. Уйдет ли он живым отсюда или нет, а спасение было теперь одно, выход один – запастись терпением, терпением и терпением.
Терпением и выдержкой!..
Но выдержку обрести непросто. Как ни старался Али Кушчи унять себя, он уже томился здесь, томился, словно птица в клетке, он то и дело ловил себя на том, что нетерпеливо расхаживает из угла в угол, бесцельно растрачивая силы. В темноте он спотыкался, иногда ударяясь о стену то плечом, то даже лбом. Не один раз он зачем-то ощупывал массивную дверь, открыть которую можно было только извне; ему казалось, что в комнате не хватает воздуха и что он вот-вот задохнется. Потом он приходил в себя, замедлял шаги, призывал на помощь разум, убеждая себя, что необходимо терпение, терпение, терпение, что нет ничего другого, кроме терпения, а через минуту-другую вновь беготня по камере, вновь муки бесплодных метаний. Наконец силы оставили его и он прилег на ветхую циновку, брошенную в угол.
И сразу же вспомнилась мать.
Вчера вечером Тиллябиби опять пришла к сыну в обсерваторию. От самого Ак-сарая, Белого дворца, что недалеко от Гур-Эмира, шла. И принесла любимое кушанье Али – плов с горохом. Он велел Мираму Чалаби разжечь очаг, сам расстелил одеяла для того, чтоб матери удобнее было сидеть. Потом все втроем они расположились вокруг сандала, расстелили дастархан. Комнату заполнил ароматный запах плова, чуть посыпанного черным перцем и другими приправами. А потом… потом четверо нукеров… грубые их приказы одеваться, не мешкать, ничего с собой не брать, долго не прощаться! И враз обессилевшая, оцепеневшая мать… Откуда вдруг взялись у нее силы: она вскочила, метнулась к сыну, задержавшемуся у порога, обняла его, крепко обхватила за шею, вцепилась – не оторвать!
Вспомнив ее объятия, беззвучные рыдания ее, слезы, что залили морщинистое лицо, Али Кушчи сжал кулаки и тихо застонал. Закрыв глаза, он долго сидел, не шелохнувшись, в углу своей, да, теперь своей темницы…
Терзаться так было нельзя. Бессмысленно, неразумно растравлять раны. Суетливость – сейчас самый опасный его враг.
«И чего ты мечешься, Али? – вновь стал уговаривать себя мавляна. – Если ты страшишься зиндана, то зачем принял поручение устода, опасное поручение?
Раз взялся за опасное дело по доброй воле, по велению разума и совести, раз ему нужно было во имя науки, во имя света разума сохранить для потомков сокровища Улугбека, пусть хоть один луч из лучезарного богатства, то… то чего же сейчас дрожать?»
Ну вот, он уже может и подтрунивать над собой:
«О, учёнейший мавляна, мудрейший из мудрых! А ведомо ли вам, что темница, где вы столь свободно передвигаетесь, где вы обладаете собственным ложем, есть всего лишь начало тех прелестей, кои ждут вас в дальнейшем? Кто, кроме всевышнего, знает, досточтимый Али, что еще придется вытерпеть тебе? Может, тот самый меч, которым обезглавлен был благословенный устод, разлучит твое прекрасное тело с твоей мудрейшей головой, или, быть может, ты останешься жить… в этом или каком-нибудь другом, более удобном каменном мешке, сыром и темном, словно могила. Останешься жить, но с этой поры никогда уже не увидишь бескрайнего простора неба, мигающих в ночи далеких звезд… Останешься жить, но не обнимешь больше ни друзей, ни родных, ни матери!.. Да, ты испытаешь все, что тебе суждено испытать!»
Опять прилив горечи поднял было его с циновки, но на сей раз он заставил себя остаться на месте. «Терпение, терпение, дорогой мой Али!.. Прошел ведь всего один день заточения, один, а сколько их еще впереди!.. Что ж с тобой будет, мудрейший из мудрых, если ты не наберешься терпения на годы, на годы!.. О нет! Если на годы, то молю, создатель, забери бедного раба своего уже сейчас, не лишай его счастья годами не видеть неба и звезд, проникать разумом, что ты дал ему, в их удивительные тайны!»
Али Кушчи явственно представились обсерватория, фигура учителя за работой, и будто стало светлее в узилище.
Усталость, вызванная государственными заботами, тоска, томившая сердце, – все отступало, уходило прочь, когда устод приходил в обсерваторию. Он забывал обо всем, работал самозабвенно, обычно до рассвета. Иногда же, отрываясь от научных занятий, от наблюдений, брал в руки любимый танбур. Устод был настоящий виртуоз в игре на танбуре, тонкий мастер. Надев на указательный палец золотой медиатр[34], Улугбек начинал слегка тревожить, пощипывать струны, и человек, слушающий этот разговор струн, вдруг замечал, как овладевает им светлая, тихая, будто осеннее солнце, печаль, как сжимается горло от внезапно подступивших слез, но слезы эти не разъедали душу, а, наоборот, смывали тоску и грусть, и хотелось под эту неизъяснимо печальную мелодию, творимую устодом, как же хотелось быть лучше, быть чище и добрей, чем ты есть.
Устод и сам не стеснялся слез, он вытирал влажные глаза и говорил, откладывая танбур в сторону:
– Удивительная сила в музыке… Часто я раскаиваюсь, что пришел в сей мир, часто соглашаюсь с теми горькими мыслями, что столь хорошо выражал достославный Омар Хайям:
Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим?
Бегущей жизни смысл, увы, непостижим!
Но стоит услышать хоть однажды «Чоргох», и чувствую я, как исчезают эти мысли, чувствую себя чистым, словно ребенок, и хочется жить. Али, так хочется жить! Разве не счастье, сын мой, Али, услышать одну только эту мелодию. Да, истинно велик разум человека, если благодаря ему человек способен создать такую красоту»
Али Кушчи ощутил вдруг зуд в ногах. Снял ичиги, ощупал изнутри голенище, провел рукой по циновке и брезгливо отдернул ладонь: так и есть, к сырости пола, затхлости воздуха добавились теперь еще насекомые – блохи, клопы, тараканы…
Наверное, наступил рассвет. Чтобы проверить предположение, Али Кушчи постучал в дверь, желая испросить воду для предмолитвенного омовения. Ответа не последовало. Мавляна потер ладонями по сырой земляной поверхности пола, снял и расстелил на полу свой чекмень вместо молитвенного коврика, прочитал молитву.
А сколько в самом деле прошло времени с тех пор, как он появился в этом узилище? Наступил ли рассвет, или ему только показалось? И снова пугающая мысль: если так тяжко дожидаться первого рассвета в темнице, то что же испытывают узники, заточенные на всю жизнь?..
Мгновения тянулись теперь для Али Кушчи ужасающе медленно, и казалось ему, что отныне нарушен закономерный круговорот времени, что в самой природе приостановилась извечная смена захода восходом, ночи днем, тьмы светом: все окружающее словно застыло недвижно и нерушимо. Были, конечно, признаки, по которым он догадывался, что время течёт, что вслед за ночью приходит день: с вечера больше клопов и блох выползало из щелей; еще о движении времени говорило и маленькое, размером в ладонь, оконце в окованной железом двери – оно дважды за сутки, по-видимому, через равные промежутки в часах, приоткрывалось, и стражник подавал узнику воду в оббитой по краям глиняной чашке и овсяную лепешку. Невелика она была, эта лепешка, опрокинь пиалушку на нее, и лепешка спрячется. Али Кушчи умудрялся в первые дни заточения обходиться половиной воды, которую ему давали, другой же половиной увлажнял лицо и руки. А маленькую лепешку делил на три части, ел в три приема, да еще запивая глоточком сбереженной воды!
Кажется, на четвертый или пятый день, наверное, ночью, потому как, навоевавшись с насекомыми, он вроде бы и заснул, Али Кушчи услышал звон цепных запоров, жалобный скрип железной двери. Появились люди с факелами.
Свет факелов резал глаза. Али Кушчи прикрыл их руками. На пороге стоял есаул, косоглазый и со шрамом, рассекающим губы (где-то видал Али Кушчи этого человека?), рядом – эмир Султан Джандар собственной персоной, а за ними два воина держали факелы.
Чадящие факелы хорошо освещали крепкую фигуру эмира Джандара, его бобровый тельпек с красной кисточкой на маковке, знак эмирского достоинства, серебристо сверкающий пояс на синем суконном чекмене, красные сафьяновые сапоги. Султан Джандар сделал было шаг вперед, но, передумав, остался у порога в темницу. Чуть прищуренные глаза его вглядывались в темноту.
После нескольких мгновений молчания эмир Джандар, качнувшись крупным своим телом вперед, громко произнес:
– Мое почтение мудрейшему из мудрых Аляуддину ибн Мухаммаду Али Кушчи!
«Этот индюк смеется надо мной, – подумал Али Кушчи. – Предатель! Недавно был столь близок к повелителю, втерся в доверие. А теперь… Смеется надо мной, негодяй». Али Кушчи, хоть и знал, что играет со смертью, не сдержал колкого ответа:
– Рад лицезреть в этом райском цветнике правую руку великого повелителя, сиятельного султана Улугбека, эмира Султана Джандара-тархана!
Эмир Джандар поморщился и быстро, прыжком пересек темницу. Навис над узником, будто скала, готовая сорваться. Рука на эфесе сабли.
– Мавляна Али, – теперь эмир говорил медленно и жестко, без насмешки. – Эмир Джандар далек от премудрых наук, он всего лишь грубый воин. Но вы… но вас я уважал как мудрого человека, истинно ученого… Приходится сожалеть, что я жестоко ошибся!
– Увы, наши ошибки схожи… Ваш слуга тоже считал вас одним из самых верных эмиров нашего повелителя, от коего видели вы немало милостей. Как жаль, что я столь жестоко ошибался!
Эмир был изумлен. На какой-то миг он испытал даже нечто похожее на восторг. А потом, наполовину вытащив из ножен саблю, повернулся к есаулу, грозно выставив вперед кончики красивых подковообразных усов, кивнул головой: веди, мол, узника!
Сам повернулся на каблуках, со стуком загнал саблю в ножны до рукоятки и, не удостаивая больше никого взглядом, стремительно вышел из темницы. Есаул тихо, но внятно сказал:
– Идите за нами, мавляна!
Али Кушчи повиновался.
9
Вместе с приказом о заточении Али Кушчи в зиндан Абдул-Латиф отдал и другой: и без того отрезанную от мира обсерваторию и медресе Улугбека запереть на замок, всех талибов распустить по домам, а за учеными мужами установить неукоснительную слежку. Рука шах-заде, скрепляющая такое распоряжение именной печатью, не дрогнула: после визита шейха Низамиддина Хомуша Абдул-Латиф обрел желанное спокойствие. В столице и особенно в Кок-сарае жизнь постепенно входила в колею. По утрам к шах-заде являлись засвидетельствовать нижайшее свое почтение сановники и военачальники, беки и эмиры. Высокомерные эти вельможи, облачив телеса в парчовые, сверкающие рубинами и жемчугами халаты, в лисьи и собольи шубы (изукрашенные по верху опять же дорогой парчой), нахлобучив бобровые или из серебристого беличьего меха шапки, а то и степные малахаи, отороченные лисьими хвостами, приходили в Кок-сарай, в знаменитую залу приемов – салям-хану, выстраивались в ряды, словно нукеры на поверке, и покорно ожидали выхода главы государства. При появлении шах-заде сгибались в три погибели, отвешивали поклоны столь низкие, будто не молодого шах-заде встречали, а самого Сахибкирана, эмира Тимура Гурагана. А как чутко ловили вельможи каждое слово Абдул-Латифа, как старались, чтоб замечены были их восторженно-всепреданнейшие взгляды, к нему обращаемые!
Однажды утром пришли посланцы столичных купцов. Именитые торгаши предстали пред очи молодого повелителя не с пустыми руками: дары унаследовавшему престол – горы шелковых, парчовых, суконных и всяких прочих тканей, тюки индийского чая, фарфоровую посуду, изготовленную китайскими мастерами, – приволок на дворцовый двор небольшой караван верблюдов. А лишь удалились торговцы, пожелавшие шах-заде здоровья и счастья, долголетия и славы, сарайбон объявил, что для выражения своей преданности просит допустить его к повелителю поэт Мирюсуф Хилвати.
Абдул-Латиф кое-что слышал о поэте Хилвати, даже, кажется, некогда перелистал сборник его стихов. И хотя пора было отправляться в соборную мечеть, шах-заде, чему-то обрадовавшись, решил задержаться в салям-хане и принять поэта.
Толстый, округлый человек в длинном халате из ткани «банорас», доходившем до пят, и в ковровой островерхой тюбетейке пал на колени у самых дверей и принялся забавно прикладывать ладони то к полу, то к лицу. Суетливое это подобострастие выглядело шутейно; шах-заде невольно засмеялся и милостиво позвал поэта к своему креслу. Но Мирюсуф Хилвати остался на коленях у порога; закрыв глаза, как бы не в силах вынести блеска, исходящего от того, кто сидел впереди на троне, поэт, не меняя позы, заговорил так быстро, будто губы его не успевали прикоснуться друг к другу:
– Ваш всепокорнейший и трижды смиреннейший слуга сочинил стихи, посвященные вам, светочу и обители справедливости, вам, перлу и диаманту в короне великого султанства Мавераннахра, вам, падишаху изящного слова и его щедрому покровителю, и если благодетель соблаговолит услышать их, то я…
– Нельзя не обрадоваться, когда султан слова, поэт… Хилвати… преподносит нам свое творение, – шах-заде улыбался так, как должен был, по его понятию, улыбаться истый покровитель изящного и душеспасительного слова. – Встаньте, встаньте, дорогой поэт!
Мирюсуф Хилвати наконец поднялся, правда едва не наступив на полу длинного халата и чуть не упав при этом – уже в прямом смысле слова – к ногам повелителя, что продолжал милостиво и снисходительно усмехаться. Но вот поэт оправился от замешательства, вынул скрытую до поры до времени под мышкой, завернутую в шелк книжечку, степенно откашлялся. Красные, подобно гранату, щеки его раздулись, и Хилвати громко произнес:
Победоносный прадед ваш прославлен целым миром.
Меч гнева божьего, он был лучом на небе сиром!
Султан безбожный дерзко длань на тайны бога поднял
И был низвергнут тем, кто царствует сегодня.
О, славный правнук – веры меч, вас жаждет славить мир!
Вы в перстне камень дорогой, сияющий сапфир!
Когда Хилвати добрался до последней строки сочинения, голос его совсем уж срывался на петушиный крик, а глаза с испугом и мольбой о пощаде воззрились на Абдул-Латифа. Шах-заде невольно воскликнул:
– Славно, славно сложено!.. Хвала вам, дорогой поэт, хвала!
Шах-заде знал толк в поэзии, сам порою занимался сложением стихов и даже написал собственный диван, не торопясь, правда, к известности, особенно в кругу шейхов и маддохов. Ну да, насчет сапфира в перстне у Хилвати не без ловкости было сказано, однако шах-заде нравились стихи тонкие, полные завуалированного смысла, а тут неприкрытое, откровенное подобострастие, поэтически неуклюжее к тому же. Но шах-заде, воспрянув душой благодаря усилиям Низамиддина Хомуша, имел намерение в не столь отдаленном будущем сделать и свой двор средоточием поэзии, отнюдь, конечно, не вольнодумствующей, как то было при отце-вероотступнике, но угодной богу, а что касается роскошных пиршеств – со стихами и музыкой, а не только с обжорством и пьянством, – то их тоже следовало возродить. И поэты на них были бы украшением не меньшим, чем танцовщицы-рабыни… Так что пусть плоховаты рифмы у этого запуганного виршеплета, а все-таки первой ласточке и впрямь хвала!
Шах-заде приказал подарить поэту парчовый халат и пригласил Хилвати посетить соборную мечеть в собственной свите повелителя.
Да, сегодня он, шах-заде, новый повелитель Мавераннахра, должен был по совету шейха Низамиддина Хомуша посетить мечеть Биби-ханым, дабы обратиться к собравшемуся там множеству людей с первой своей – царственной – проповедью. Сегодня шах-заде вообще впервые после победоносного водворения в Кок-сарае покидал дворец, и потому был приказ усилить охрану, особенно же личную, многократно. Сарайбон подготовил больше полусотни всадников, к ним присоединилась обширная свита придворных. И, когда пышная кавалькада выехала за ворота Голубого дворца, все вокруг заглушил топот коней, казалось, по этому шуму и столбам пыли, поднявшейся над улицами, что едет целое войско. Впрочем, мало кто видел это великолепие: город был все еще пустынен, торговые и ремесленные мастерские, лавки, что тянулись от Кок-сарая до мечети Биби-ханым, были сплошь закрыты ставнями, и лишь кое-откуда, главным образом из мастерских, гончарных и каменотесных, доносился еле различимый стук, и даже на площадях, на уличных перекрестках народу было всего ничего. «Боятся? А кого боятся?» – подумал об этой невеселой и подозрительной закрытости города шах-заде. Было отчего смутиться, и он решил, что непременно прикажет градоначальнику Мираншаху открыть ставни всех лавок.
Проезжая через Регистан, Абдул-Латиф опять испытал неприятное волнение: взгляд его упал на пустую, до блеска вычищенную площадку перед медресе Улугбека, перед отцовским ненавистным медресе, и припомнилось почему-то, как на исходе ночи после убийства пришел к нему в покои со зловещим мешком Султан Джандар. И ухмылка его загадочная припомнилась… Страх снова пронзил всадника, он натянул поводья, вцепился в луку седла. Пришел в себя лишь перед соборной мечетью.
У высоких и массивных двустворчатых ворот мечети Биби-ханым шах-заде был встречен целой толпой сановников города во главе с Мираншахом и столпами веры– почтенными улемами, шейхами и прочими, впереди коих стоял Низамиддин Хомуш.
Молельный двор мечети – большой, тысяч на десять – был полон людьми. В одном углу двора сбились дервиши, в другом – просто нищие, чернь, голодранцы с ближайших базаров и улиц, но вся эта братия составляла меньшинство – сегодня в мечети, в основном, собрались люди почтенные – улемы, богатые торговцы, чиновники, знать, имамы окрестных мечетей; все они были в белом – белых чекменях и покрывалах поверх разноцветных парчовых и бархатных халатов.
Величественная, приятная глазу и сердцу картина!
Шейх Низамиддин Хомуш взял шах-заде под руку, провел его мимо склоненных долу белых тюрбанов к мраморной трибуне в центре двора. Великолепный портал здания мечети вздымается ввысь за спиной того, кто стоит на трибуне, а перед ним – мраморная подставка в виде огромной книги, на этой подставке святой коран, «Калломуло-и-шариф», в золоченом переплете.
Люди ждали от шах-заде проповедь – хутбу.
И он произнес ее. Он на память приводил стихи из корана, изречения из хадисов; проповедь же его состояла в том, что врагам ислама он пожелал гибели; далее он провозгласил, что отныне в Мавераннахре начался век истинного торжества веры, время счастья всех подлинных мусульман. Отныне и во веки веков! Последние его слова утонули в набежавшем, как огромная морская волна, грохоте совместного торжествующего возгласа множества голосов: «Илахи аминь!» – и гулкое эхо покатилось под своды.








