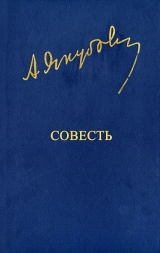
Текст книги "Совесть"
Автор книги: Адыл Якубов
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 41 страниц)
– Каких шагирдов имеет в виду светлейший шейх?
Шах-заде присел наконец на краешек кресла.
– Какие слухи зловредные ни рождались бы в народе, какие бы дурные дела и беззаконные заговоры ни замышлялись… против трона… – шейх повел в сторону трона рукой в тяжелых четках, – все это идет от тех мудрецов, что избрали нечестивый путь, мой шах-заде!.. Правильно, богоугодно было казнить султана-вероотступника, и это сделал сын мой духовный. Но бельмо на глазу осталось! Все эти ученики, что гнездятся в нечестивых медресе, в исчадии богохульства – обсерватории, – вот это бельмо!
Шейх смотрел снизу вверх на Абдул-Латифа, который сидел на тронном кресле прямо, тоже устремив взгляд в одну точку; лицо без кровинки, губы плотно сжаты, пальцы рук впились в колени.
– О, милостивый и всепрощающий шах-заде!.. Ведь надо знать, кого прощать и за что… Ведомо ли шах-заде имя Али Кушчи?
Абдул-Латиф кивнул: ведомо.
– Шайтаноподобный шагирд сошедшего с истинного пути Мухаммада Тарагая до сей поры мутит умы, грязнит чистых! До сих пор сидит в обсерватории. Ваш пир, повелитель, услышал худшую весть: сей вероотступник вывез оттуда святотатственные книги и где-то их спрятал…
– Где же?
– Ежели всепобеждающий султан не знает, как про то может знать раб аллаха? – Низамиддин Хомуш позволил себе чуть-чуть улыбнуться: незаметно, краешком губ. «Всепобеждающий султан – вот этот?..» – подумал он иронически, но взгляд его, не отрывавшийся от лица Абдул-Латифа, выражал теперь смирение перед величием повелителя.
Льстивые слова пришлись по нраву шах-заде. Шейх продолжал:
– И еще одна весть, шах-заде: из казны эмира Тимура – да воздаст всевышний должное великому воителю за веру истинных мусульман! – из казны прадеда твоего пропали сокровища… Верно ли это?
Шах-заде кивнул: верно.
– Так вот, знай, шах-заде, султан-вероотступник отдал их своему нечестивому шагирду! Гордец Али Кушчи, сказывают, спрятал их в том самом гнезде богохульства – в обсерватории. Знают о том два человека. Один – прежний шагирд Мухаммада Тарагая мавляна Мухиддин. Раскаялся сей ученый. Смиренно признал пагубность прежнего пути и снова встал на истинный… Он жертва… А второй – раб божий дервиш Давулбек… Пожелаешь, пошлю его к тебе, послушным и преданным будет рабом.
– Осчастливите меня этим, мой пир!
Шейх уперся в подлокотники кресла, поднялся… Выражение твердости, решимости сменилось на лице его выражением отцовской ласковости, благорасположения.
Шейх был очень, очень доволен беседой. Ну, разве можно было бы представить себе что-нибудь подобное раньше, при Мирзе Улугбеке? Улугбек просто не дослушал бы шейха, начал бы сам учить его уму-разуму, как необразованного, темного имама какого-нибудь. А шах-заде совсем по-иному держится… Сидит, внимает.
Шейх уже больше года находился с Абдул-Латифом в тайной переписке. Склонял его к мятежу тоже он, шейх. И все же побаивался, что почтительность шах-заде к нему – лишь до завоевания трона, а после как бы не взыграла в духовном воспитаннике прадедова кровь, Тимурово коварство, истовое желание ни с кем власти не делить… Но нет, шах-заде ныне смятен и податлив. Мягче шелка. Ох, благо, благо, коли и дальше так будет! Не приведи аллах, возгордится шах-заде, как и родитель его!
– Благословенный шах-заде, – голос Низамиддина Хомуша ласкал, нежил, обволакивал, – благословенный шах-заде, есть у меня еще один совет, коль вы сочтете нужным выслушать его.
– Слушаю вас, пирим. Раб аллаха всегда был внимателен к советам вашим…
– Султан – тень аллаха на земле, шах-заде… Благосклонности аллаха удостаивается тот правитель, кто следует пути пророка и нигде не сворачивает с него. Потому Абдул-Латиф – султан, повелитель сего государства. И долженствует султану, ревнителю веры истинной, явить и гнев праведный. В зиндан всех этих людей науки! Всех, возмущающих умы и совесть!.. А все книги, что, как зараза, пришли к нам из чужих стран, в огонь! Все до единой!
Шейх не сдержался. Он начал кричать и размахивать руками.
– И пусть днем и ночью тебя снедает это богоугодное желание! Или ты уничтожишь нечисть и тем возрадуешь дух пророка нашего Мухаммеда, или вероотступники сбросят тебя с трона!.. Но не удастся, не удастся! Благословение высокого нашего учителя ишана Убай-дуллы Ходжи Ахрара с нами… Ясна ли моя речь, шах-заде?
– Ясна, мой пир.
– И извергни отныне из сердца своего сомнения, ибо все правоверные Мавераннахра молят за тебя всевышнего! – воскликнул Низамиддин Хомуш. – Должно показать себя народу, шах-заде, а не проводить долгие часы уединенно в этих чертогах… Должно посетить гробницы святых, постоянно навещать мечети, а в главной, соборной, каждую пятницу проповедовать, дабы, видя и слыша своего повелителя, возрадовались бы истинно верующие. А смутьяны и нечестивцы убоялись бы, опять скажу, гнева праведного… Да позволит аллах свершиться всему этому!
Шейх поднес ладони к лицу.
Потом чуть враскачку двинулся к выходу. Абдул-Латиф хотел было проводить наставника, но тот остановил его знаком – нет необходимости…
Шах-заде почувствовал усталость. Но эта усталость была совсем иной. Успокоение пришло. Он знал это по сладкой истоме тела, по слипающимся сонным глазам. Приоткрыв их, удивился – эта громадная зала, казавшаяся ему недавно темной и враждебной, сияла, словно под солнечными лучами: и бирюзовые краски сводчатого потолка; и радостно-изящные, какие-то сладострастные даже росписи на стенах; орнаменты, изгибавшие свои золоченые линии; золоченые кресла вдоль стен; ширазские ковры на полу – золото, яркость, благородная светлая желтизна – разве все это не знак власти, удачливой силы?! Чего же ему бояться? Он воевал за эти золотые хоромы, за султанский трон. И вот он здесь. И еще воевал он за то, в самом деле, чтоб изничтожить всех нечестивцев! Он проявил жестокость? Но того и требовал шариат! Ему, Абдул-Латифу, некого и нечего бояться!
Громко застучал он колотушкой, призывая сарайбона, а когда тот явился, передал через него приказ: послать гонца к эмиру Султану Джандару. Пусть эмир сразу же отправляется в обсерваторию.
Схватить этого нечестивого Али Кушчи и его учеников! В зиндан их, немедленно в зиндан!
6
Примерно с неделю прожил Каландар Карнаки у Тимура Самарканди. И никуда не выходил из пещеры, нигде не показывался.
Днем Каландар помогал кузнецу: то раздувал мехи, то держал на наковальне тяжелую поковку, то сам стучал большим молотом, придавая раскаленному железу нужную форму.
Каландар научился чинить котлы, кумганы, чайники. Полюбил он и приготовление чая – дело не простое, а главное, с пользой убивающее время. Чаю нужно было заваривать много: в пещеру к Уста Тимуру по вечерам обычно собирались соседи-ремесленники – кузнецы, изготовлявшие подковы и гвозди, слесари, жестянщики, каменотесы, резчики по кости и дереву, чеканщики и сундучники. С небогатыми гостинцами наведывались братья Калканбек и Басканбек, и тогда, казалось, вода в черном кумгане над огнем бурлила особенно сильно, и под стать ей живо бежала беседа. Новости из. Самарканда не радовали, правда: мастерские ремесленников и лавки торговцев были все еще закрыты из-за страха перед грабежами, цены росли с каждым днем.
Беседа после «ахов» и «охов» снова сворачивала к последним дням Мирзы Улугбека, тем дням, когда еще можно было бы – особенно по мнению молодых собеседников и прежде всего горячих братьев-кузнецов – поправить дело.
– Повелителю надо бы собрать ополчение, кликнуть к себе таких, как мы! Да, да, бедняки, простые люди закрыли бы ворота Самарканда перед жестокосердым шах-заде! Мы бы не пустили его в город!
Каландар не перебивал Басканбека и Калканбека, молчал. Сразу вспоминались последний напутствия Мирзы Улугбека, слезы его при прощании с Али Кушчи и с ним, Каландаром, и больно сжималось сердце у дервиша, никого не хотелось ни видеть, ни слышать. Каландар отходил в сторону, падал лицом вниз на земляной пол в углу пещеры и долго лежал там, неподвижный, будто отсутствующий. А Уста Тимур, обращаясь к молодым спорщикам, говорил, неторопливо растягивая слова:
– Молодо-зелено, молодо-зелено, и мало что вам понятно… Если ветер такой, что верблюда подымет, то козу-то и подавно… Попади город в осаду, кому трудней пришлось бы? Не шах-заде, нет, а таким беднякам, как вот вы да я. Знать бы взаперти похудела, а голоштанные дух свой испустили бы… Так что, сынки, помолчите уж про осаду-то…
За разговором время движется вроде и быстрее. Но ближе к зиме, известно, ночи длинней. Каландар долго-долго, обычно до самого рассвета ворочался с боку на бок. Несколько дней прошло, и ему, степняку, стало казаться, что гостеприимная пещера кузнеца слишком темна и слишком тесна. Он чувствовал желание немедля уйти отсюда, если не в степь, то в ближние кишлаки и сады, пусть его поймают, пусть схватят. А то сидишь без дела, точишь-точишь слова… Но Каландар сдерживался. Он знал, что его в самом деле ищут. Знал точно, потому что в начале его сидения в пещере к нему явился по поручению Али Кушчи Мирам Чалаби и вместе с приветствием от мавляны передал строгий наказ быть осторожным и ни в коем случае не появляться в городе. Ведь когда он, Каландар, ушел из обсерватории, туда по горячему следу нагрянула дервишеская братия, искали не кого-нибудь, а его, Каландара. Шакал искал, самолично, рассказывал Мирам.
Стало быть, тут действовала рука шейха Низамид-дина Хомуша.
В памятки встало разгневанное лицо мстительного шейха, и Каландару на миг даже здесь стало не по себе. Шакал ищет его, бегает, разнюхивает. Вот и неподалеку от пещеры не однажды слышалось гнусавое пение: «О аллах, о всемогущий…».
Нельзя уходить отсюда, нельзя. Надо пересидеть, переждать!
Но как это тяжело! Особенно вечернее бездействие, все эти повторяющиеся разговоры под медлительное позвякивание пиал, под бульканье воды, наливаемой из кумгана в чайники, из чайников в пиалы… Каландар вспоминал родной край, свой далекий Карнак, вспоминал степь и холмы в степи, в просторах которой протекло его детство, вспоминал речки с прозрачной горной водой, в которых он ловил рыбу и купался, урюковую рощу неподалеку от кишлака: весною мальчишки любили забираться на деревья, наедаться недозрелыми плодами. Не раз вспоминал Каландар и свою любимую младшую сестру (ее захватили кипчаки при набеге), видел ее живо, будто воочию: вот вернулась она в их родной кишлак Карнак, пришла на кладбище, что сбегает вниз по склону Караул-тепе, пришла, отыскала могилу отца и матери и плачет над ней, плачет… Милое заплаканное лицо видит перед собой Каландар. Слышит мольбу, к нему, старшему брату, обращенную: «Где же вы, брат мой, куда занесла вас судьба?.. Далеко ль от отчего дома? Если вы, братец мой старший, не сумеете возжечь светильник на могиле благословенных родителей наших, то кто же это сделает?!»…
Вот и сегодня, наверное, до самого рассвета ничего не получится у него со сном! Неотступно стоит перед глазами далекое, незабываемое…
Старая крепость Карнак расположена на взгорке между двумя речками – саями. Высокие глинобитные стены зубцами подпирали небо – по крайней мере, так казалось в детстве, – а ров вокруг крепости был бездонно глубок. Поселение за стенами было невелико, узкие улицы обойти быстрым ребячьим ногам не составляло никакого труда: один миг – и готово!.. Ранней весной на плоских крышах домов прорастала нежная зеленая травка, даже маки иногда поднимались – в ту пору на крышах царствовала детвора: мальчишки запускали змеев, девочки играли в мячики, свалянные из шерсти. Когда устанавливалась теплынь, надо было ставить лицом к степи дозоры за одной из речек, на верхушке небольшой горы, так и прозванной Караул-тепе, «гора сторожевая башня». Под присмотром дозорных все мужчины Карнака, и стар, и млад, выходили на пахоту, сеяли ячмень и пшеницу, работали в садах и виноградниках. Но вот наливались первые, еще зеленые, плоды урючин, и в степи начиналась пора гуляний, праздничная пора. Молодые мужчины и женщины, а тем более девушки и юноши, как все радовались этим веселым дням!
Утро черного дня, когда налетели враги, похитившие любимую сестру Каландара, было утром такого именно праздника.
Каландару тогда исполнилось шестнадцать лет. Сильный, ладно скроенный, видный собой, он уже разжег костер в сердце не одной карнакской девушки.
В тот день отец ушел вместе с погонщиками верблюдов на базар в Ясен, а Каландар впряг в плетеную арбу лошадь – и сейчас помнится белая отметина на ее лбу, – усадил в повозку мать, сестру, соседских девушек и покатил в сады на гулянье; а сады находились по ту сторону сая, около окруженного карагачами кладбища. Рукава засучены выше локтя, в распахнутой рубашке, подставив оголенную грудь утреннему ветру, лихо сдвинув набок тюбетейку, Каландар не ехал – летел, словно на крыльях, потому что среди девушек рядом с его сестрой была, тоже шестнадцатилетняя, красавица, чей образ не давал ему тогда покоя. Девушка эта в красной косынке на голове, в красном домотканом платье, которое очень шло ей, изредка посматривала на Каландара, что беспечно поигрывал ивовым прутиком, подгоняя и без того резвую лошадку. И Каландар в свою очередь посматривал украдкой на девушку, и, когда их взгляды ненароком встречались, большие пугливые глаза девушки делались еще больше, она отводила взгляд, заливалась кумачовым румянцем, а подруги громко хохотали, и начинались безобидные, веселые шутки, подтрунивания, шалости.
Целый день был тогда Каландар в каком-то легком, парящем настроении. Ему нравилось видеть сквозь зелень листвы мельканье синих, красных, желтых девичьих платков – как только они приехали в сады, девушки бусинками рассыпались по поляне, будто маки и тюльпаны украсили зеленую лужайку. Каландару нравилось разводить огонь для варки праздничных угощений, таскать женщинам-хозяйкам воду из сая, лазить по деревьям за еще незрелыми, но вкусными плодами, чтобы угостить детей и девушек. А больше всего нравилось ему, что в саду рядом с ним соседская девушка, лучше, красивей всех других. Она то и дело обращалась к Каландару, и не было ничего приятнее, чем принести воду ей, приготовить хворост для её костерка, навстречу её рукам и губам наклонить ветку урючины, и даже то было приятно, что, стоило Каландару подойти поближе, она отпрыгивала, словно серна, исчезала в зарослях, и поди-ка поймай ее там!
Весенний день пролетел быстро. Засобирались обратно. Молодые женщины и девушки нарвали мяты, набрали в платки урюку, простоволосые, с вплетенными в волосы розовыми, сиреневыми, синими степными цветами, они казались еще красивей, чем прежде.
Ехали обратно, как водится, под песни, то задумчивые, то весело-озорные.
Немного успели спеть песен! Не доехав до речки, услышали, как гром с неба, крики караульных: «Эй, люди, спасайтесь! Враг, враг!»
А потом все потонуло в грохоте копыт.
Каландар нещадно стегал лошадь, арба гремела. Обернувшись, юноша увидел, как со стороны Караул-тепе выплеснулась темная конная лава. Сотня всадников, завывая, размахивая кривыми саблями и булавами, вскинутыми наголо, покатилась вниз. Наперерез кинулись свои джигиты, но то была горсточка! Лава захлестнула их, поглотила, и вот уже первый терзающий душу женский крик, первый отчаянный детский вопль прозвучали на всю окрестность.
Каландар бросил поводья сестре. Чей-то привязанный конь в зарослях у самой речки бил копытом землю, чуя шум недалекой схватки. Одним прыжком Каландар взлетел на скакуна, веревка лопнула, конь взвился на дыбы. Каландар нагнал арбу – там была булава – и, не обращая внимания на крики девушек и громкое причитание матери, повернул коня навстречу врагам.
Их много тогда налетело на него, человек десять. Они были одеты в удобные для боя шерстяные темные чекмени, войлочные тельпеки закрывали их головы, рты раздирал воинственный крик: «Враг бежит, враг бежит!!» Но Каландар не бежал.
Первым перед ним оказался здоровенный – не лицо, подушка! – степняк, яростно кричавший: «Враг бежит!». Лошади сшиблись, бешено заржали. На какую-то долю мига Каландар опередил вражеского воина с ударом – тот вывалился из седла, будто сбитый с головы тельпек. Успел свалить Каландар и второго всадника, но тут и по его голове пришелся удар булавой. Закрывая руками лицо, Каландар пал с лошади, искры посыпались из глаз, и то, что увидел он перед тем, как потерять сознание, был конь, окруженный вражескими всадниками и увлекаемый от места схватки. Через какое-то время Каландар пришел в себя. Показалось ли ему, или так было на самом деле, он не знает до сих пор, но он увидел, как мимо него промчались враги с перекинутыми через седла, звавшими на помощь девушками – сестрой и соседкой!
Почему, почему тогда он не умер?
Сколько тяжелых ударов судьбы пришлось на его долю и позже, сколько мытарств, тягот и унижений!
Неделю спустя после того стремительного кипчакского набега Каландар, еще не вполне оправясь от ранения, участвовал вместе с другими молодыми джигитами из родного кишлака уже в большой битве против степняков. Джигиты Карнака, сражались, как тигры, но судьба была немилостива к ним, да и силы врага намного превосходили их собственные. Там, в бою, недалеко от города Ясен, погиб отец Каландара, а сам он снова был тяжело ранен; спасли товарищи, сумевшие вытащить его из сечи, окровавленного, беспамятного.
С тех пор и началась его жизнь скитальца. Бесприютный чужак! Никогда не чувствовал он так остро смысл этих жестоких слов, как ныне. И вправду, что держит его теперь здесь? Хуршида-бану? Это луч, который уже погас для него, звезда, которая закатилась. Завет, оставленный Улугбеком и Али Кушчи? Но это ведь не к нему, не к Каландару, обращен завет, и все, чем он мог помочь мавляне, все это он сделал… Да, надо подаваться в родные края. Пора! Ни землякам своим, ни себе не отыскал он здесь пользы, а зажечь светильник у могилы родителей, чтоб возрадовался дух отца и успокоился дух матери, его долг: не смог исполнить сыновний долг, когда родители были живы, исполни хотя бы после их смерти. И торопись с исполнением!
Утром за скромной трапезой Каландар раскрыл свои намерения старому кузнецу.
Уста Тимур Самарканди долго молчал. Рука его то сжимала желтоватую, продымленную кузнечным жаром и чилимом бороду, то бесцельно гладила латаную-пере-латаную шапку из бараньего меха. Узкий сноп лучей падал сквозь отверстие сверху на морщинистое и землистое лицо старика, на высокий, в блестящих капельках пота лоб, на плотно сжатые губы, и грустным, очень грустным было это лицо.
– Каландар, сын мой, – сказал наконец старый мастер. – Когда ты впервые появился в этой неуютной лачуге, в бедной моей пещере, я обрадовался, очень обрадовался. Не было у меня сына, думал я, так вот бог наделил сыном меня, бедного, всеми забытого раба. Я радовался, что появился человек, который побеспокоится, чтоб над телом моим прочитали святой коран, который затеплит свечу над моей могилой… Ну, а теперь не знаю даже, что сказать тебе, сынок, в ответ на услышанное от тебя… Не знаю… А неволить тебя не смею.
Не знал и Каландар, что сказать старому мастеру, но чувствовал, что слова Уста Тимура, будто острые иглы, колют сердце. Но одно утешение старику может он все же высказать:
– Отец, могила ваша не останется без светильника, а душа без молитвы близкого человека. В Самарканде нет того, кто не знал бы, не почитал бы вас. Любой ремесленник… А Каланбек с Басканбеком?.. А мавляна Али Кушчи?
– Слава аллаху, сынок, слава аллаху, кое-кто помнит еще обо мне, – подхватил Уста Тимур. – Не чтобы разжалобить тебя, говорю, и не для того, чтоб мешать тому, что ты задумал. Мои слова – моя любовь к тебе, Каландар… Тимур Самарканди хорошо знает, каково бывает человеку на чужбине. Недаром считают: лучше у себя на родине быть чабаном, чем на чужбине султаном… Сыновнее почитание – святое дело и для молодого и для зрелого человека. Ты хочешь вернуться домой, хочешь порадовать дух родителей своих. Дай-то бог осуществить тебе эту цель… А путь тебе дальний и опасный. Что нужно, чем я могу помочь, скажи. Здесь, – старик показал на жилище, – все твое, если тебе что-то нужно. И скажи мавляне – пусть даст золота…
– Золота? Нет, отец, золота не нужно такому, как я. Вы сами не раз говорили: о доле бедного печется сам всевышний… Будет у меня хлеб в дорогу дня на два, ну, и соли – вот мне и хватит. Да и степь наша не голая, не пустая – и людей, и городов, и сел немало. С мавляной Али Кушчи я, конечно, попрощаюсь, но золота… мне золото не нужно.
Уста Тимур погладил колено Каландара твердой и широкой, как кетмень, ладонью, усмехнулся грустно.
– Эх-хе-хе, молодо-зелено… ты джигит, и сердце твое чисто, знаю. Но что же делать, коли этот желтый металл тоже нужен в жизни? И как еще нужен!.. Кому-то золото приносит беду, знаю, но, бывает, и почет, и уважение… Так что и джигиту нелишне золото. Знаю про это больше тебя. Что знает старик, того и ангел не ведает!.. А стесняешься, так я сам скажу мавляне Али.
Отъезду Каландара в тот раз не дано было, однако, осуществиться.
Он собирался выйти из пещеры поздним вечером, когда утихнут улицы, когда меньше вероятия встретить какого-нибудь нежелательного путника. Каландар хотел направиться к обсерватории, проникнуть в нее через уже известный подземный ход, попрощаться с Али Кушчи и вернуться тем же ходом к условленному месту, где ждали бы его братья Калканбек и Басканбек с конем. Уложены были в одну из переметных сум хлеб, соль, перец, толокно, в другую одежда и мелкая посуда, деревянная ложка, столь необходимые страннику; спрятан в надежном месте, но так, чтоб легко мог оказаться под рукой в случае нужды добрый кинжал, сделанный самим Уста Тимуром и подаренный на дорогу, «отбиться от лихого налетчика»; надел Каландар теплый чекмень, нахлобучил черный, бараньей шерсти тельпек – все это Уста Тимур принес откуда-то еще днем, – а выходить все медлил, все прислушивался за дверью к людским шагам на площади, к шуму, к звукам, которые не затихали там до позднего часа. Наконец Каландар решился, да и пора было – за полночь. Перетянулся поясом, вскинул на плечи хурджун. Подошел Уста Тимур, держа маленький светильник с горящим маслом. Приткнул светильник куда-то в нишу в стене, обнял Каландара, поцеловал в лоб. И только поднял к лицу темные свои ладони старый мастер, чтобы сотворить молитву за благополучие в путешествии, в дверь тихо, но внятно постучали.
Каландар бесшумно отскочил в тень. Уста Тимур вновь взял в руку светильник и неторопливо пошел к выходу.
– Кто там не дает людям спать по ночам? – нарочито грубо спросил он, не поднимая засова.
– Прошу простить, Уста, это я, Мирам Чалаби.
– Кто-кто? Какой Мирам? – старик повернулся к Каландару. Тот, скинув с плеч хурджун, одним прыжком пересек входной коридорчик.
– Отец! Это ученик мавляны… Разрешите, я сам открою!
Мирам, бледный, босой, без шапки, был похож на нищего с самаркандского базара. Слышно было, как он всхлипывает в темноте.
– Что, что случилось? – вскрикнул Каландар, уже чувствуя, что случилось что-то страшное.
– Учитель… учителя… в зиндан…
– Когда?!
Каландар выяснил, что вчера после вечерней молитвы – хуфтан в обсерваторию ворвалась четверка нукеров, перевернула там все вверх дном, а потом увела мавляну Али Кушчи. Матушка мавляны. была при этом, она кричала, плакала, рвалась к сыну, бедняжка, а после того, как увели мавляну, упала в обморок, и потому он, Мирам, не мог сразу же сообщить Каландару о случившемся: надо было посидеть со старушкой, хоть немного ее успокоить…
– Куда увели мавляну, узнал?
Мирам Чалаби кивнул. Еле слышно сказал:
– Узнал… В темницу Кок-сарая…
Светильник в руке Уста Тимура дрогнул.
«Что же делать? Как быть теперь?»
Вид у Каландара был решительный, грозный даже, но на самом деле дервиш был растерян. Понятно, что с отъездом придется повременить. Повременить? Да посмеет ли он вообще уехать, пока не решится, пока останется неясной судьба мавляны?
Каландар отер пот со лба; ему опять вдруг представилась сестра, сидящая у родительской могилы, ее жалобные причитания – только не по их собственным родителям, а почему-то по матушке мавляны – Тиллябиби.
Каландар посмотрел на Уста Тимура: старый кузнец стоял, беспомощно прислонившись к стене, смежив веки.
– Чего искали нукеры? Книги, что ли?
– И книги… И золото… Кричали, будто в обсерватории спрятано золото…
«Это мавляна Мухиддин! Он, он раскрыл тайну! Жалкий доносчик! Не ученый муж, а презренный изменник!»
Каландар, будто устав, тоже прислонился к стене.
«Что же делать?.. Надо остаться… Остаться… Но смогу ли я чем-нибудь помочь наставнику?.. Так что ж, уехать, потому что не можешь помочь? Это бесчестно… Вот их тоже, этого мальчика и этого растерявшегося старика… ведь их тоже нельзя оставить сейчас…»
– Каландар, сын мой, этот талиб совсем замерз, – сказал старый мастер, – надо бы напоить его чаем.
– Да, да, сейчас…
«Нужно пойти к мавляне Мухиддину, схватить этого труса за горло, пусть он откажется от своего доноса!»
Планы, один другого смелей и отчаянней, роились в голове Каландара, пока он разжигал огонь, готовил чай.
В ту калитку… ту, садовую, откуда он проникал в сад, подходил к окошку Хуршиды-бану… Он пройдет через сад, проникнет из сада в гостиную мавляны Му-хиддина… Ему бы только остаться с мавляной лицом к лицу, один на один, уж тогда он найдет, что сказать этому слезливому предателю… Да, да, надо сразу же, немедля идти туда, в покои богача ювелира, надо брать их за горло, этих изменников, корыстолюбцев… Заставить мавляну Мухидднна отказаться от навета на Али Кушчи, иначе жизнь учителя повиснет на волоске и так легко будет оборвать этот волосок, так легко!
7
Хуршида-бану сидела в своей тихой комнатке и вышивала бархатный занавес. Но дело двигалось медленно, запасы ниток, узоры которых так красиво выглядят на темно-синем самаркандском бархате, почти не уменьшались: молодая женщина не столько работала, сколько прислушивалась к тому, что происходит на дворе.
А там раздавались настойчивые, повторяющиеся звуки щагов. Не чинные то были шаги отца, мавляны Мухиддина, а нервные, быстрые, сопровождаемые постукиванием трости шаги дедушки, Ходжи Салахиддина. Да и не было дома отца. Недавно, после вечерней молитвы, его увели. Нагрянули нукеры из Кок-сарая и увели с собой куда-то. И деду не сидится на месте, он все ходит и ходит по двору, выглядывает то и дело за калитку и опять возвращается, громко стуча кавушами и тростью.
Каждый раз, когда дед выходил на улицу, сердце Хуршиды замирало, игла начинала особенно заметно дрожать в пальцах – не появятся ли снова эти грубые нукеры, не загремят ли опять бесцеремонно и нагло по дорожкам двора подкованные их сапоги. А их окрики, их резкие приказы! И отец, согнувшийся в низком поклоне, жалкий, дрожащий, словно осиновый лист…
То, что произошло совсем недавно, напомнило ей другое-событие, весной. Тогда тоже ворвались к ним в дом нукеры, тоже стучали сапоги.
Три месяца минуло после свадьбы. Хуршида, похоронив надежду на возможность счастья с Каландаром, начала привыкать к мужу, нелюбимому, но, что ж делать, посланному богом хозяину своему, тому, кто кормил и одевал ее и кому она, чего нельзя было не почувствовать, нравилась. Однажды вечером муж пришел из Кок-сарая, где служил в какой-то канцелярии, бледный, объятый тревогой. И страх и страдание читались в его глазах. Он подошел к Хуршиде, сидевшей и в тот раз за вышиванием, поднял с места, долго и пристально вглядывался в ее лицо. Впервые видела его таким Хуршида. Подавшись назад, беспокойно спросила:
– Что случилось, господин мой?
Мирза не ответил. Притянул ее к себе, прижал, стал целовать лицо, глаза, руки, шею, но были это не поцелуи любви или вожделения, а все та же непонятная ей и почти уже безумная тревога. Задыхаясь, он оторвался от нее и вдруг стал резко, отрывисто приказывать:
– Быстро… Тотчас собери свои пожитки! А в шкатулку драгоценности!.. И потеплей оденься!.. Мы отправляемся далеко, далеко!.. Побыстрее! Спеши, спеши! – И выбежал из комнаты.
Хуршида заметалась среди сундуков с платьями и дорожной одеждой, шкатулок, где во множестве хранились украшения, натянула кабульские сапожки, повязала голову белым теплым платком из верблюжей шерсти, собрала в небольшую шкатулку особенно дорогие вещицы.
В доме тем временем началась какая-то суматоха: слышались пугающие покрикивания, хлопали двери.
Приближались сумерки, и печально-высокий голос муэдзина – призыв к молитве – донесся от ближайшей мечети, но не до молитвы было в темном, без единого огонька доме мужа, только в комнате Хуршиды горели свечи.
Муж вбежал уже в лисьем малахае, в шубе, наброшенной на плечи, с нацепленной на бок саблей. Хуршида тоже была почти готова. Мирза снова кинулся к ней, стал целовать щеки, глаза, бормоча бессвязно, безумно:
– Зачем… зачем аллах подарил тебе такую красоту?!
И застыл на месте.
С внешнего, большого двора послышались шум, крики, звон оружия; вихрь этих звуков стремительно пронесся по двору внутреннему; грохнули двери дома; громко заплакали дети, заголосили женщины, зачертыхались грубые мужские басы. Мирза кинулся к дверям, ведущим в их комнату, судорожными движениями стал накидывать цепочку на штырь – руки дрожали, не слушались его. Грохот сапог раздался совсем близко. Кто-то сильно ударил ногой в дверь. Мимо головы Хуршиды-бану пролетел кусок разорвавшейся дверной цепочки и, жалобно звякнув, ударился о большое серебряное блюдо в нише.
Словно черный смерч, ворвались в комнату воины. Мирза выхватил саблю из ножен, но тут же был сбит с ног, несколько человек упали на него. Вырвали оружие, стали бить, мять, ломать извивавшееся на полу тело. Остальные набросились на Хуршиду. Ей заломили назад руки, накинули на голову какое-то темное душное покрывало и, спеленатую, подхватили, подняли, понесли куда-то. Хуршида еще некоторое время отбивалась, выпростала на миг голову из-под покрывала, успев заметить, как мужу, брошенному лицом вниз на пол, связывают на спине кисти вывернутых рук тонким ремнем, а потом сознание покинуло ее.

Хуршида пришла в себя уже в Кок-сарае.
Она лежала на ложе из мягких шелковых одеял; сводчатый потолок, казалось, нависал прямо над запрокинутой головой; вокруг по ярко освещенной зале бегали, суетились молодые женщины, все в многочисленных, нежно позванивавших украшениях, бусах, браслетах. Они подносили к ее носу какие-то хрустальные флакончики, откуда пахло остро и терпко, терли лоб и щеки прохладной цветочной водой. Когда Хуршида-бану полностью осознала, где она, к ней явилась и госпожа гарема. Хуршиду чуть ли не силой заставили выпить пиалу вина, потом повели в баню.








