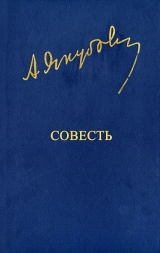
Текст книги "Совесть"
Автор книги: Адыл Якубов
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 41 страниц)
А он, эмир Джандар… Шах-заде, видно, спятил. Каждый день смотрит, смотрит эмиру в глаза – не верит н-и словам его, ни поступкам, следит за ним исподтишка, ловит ехидными вопросами, хочет поймать врасплох…
Султан Джандар встал наконец с постели. Тяжко, долго вздыхал, растирая широкую волосатую грудь. Тут тихо приотворилась дверь и вошел Шакал.
«Вот еще одного соглядатая ко мне приставили», – подумал Султан Джандар. Грубо спросил:
– Ну, что за неотложное дело средь ночи, косоглазый?
Шакал заулыбался угодливо.
– О том спросите нашего… милостивого повелителя, господин мой.
Султану Джандару захотелось обложить посланца самыми грубыми ругательствами. С трудом сдержался. Отвел взгляд в сторону. Стал надевать на тело, не освеженное достаточным сном, тяжелые воинские доспехи, будто на брань, но так приказывал являться шах-заде.
Мягкий, вкрадчивый, откуда-то сбоку, раздался голос Шакала:
– Мой досточтимый эмир! Вы, я знаю, не доверяете своему преданному слуге. И ошибаетесь во мне, господин. Мне самому не по душе дела наследника.
«Наследника? Не повелителя, а наследника?.. Что это значит? Какая цель у этого косоглазого, что захочет, так совратит и самого шайтана?»
Этот дервиш давно был известен Султану Джандару. Встретив его во дворце в одеянии есаула – это вместо рубища-то! – эмир очень удивился, потом догадался, что тут не обошлось без шейха Низамиддина Хомуша. Его слуга, его доносчик этот бывший дервиш! Ухо надо держать с ним востро!
Медленно затягивал эмир Джандар на своем огрузневшем животе пояс. Не глядя на Шакала, спросил, будто не понимая:
– Про какие дела говоришь, косой?
– Да про всякие разные, мой эмир… Вы-то опора ему, а чем отблагодарены?
«Моими словами говорит, моими! Но что же все это значит? Сочувствует он мне или губит?»
Было отчего разволноваться. Вчера пришел к эмиру молодой Мансур Каши, родственник. Говорил о том, что есть люди, недовольные шах-заде, что кругом неспокойно, что голод в столице и в торговле застой. А потом исподволь стал спрашивать о мавляне Мухиддине, мав-ляне Али Кушчи. Намекал, что ученые мужи могут многих-многих денег стоить. Выкуп, стало быть, предлагал за них. Эмир рассердился, загрозил зинданом за такие разговоры, потом почти выгнал гостя, хоть и родственником тот был. Ну, а теперь вот еще один… в сердце Султана Джандара запускает руку… Что-то пронюхивает, на что-то намекает, змей плутоватый!.,
Медленно-медленно пристегивал эмир Джандар к поясу саблю. Лица к Шакалу так и не повернул.
– Удивляешь ты меня, косой. При Мирзе Улугбеке был ты нищим попрошайкой, вечно голодный слонялся по самаркандским улицам… А теперь? По милости… наследника ты теперь есаул. Чего, кажется, еще человеку желать? А?
– Говорят, господин, и так: звание высокое, да скатерть на столе пуста…
– Есаулу да ее не заставить яствами?
– Тогда позвольте напомнить еще одну пословицу, милостивый эмир: один конь не поднимет пыли… И для хлопка нужны две ладони… Есть у меня к вам дело…
– Что за дело? Почему замолчал?
– Одно дело… выгодное. И пугаться не следует – люди верные, очень верные…
«Верные люди? Верное дело?.. А может, и вправду в столице уже поспел заговор, а я, эмир Султан Джандар, не знаю о нем? Недаром приходил Мансур Каши… И где-то ведь скрывается любимый воин Улугбека – Бобо Хусейн Бахадыр. Одно его имя вызывает у шах-заде дрожь. И Мираншах крутит в последнее время, замышляет что-то. А шейх-уль-ислам Бурханиддин и подавно не приходит с поклоном: отодвинули в тень, а в тени самое место для верного дела… Осторожность нужна. Поспешность может боком выйти… Надо все разузнать. А опираться на бесноватого шах-заде все равно что на тень опираться».
Султан Джандар резко повернулся к Шакалу, схватил его за ворот.
– Коль жизнь дорога, отвечай прямо: кто поручил тебе испытать меня?.. Ну?! Не шейх ли светлейший?.. Сам шах-заде?.. Говори! Брюхо распорю и кишки намотаю на шлем! Говори, шайтан!
– Пусть меня покарает аллах, если лгу!.. Пощадите, эмир, хоть дайте досказать…
– Досказывай!.. Есть заговор?
– Нет, господин мой! Есть деньги, много денег. Есть золото, драгоценности.
– Все черные дела начинаются с золота и драгоценностей!.. И на какой улице их просыпали, эти золото и драгоценности?
Султан Джандар слегка сдавил горло Шакала.
– Хватит зенками-то вращать. Всю правду давай, шайтан!
Шакал, задыхаясь, прохрипел:
– Мавляна… Мухиддин и мавляна Али Кушчи… они… Их надо…
«Вот это стервятник! Так ненавидеть ученых, как ненавидят их приспешники шейха, и на тебе, за золото ученых-то и решил вызволить этот шайтан… Только кто же даст за них золото и драгоценности, не Салахид-дин-заргар?.. И Мансур тоже намекал на выкуп двух ученых, большой выкуп».
Эмир разжал пальцы, поправил сползший к низу живота пояс с ‘саблей. Отодвинул с пути есаула. Прошел, прямой и настороженный, к двери.
– Заруби себе на носу, косой! Кто стоит в двух лодках, обязательно свалится в воду… Эмир Султан Джандар не продает своей чести за золото и драгоценности!
…Днем шел снег и было тепло, а к вечеру стало студено. Это эмир почувствовал сразу же, выйдя из дому в ночную темень. Кони у ворот застоялись и теперь взяли с места вскачь. Каменная дорога зазвенела под копытами, брызгами полетели ледяные осколки замерзших луж.
Самарканд, подобно кладбищу, был пуст и черен. Не слышалось ни колотушек сторожей, обычно как раз в это время обходивших улицы, ни тихого позвякивания сбруи на лошадях ночных дозорных, что с недавних пор высматривали кого-то, освещая городские перекрестки чадящими факелами: ни разу не встретились всадники и дервиши, которые обычно днем и ночью бродили по городу, так что и в самое неурочное время можно было насладиться их песнопениями во славу аллаха.
Шакал следовал за эмиром, чуть приотстав, и с тревогой поглядывал на его фигуру, казавшуюся в седла темной каменной глыбой.
Тревога есаула была понятна: а ну как эмир Джандар передаст шах-заде его слова? Не должен бы вроде, да кто их знает, сановников этих?.. А слова насчет спасения ученых мужей вырвались у него, у Шакала-то, случайно. Почти случайно. Во всяком случае, не в таких условиях он хотел их произнести и не так, как оно вышло. Но в последние дни столько всего произошло с есаулом, что, право, и жалеть не надо, что приоткрыл он перед эмиром тайные помыслы разных людей.
Неделю назад Шакала снова позвал к себе шейх Низамиддин Хомуш. Как всегда, расспросил подробно обо всем, что случилось в Голубом дворце со дня последнего вызова – о переписке шах-заде с другими властителями, о делах дивана, о взаимных кознях военачальников. Дотошно узнавал шейх о тех вельможах, эмирах и ученых мужах, кого бросили в зиндан, а также и об отпущенных обратно на свободу. Словом, отчет за неделю, полный, подробный. Казалось, что отчетом этим шейх остался доволен. Но в конце разговор свернул опять на Каландара Карнаки, до сих пор не только не пойманного, но и не найденного, и наставник сурово изругал Шакала. Он, шейх, сделал Шакала дворцовым есаулом, приближенным к самому повелителю, а есаул никак не может найти и словить какого-то бродягу. Это ли не позор? Это ли не обманутое доверие?
Шакал ушел от шейха в печали и тревоге.
Та ночь была безлунно-темной. Шакал хлестал коня, словно вымещая на животном свою обиду – несправедлив шейх, несправедлив!
Он ведь старается, он очень старается, а Каландара поймать вовсе не просто.
Шакал снова стегнул коня, но тут же и придержал его: у странноприимного дома он услышал знакомое пение дервишей. Что-то шевельнулось в его душе. Есаул! Почести! Выгоды! Все это суета сует.
Шакалу захотелось вдруг зайти в ханаку, вдохнуть раздражающе приятный дурманный запах гармалы, посидеть вместе с теми, кто оставил суетные заботы мира сего. Не лучше ли, пусть и в рубище, в лохмотьях, быть душевно спокойным, влиться в толпу дервишей, покуривать анашу, творить «хвалу всевышнему? Тяжелый камень невыполненных обещаний, упреков, загадка исчезновения Каландара – все это свалится с души, и поминай как звали!
Он зашел с ханаку.
В полутемном помещении под сводчатым потолком одни плясали в самозабвении, другие молчаливо застыли за кальянами, третьи, роясь в лохмотьях, пересчитывали собранные за день монеты. «Сколько пришлось им стучать в двери людские», – почти с умилением подумал Шакал.
Его заметили. И что тут поднялось! Кто стал бранить Шакала, он, мол, еретик, нечестивец, покинул дорогу богоугодную; кто в восторге, смеясь, гладил его воинский шлем, его кольчугу, хватался за прочное и недешевое сукно одежды; иные же искренне радовались его приходу, быстро сунули ему в руки чилим, пригласили отведать благовонной анаши. То ли анаша была очень крепка, то ли Шакал уже немножко отвык от нее, но после двух-трех затяжек перед глазами его поплыл туман, туман, туман, и все треволнения улетучились, и все заботы, и все переживания, и словно иной мир принял его в свои объятия.
Эх, какая была у него жизнь раньше! Шакал надел чей-то старый треух, выпил пиалу кукнары – вот это зелье! – и пустился в пляс, священный танец– дервишей, что именуется зикром… А потом снизошло на него исцеляющее размышление, он вспоминал свою полную страданий и унижений жизнь и нашел, что такой она осталась и во дворце, и, подстегнутый хмельным зельем, дымом анаши, одурманенный, он долго плакал над своей обидно бедной радостями жизнью, плакал, пока не заснул в каком-то темном углу.
Сколько он проспал, Шакал не помнил. Не сразу сообразил, пробудившись, где это он. В помещении горела только одна коптилка; накидав на себя всякого тряпья, прижавшись друг к другу, дервиши спали на циновках, брошенных кое-как на земляной пол. Шакал отыскал саблю, шлем и кольчугу. Вышел на воздух. Стояла полночь. Он определил это по созвездию Плеяд – хоть и не знал того названия их, которые знал Улугбек, – прямо над головой, будто пригоршня горячих углей, светили Плеяды. Хорошо, что конь послушно стоял неподалеку, привязанный к какой-то жердине, ждал, перебирая ногами от холода.
Дорога от «Мазари шерифа» до Кок-сарая шла мимо оголенных садов, прежде чем сворачивала в узкие улицы квартала ремесленников, а потом и приземистых торговых рядов. Глухие места проезжал ночью Шакал. Пустынны были сады и виноградники; пустынна базарная площадь; вымерли торговые ряды. Вдоль речушки располагались кузнечные, плотничьи, столярные мастерские. Ни звука и тут. Почему-то стало страшно. Шакал хлестнул коня. Миновал последнюю лавку кузнечного ряда и столкнулся с тремя всадниками! Ночные стражи? Шакал так и подумал сначала и подался влево, давая им дорогу. Но всадники приблизились, придержали коней рядом с его конем. Засада? Шакал поднял своего скакуна на дыбы, хотел повернуть назад, но тут его ударили! Он продолжал натягивать поводья, руки у него были заняты, и один из всадников беспрепятственно накинул ему на голову просторный шерстяной мешок, тут же дернув веревку, стянул горловину. Шакал только и успел, выпустив поводья, схватиться за рукоятку сабли, но руку перехватили, заломили за спину.

Все остальное сохранилось в памяти так, как, бывает, застревает в ней зловещий сон. Так бывает еще от курения анаши: замутненные картины бессвязно следуют одна за другой.
Проскакав фарсанга два, его стянули на землю, втащили в какую-то нещеру или могилу; вокруг плотным кольцом стали люди то ли с темными лицами, такими, что не разобрать было этих лиц, то ли просто на них были надеты маски. По голосу одного из похитителей Шакал узнал – «вай-дод!» – Каландара Карнаки!
С большим трудом понял Шакал, чего от него хотели эти люди в масках. Что-то про ученых мужей спрашивал Каландар, говорил, что надо их вызволить из зиндана, а если нельзя вызволить, то хоть облегчить участь.
Шакал тут мало что мог сделать. Судьбы узников каменных подвалов в руках зиндаи-беги, надзирателя темниц, и подчинен этот начальник самому повелителю, только ему! Но к нему, к есаулу, все обращали и обращали призывы и вопросы, сулили богатства, и тут вспомнил Шакал про эмира Джандара. И, вспомнив, искренне, хотя торопливо и сбивчиво, заговорил о том, что да, он постарается помочь людям, заинтересованным в этом деле, сделает все, что в его силах. Только – и тут он снова представил в мыслях своих эмира Джандара, – только нужно золото, много золота!
И тогда человек в маске, похожий на Каландара, ну да, сам Каландар, присел к полураспластанному на земле пленнику и сказал, прямо глядя на него, что ради спасения ученых мужей не пожалеют золота! Сказал так твердо, что Шакал сразу поверил. Каландар сунул ему в руки коран и потребовал на святой книге поклясться, что тайного умысла Шакал никому не выдаст, что будет отныне их человеком. Чьим, этого Шакал не понял. Понял одно – не султана Абдул-Латифа.
«В награду же, – услышал он дальше, – ты получишь жизнь и… золото».
Ему вновь надели мешок на голову, вновь связали за спиной руки, вновь потащили куда-то.
Шакала оставили в зарослях тугая на берегу Зерав-шана, в этом он убедился после того, как похитители развязали ему руки, освободили от мешка и ускакали прочь.
Они ничего не взяли у него: ни коня, ни сабли, ни шлема.,
Шакал взобрался в седло, все еще не веря в спасение, огляделся вокруг. Рассвет был близок. Уже можно было увидеть очертания горы Кухак, где Каландар назначил ему следующую встречу.
Несколько дней после этого происшествия есаул ходил сам не свой. То он собирался пойти к шейху и, пав к ногам его, рассказать все, как было. Но вспоминал пещеру, похожую на могильный склеп, людей, окруживших его кольцом, себя внутри этого кольца, жалкого, словно раздавленного наполовину, вспоминал Каландара, клятву свою на коране, мешок, наброшенный на голову. «Если нас предашь, запомни – никуда не уйдешь от расплаты. На небо полезешь, и оттуда стащим тебя. За ноги!» Эти стащат!
То овладевала, им решимость и вправду помочь Ка-ландару и людям, заинтересованным в освобождении ученых. И незаметно Шакал расспрашивал о том, что имело отношение к их «делу». Вскоре убедился он, что без эмира Джандара нельзя даже войти в подвал, где томились мавляна Али Кушчи и мавляна Мухиддин. Эмиру Джан-дару туда открыт доступ как приближеннейшему к повелителю лицу. Стало быть, можно было с ним вместе…
Исподтишка присматриваясь, Шакал понял, что эмир обеспокоен чем-то, недоволен. Быстро сообразил чем: ждал многого от наследника – дождался малого от нового султана. И Шакал решился.
Вот только случая не мог выбрать подходящего, чтобы закинуть удочку для нужного разговора.
Нашел было сегодня случай, да неудачно что-то получилось: эмир проявил настороженность, не раскрыл сердца…
И снова при взгляде на массивного всадника, ехавшего впереди, у Шакала засосало под ложечкой: не оказаться бы по милости эмира одним из узников того самого зиндана, откуда они‘с Каландаром взялись вызволить ученых мужей. Бросят туда его, бедного есаула, на съедение клопам, или еще проще – отсекут голову, как это сделал со своим отцом, с самим султаном Улугбеком, сын его, нынешний повелитель. И аллаха не убоялся!
14
Мирза Абдул-Латиф лежал на боку, подперев рукою голову. Шелковые одеяла нежили теплом. Голова приятно кружилась от выпитого вина. Глаза все чаще обращались к выходу из этой залы, что несколькими коридорами была связана прямо с гаремом.
Горка шашлыка, приготовленного из перепелов, хрустальный китайский графин, наполовину наполненный золотистым вином, стояли перед Абдул-Латифом на хантахте[37].
Эмир Джандар, войдя в залу, сразу обратил внимание, что свеч зажжено мало, зала погружена в полумрак, и может быть, из-за этого, а может, из-за позы, в которой лежал шах-заде, ощутил какое-то смутное беспокойство. Он сложил руки на груди, хотел опуститься на колени у порога, но шах-заде поманил к себе. Эмир подошел, выдержал взгляд красных от бессонницы и вина глаз повелителя, услышал обычный его первый вопрос, будто не расстались они лишь несколько часов назад:
– Ну, эмир, что нового? Какие вести принес из столицы?
Эмир Джандар отвел глаза от колючего взгляда шах-заде.
– Благодарение аллаху – все спокойно, благодетель.
– Если… все спокойно, то… почему же глаза от меня прячешь?
Надо было улыбнуться, и эмир Джандар выдавил из себя улыбку.
– Мои глаза не выдерживают сияния лица повелителя…
– Лиса! – засмеялся Абдул-Латиф. – Умеешь льстить, умеешь… Только знай, эмир, – шах-заде улыбался хмельно, малоосмысленно, – знай только… я насквозь тебя вижу… все, что у тебя в душе, вижу. И что в твоем сердце, какие там… цели, тоже вижу.
– Нет в моем сердце иных целей, чем умножать вашу славу. Чтоб правление ваше было все лучезарнее и лучезар…
– Хватит!.. – шах-заде не дождался конца славословящей фразы. – Я устал… эмир… Устал от государственных забот. И душа моя, эмир, жаждет забот… иных. Как говорят поэты, жажду вдохнуть аромат розы!
Шах-заде вытащил из-под подушки золоченую трещотку, взмахнул ею. На призывный стук тотчас явился темнолицый сарайбон.
– Передай главной госпоже гарема, пусть придет сюда!
И, когда сарайбон исчез за дверьми, обратился к Султану Джандару:
– Я наслышан про одну розу, эмир. Слава ее велика… И моя душа захотела вдохнуть аромат этой розы.
Твои глаза, моя газель, мне душу опаляют.
Твои уста, как два цветка, рубинами сверкают.
А? Каковы стихи, эмир? Твой повелитель понимает толк в сложении стихов… Да ты пей, эмир!
– Стихи превосходные, благодетель. – Эмир единым духом осушил чашу.
Вино не принесло успокоения, не освободило от предчувствия чего-то дурного, что должно было случиться.
– В каком цветнике растет эта роза, чей аромат хотел бы… вдохнуть лучезарный султан?
В покой вошла госпожа гарема. На лице, как полагается, прозрачный кисейный платок голубого цвета. На загнутых носках отороченных золотым шитьем кавушей красовалось по жемчужине. Руки на пышной груди. Нежно прозвенели в поклоне украшения. Хмельной взгляд шах-заде задержался не без удовольствия на ее пышных бедрах, ясно обозначавшихся сквозь тонкий шелк шаровар.
– Описание той розы пусть нам даст госпожа гарема. Проходите, ханум, присядьте к нам.
Движения этой женщины при всей ее полноте были бесшумны и изящны. Она не подошла, подплыла к сидящим мужчинам, присела перед шах-заде почтительно и в то же время готовно, столь же игриво-почтительно приняла пиалу, что протянул ей, улыбаясь, Абдул-Латиф, а другой рукой проворно, так что перстни блеснули на пальцах, откинула кисею с лица. Как положено, чуть пригубила, выгнув шею, напружинив стан, – вся почтительность, и вся истома, что читалось в глазах, устремленных на повелителя.
Эмир Джандар украдкой – но неотрывно – глядел на ее налитую, словно спелое яблоко, фигуру, на жаркую полноту рук, угадываемую за легкими рукавами, обнажившихся, когда красавица брала пиалу, на ее манящие груди, высоко вздымавшиеся под сукном красного мурсака; эмир облизнул вмиг ставшие сухими губы, проглотил комок в горле.
Шах-заде усмехнулся, заметив волнение эмира.
– Ханум, опишите-ка нам ту, розоликую…
Госпожа гарема свела тонко изогнутые брови, меж
которых устроилась темно-синяя, искусно посаженная родинка.
– Эмиру, может, и не пришлось видеть ее, но слышать о ней он уж наверняка слышал. Я говорю о той, что шах-заде Абдул-Азиз отобрал у сына Ибра-гимбека.
Вот оно что! Эмир быстро взглянул на шах-заде, в мыслях пронеслось: «Что еще придумал этот изверг?! Мир полон нераскрывшихся бутонов, а он хочет цветок не первой свежести. Нездоровая страсть? Нет! Это месть! Месть брату, которого… уже нет в живых! О, ужас!»
У шах-заде при упоминании имени Абдул-Азиза улыбка исчезла, будто соскочила с лица.
– Ну, что же ты молчишь, эмир?
– Мне… приходилось слышать об этой розоликой, повелитель… Но…
– Что?
Эмир вытер со лба капли пота, искоса посмотрел на госпожу гарема. Шах-заде понял этот взгляд как просьбу говорить наедине, сделал женщине знак выйти. Та неохотно направилась к дверям.
Шах-заде нетерпеливо спросил:
– Так что ты хочешь сказать, говори!
– Благодетель! Эта роза побывала в чужих руках, и не в одних… Не просто так ведь сидела она в гареме шах-заде Абдул-Азиза.
Услышав снова имя ненавистного брата, Абдул-Ла-тиф рывком поднялся с одеял, отбросил прочь пуховые подушки. Вмиг побледнев, проговорил, кривя губы:
– Вот я и… хочу попробовать., что за роза знаменитая свела с ума этого ублюдка, чтоб он в могиле перевернулся, любимчик султана-вероотступника!
Эмир попробовал незаметно отодвинуться, но взгляд собеседника будто пригвоздил его к месту.
– Ну, что замолчал, эмир? Говори дальше!
– Да, да, вы правы, благодетель, – пролепетал эмир Джандар что-то совсем несуразное. Приходя в себя, добавил уже осмысленно: – Ваше желание закон, и да сбудется оно!
Вдруг счастливая мысль, словно луч, вспыхнула в голове:
– Только… только ведь роза эта, повелитель, из цветника мавляны Мухиддина, она оттуда… Взять в гарем дочь того, кто заточен, удобно ли это для султана султанов?
На лбу шах-заде собрались морщины, тонкие усы нервно дрогнули.
– А как там мавляна Али Кушчи? Не признался?
– Признается тот, кто боится аллаха, а этот нечестивец упрямый…
– Ну, вот что! – Абдул-Латиф снова упал на подушки, вытянул перед собой кулаки. – Не признался, так пусть и сгниет в зиндане! А мавляна Мухиддин… отпусти-ка его из зиндана, эмир!
Сказав это, шах-заде взял со столика пиалу, доверху наполнил ее вином из графина; протягивая пиалу эмиру, подмигнул.
– Только тебя одного, эмир, потчую из рук своих. Помни об этой чести.
– Благодарю вас, благодетель мой. И пусть всевышний щедро осыплет вас милостями своими, аминь!
– Аминь… Так когда же приведешь к нам ту розоликую?
Султан Джандар с трудом улыбнулся, поборол острый гнев, что впился когтями в сердце.
– Позвольте дать совет, повелитель… Надо неделю подождать, пока семья успокоится. Салахиддин-заргар очень влиятельный человек среди торгового люда, и к тому же ему благоволит светлейший шейх Низамиддин Хомуш… Следовало бы, благодетель, постараться не задеть чести старого ювелира, послать вельмож.
– Ну что ж, ты сам и пойдешь, эмир! – Шах-заде пьяновато рассмеялся. – Уж выпроси мне ее, ха-ха-ха!.. Только смотри, будешь пялить на красавицу глаза, выколю их тебе, ха-ха-ха…
«У шайтана и шутки шайтаньи! – подумал эмир Джандар, и эта мысль не оставляла его ни в то короткое время, которое он провел тогда с совсем уже хмельным шах-заде, ни когда покидал покои властелина. – Вот, вот чего я добился, отпав от султана Улугбека, – одни несчастья, одни неудачи… Породнился, называется, поправил свои дела… Последняя надежда, а он, «благодетель», эту надежду как фарфоровую чашку о камень!.. Что же мне делать? С кем посоветоваться?.. Да, а что это за верные люди, о которых болтал косоглазый дьявол давеча? Не воины ли Бобо Хусейна Бахадыра? Про них ведь ходят какие-то слухи по городу…»
В одном из помещений дворца эмир натолкнулся на бодрствующего сарайбона: голубые глаза балхца смотрели на Султана Джандара удивленно и несколько недоверчиво.
– Где тут косой Шакал? Его ищу…
– Шакал?
– Косоглазый есаул! – Султан Джандар прижмурил один глаз, пальцем повел веко на сторону.
– А… он во дворе, со стражей.
– Ладно, я сам его найду!
И, с трудом умеряя чувство нетерпения, Султан Джандар тяжело шагнул к выходу.
15
– Снова за свое, мавляна, снова жалобы? Уже три месяца вы льете слезы – и какую пользу от этого получили? – Али Кушчи стоял в привычной позе: руки на груди, держится прямо, не опирается, только слегка прислоняется к холодной каменной стене.
Из темного угла послышался слабый, плачущий голос:
– Польза?.. Была бы польза, если бы вы согласились со мной…
– Сожалею, но согласиться не могу.
– Это не что иное, как упрямство, мавляна. Из-за гордыни, из-за упрямства погибнете здесь – и себя погубите и меня, слабого, сраженного недугом друга своего.
Этот тонкий голос, полный мольбы и жалобы, будто тупой нож, которым тебе ковыряют, ковыряют грудь… Али Кушчи поднял руки, прикрыл уши… Вот уже больше двух месяцев так: стенания и упреки, упреки и стенания.
От них Али Кушчи страдал едва ли не больше, чем от голода и холода, от гнилого запаха и сырости, от клопов и блох, чьи нашествия вызывали невыносимый зуд во всем теле, постоянный, не уменьшавшийся.
В первый день он сам расчувствовался, прослезился, потом несколько дней подряд успокаивал мавляну Му-хиддина, словно малого ребенка.
Кто знает, что стало бы с мавляной Мухиддином без Али Кушчи, который ухаживал за больным, успокаивал его, поддерживал в нем ясное сознание. И не только словом действовал – большую часть еды своей отдавал ему, ночами укрывал собственным чекменем, а сам, дрожа от холода, все мерил и мерил шагами узкую темницу, до самого рассвета ходил, до пробуждения Мухид-дина.
В одну из таких бессонных ночей Али Кушчи осенила одна счастливая мысль.
Уже несколько лет Али Кушчи был занят большой книгой. Он намеревался осветить в ней самые сложные вопросы астрономии. Первую часть успел закончить при Улугбеке – то было, по существу, лишь вступление к дальнейшему. Книгу он назвал «Рисолаи дар фала-кият», что в переводе с фарси означает «Трактат о небесных телах», а первая часть подробно излагала весьма важные для астрономии геометрические понятия: точка, прямая, ломаная, плоскость, параллельные линии и плоскости, наконец, учение о круге и прочих криволинейных замкнутых фигурах. Без этого нельзя было переходить к движению небесных тел… Не успел перейти ко второй части Али Кушчи.
Так надо закончить ее здесь, в зиндане!
Вечерами и в начале ночи, когда мавляна Мухиддин впадал в дрему, Али Кушчи, вышагивая по узкой темнице, заставлял себя думать, рассчитывать, оттачивать выводы. Без бумаги, без чертежных инструментов было трудно, очень трудно. Представить в воображении прямые и ломаные линии орбиты, плоскости вращения – одно, а вычислять, точно устанавливать их связи – совсем другое.
Как бы ни сложна, ни изнурительна была такая работа, – Али Кушчи сразу и не без радости понял, – она успокаивает душу, уводит от мрачных мыслей. Порою он, занятый законами неба, совсем забывал, где находится. Все печали рассеивались, все заботы о себе и даже – неутихающая рана сердца! – думы о матери отодвигались куда-то далеко, далеко…
Вот и сегодня, стоило только мавляне Мухиддину заснуть, Али Кушчи позабыл обо всем, кроме одного трудного вопроса: как и почему воздействует расположение планет на смену времен года, от которой так много зависит в нашей человеческой жизни. Но Мухиддин почему-то проснулся и снова принялся стенать. Али Кушчи был особенно раздражен тем, что ему помешали в ответственный миг размышлений. «Жалкий человек, – подумал он, – а еще считается ученым! Какой же ты ученый, если не стремишься узнавать новое и во имя этого не можешь проявить терпения?.. А ведь недавно мавляна Мухиддин блистал умом, и заслуженно, особенно в математике…»
Али Кушчи воззвал к аллаху – пусть падут на голову любые беды, но только не такая вот жалкая слабость, из-за которой я перестану быть ученым!
Опять послышался из угла жалобный голос:
– О мавляна, мавляна! Какая же и кому польза от вашей непреклонности, от вашего упрямства? Кому, кому нужны теперь наши книги, эти еретические книги?..
Словно пощечину дали Али Кушчи.
– Что вы сказали? Еретические книги? Где ваша совесть, сподвижник мой, как позволила она вам произнести такое?!
– Не говорите, не говорите о совести!.. Не напиши мы противных шариату книг, разве уготовил бы нам всевышний эти муки? За свои грехи расплачиваемся, мавляна!
– Да, конечно, – усмехнулся Али Кушчи, – если аллах захочет, то сегодня же и освободит нас от этих мук!
– Истинно так, истинно… Если не будем противиться больше шах-заде и покаемся, в грехах наших покаемся!
– Где логика в том, что вы говорите, дорогой мой? Ну, допустим, я, ваш покорный слуга, спрятал, спрятал крамольные книги, чем свершил, как утверждает надменный шейх, грех против шариата. Я свершил грех – я и несу наказание. А вы?.. Ведь вы отвернулись от устода, не придали значения его завещанию, мало того, вы раскрыли тайну этого его поручения и тайну исчезновения книг из обсерватории. Так?.. Так… Тогда почему же и вы подвергаетесь наказанию, за что?
– Ваш покорный слуга, видно, и в аду будет гореть из-за вас… из-за вашего греха?
– Нет! – выкрикнул Али Кушчи, задыхаясь. – Нет! Не из-за моего, из-за собственных! Вы попрали волю устода Улугбека, предводителя ученых! Нет… не перебивайте меня, мавляна! Не сокрытие книг, перлов ума человеческого, от невежд и фанатиков есть грех… а, напротив, уничтожение разума – вот величайший грех!
– Кто собирается уничтожать книги?
– Кто? Вы не знаете кто?.. Для чего же эти книги, жемчужины светлого разума, обзывают еретическими, нечестивыми? Как поступают у нас с нечестивыми, мавляна? Их убивают… – Али Кушчи тяжело, с шумом вздохнул. – Бедный устод! В каком несчастном веке он родился! Один был светильник под небом Маверан-нахра…
– Светильник! Ангела вы сделали из него…
– Нет! Он не был ангелом. Он был правителем, властелином. И жестоким, и несправедливым бывал… Но все познается в сравнении, мавляна! И по сравнению с этим фанатиком он и впрямь светильник!..
Минуту стояла тишина. Потом снова из темного угла засочился ручеек стенаний и жалоб.
– Верность учителю, верность учителю… Во имя этой верности вы не щадите себя. Хорошо. Похвально. Меня не пожалели во имя все той же верности. Хорошо. Сердобольно. Но пожалели бы хоть свою старую мать! Каково-то ей сейчас!
Али Кушчи ничего не ответил: мавляна Мухиддин ударил по самому больному месту.
С того дня, как нукеры увели его в зиндан, он ни на минуту не заоывал о матери, и все время в сознании жила и мучила картина: упавшая на каменный порог в ужасе, мольбе старая женщина, вскормившая его. Иногда видение это было особенно отчетливым, и Али Кушчи терзался особенно сильно.
Али Кушчи замолчал надолго. Заныло сердце, прижав руку к груди, он присел у стены, оперся спиной о нее.
Вспомнилось безмятежное детство. Лето, поездки на крытой арбе, когда мальчиком выезжал он вместе с отцом и матерью собирать дыни. Пору урожая Али любил больше всех других.
Али Кушчи был уже взрослым парнем, настоящим джигитом, отличался удалью и на скачках, и в козло-дранье, и в лихой игре с мячом – човган, а мать все опекала сына, не отходила от него и, бывало, с криком «осторожней, верблюжонок» бросалась прямо в гущу скачущих джигитов, рискуя быть сбитой с ног и раздавленной азартными конями. Али Кушчи стыдился перед товарищами, что мать так опекает его, всякий раз уговаривал, просил ее не поступать так, будто он малое дитя, даже ссорился с ней, но толку от всего этого не было, и, глядишь, следующая игра, а мать тут как тут, и опять – «осторожней, мой верблюжонок!», и опять бежит она за их лихой юношеской ватагой…








