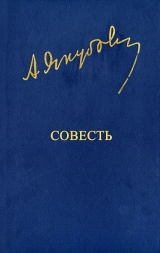
Текст книги "Совесть"
Автор книги: Адыл Якубов
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 41 страниц)
Некоторое время Джаббар учился на курсах танкистов, где-то на севере Казахстана. И вскоре, в феврале сорок второго, отправился на фронт… Пять месяцев шли от него письма. Треугольники, исписанные химическим карандашом… Бывало, получит такой треугольник Фазилат и оживает, как земля в засуху под летним дождем. И плакала, и улыбалась, читая. А потом целый месяц не было писем. И Атакузы куда-то пропал, исчез. Ровно через месяц он шальным ветром ворвался в класс – Фазилат учила детей в школе. Босой, без шапки, подняв треугольное письмо выше головы, крикнул с порога:
– Жив Джаббар-ака! Он ранен. В госпитале сейчас!
Фазилат не смогла сдержаться. Притянула бритую голову Атакузы к себе и на глазах у класса расплакалась.
Джаббар писал, что ранен в ногу, что «если будет суждено, скоро увидимся».
В этой надежде прошло еще два месяца, настало лето. Почти все мужское население кишлака ушло на фронт. Ушел и председатель колхоза. На его место раисом поставили амаки Фазилат, ее дядю. Слабый он был человек, нерешительный.
Однажды амаки вызвал Фазилат в правление.
– Ты уж оставь на время школу. Боюсь, и счетовода заберут на фронт. Поработай с ним. Подучись у него немного.
Так Фазилат оказалась в конторе колхоза. Вот тогда-то и появился в кишлаке Джамал Бурибаев.
Как-то Фазилат сидела одна в конторе, считала. На улице зацокали о каменистый грунт копыта. Фазилат подошла к окну. У дверей конторы остановилась пара сытых вороных, запряженных в старинный фаэтон. Из фаэтона вышел рослый статный мужчина – новая военная гимнастерка, военная фуражка. Чеканя шаг, поскрипывая хромовыми сапогами, он шел прямо к ней. Первой мыслью было – «Джаббар!», но тут же поняла – ошиблась.
Незнакомец остановился у открытого окна, стал в упор разглядывать Фазилат.
– Где раис?
– В степи. На жатве, – с трудом шевельнула губами.
– А вы кто такая?
– Я… помощник счетовода…
Снял с головы фуражку, пригладил черные волосы – они так блестели, словно приезжий только что вынырнул из воды. Усмехнулся:
– Молодцом раис! Знает, кого взять в счетоводы.
Фазилат покраснела.
– Он мой амаки.
– Ах вот оно как… Зачем же ваш амаки прячет от нас такую племянницу? Как тебя зовут, красавица?
– Фазилат.
– Фазилатхон, значит. И имя красивое. Ну, складывай быстрей свои бумаги и садись в фаэтон!
– Я? Зачем?
– Хочу прокатить тебя! – рассмеялся военный, но сразу же нахмурил брови, – Я – Бурибаев! Может, слышала?
– Ой, председатель райисполкома?..
Бурибаев довольно улыбнулся:
– Вот видишь, мы, выходит, знакомы. Значит, покажешь нам дорогу в степь. Поторопись, пожалуйста!
В широком фаэтоне с огромным откидным зонтом они сидели вдвоем. Старик кучер торчал на облучке. Фазилат стало не по себе, забралась в самый угол. Бурибаев придвинулся, пошутил:
– Хотя слово «бури» и означает – волк, у меня только фамилия Бурибаев. Если сама не захочешь, я тебя не съем!
Всю дорогу Бурибаев рассказывал разные истории, старался развеселить Фазилат. То смеялся, а то вдруг делал вид, что грустит: тяжело вздыхал, хмурил брови. Фазилат почти не слушала его шуток, ни разу не улыбнулась. Она сидела, пугливо прижавшись в угол, ей было не по себе, казалось, в чем-то поступила нехорошо. Скоро убедилась, что и другие думают так. Фаэтон проехал мимо поля. Там жали ячмень женщины. Они зашушукались, поглядывая на нее. И совсем уже вышло нехорошо, когда на хирмане – гумне встретились с Атакузы.
Мальчишка прутиком погонял волов, тянувших волокушу. Старая рубашка намокла от пота, штаны засучил до колен, закрылся от солнца войлочным киргизским колпаком допотопных времен. Увидел Фазилат, как она выходит с Бурибаевым из фаэтона, и сначала застыл, открыв рот, а потом в сердцах стегнул волокушу и резко отвернулся.
И тогда Фазилат, встретив презрительный взгляд Атакузы, дала себе зарок – никогда больше Бурибаева не подпускать. Но чем больше она его избегала, тем упорнее он искал встреч. Зачастил в кишлак и каждый раз непременно заглядывал в контору. А потом и еще придумал: стал вызывать Фазилат в район, в канцелярию исполкома – помощь, мол, там нужна.
И странное дело: каждый раз, как звонили от Бурибаева, в конторе поднималась суматоха. Бегали, искали Фазилат, если ее не было на месте. Амаки собственноручно снаряжал арбу. Сам отправлял ее в район. Несчастный дрожал при одном имени Бурибаева. И конечно, когда она приезжала, Бурибаев находил предлог, покидал свой кабинет и подолгу сиживал в канцелярии. Пытался пригласить ее на вечеринку, в парк. Туманно намекал: им надо «быть вместе». От вечеринок, от прогулок Фазилат решительно отказывалась. Она если не каждый день, то раз в неделю получала письма от Джаббара и с нетерпением ждала – скоро приедет. Но Джаббар не приехал. Три месяца лечился в госпитале, а потом пришло письмо – отправили на фронт. И еще одно письмо было. Писал: «Не сегодня завтра вступим в бой». Его последнее письмо! Спустя два месяца – был конец октября – амаки робко заговорил с ней о Бурибаеве. Уверял, что плохого тот ей ничего не сделает. Помыслы у него самые чистые, готов даже разойтись с женой.
Фазилат заплакала, заявила прямо – не желает и слушать про Бурибаева, будет ждать только Джаббара, всю жизнь ждать. А, не дай аллах, не вернется, все равно за Бурибаева не пойдет. Амаки расстроился, хлопнул дверью.
И еще месяц минул. Шел конец ноября. Какой страшный был день! Пришла утром на работу и увидела на столе конверт. Нет, то был не долгожданный, свернутый руками Джаббара треугольник, а настоящий почтовый конверт с большой печатью.
Фазилат посмотрела и взмокла от холодного пота. Дрожа раскрыла конверт. Дочитать не смогла – в глазах потемнело, пошатнулась. Схватилась за стул, а потом опомнилась уже на полу. Это было «черное письмо» – похоронка.
Неделю, а может, и больше ходила не помня себя. Когда немного опомнилась, подумала вдруг – а почему это «черное письмо» пришло не к родителям Джаббара в Ташкент, а сюда, к ней, на ее имя? Побежала на почту. Там объяснили: «Должно быть, в кармане Джаббара нашли твой адрес и твою фотографию, поэтому и похоронку адресовали тебе. Война!»
Прошел месяц, странный месяц. Фазилат будто не жила. Двигалась, работала, говорила с людьми, но все это делала не она – ее руки, ее ноги исполняли привычное дело, она же сама была далеко… Плохо помнит Фазилат то время. И в эти дни амаки не отставал от нее. Упрашивал, уговаривал, кричал, топал ногами, грозил, бросался перед ней на колени. Наконец в ход были пущены слезы. Он умолял Фазилат согласиться, говорил: если она откажет Бурибаеву, тот снимет его с работы, пошлет или на фронт, или в рабочий батальон.
Тут она будто очнулась. Амаки, пожилой мужчина, плакал перед ней, просил. О чем? Не все ли ей равно? Для нее все погибло. Несчастный амаки, чем она могла помочь ему? Что ответила ему, Фазилат не помнит. Помнит только, что амаки усаживал ее в арбу, совал бумаги, бормотал – вызывают в район с отчетом. Она поехала. Там все и случилось. Кто-то встретил ее в пути, о чем-то говорил, повернул арбу совсем на другую дорогу. Она не успела даже испугаться… Ей было все безразлично…
Бурибаев не забрал Фазилат в город. Устроил в домике с двумя комнатами рядом с правлением. Там и маленький той справил, пригласил только счетовода и амаки. Все тихо, тайно.
Вначале приезжал каждый день, большей частью за полночь. Входил, скрипя сапогами, охлопывал камчой полушубок, стряхивая снег, нетерпеливо дергал задвижку.
Была в нем жестокая черта: он совершенно не терпел слез. Его раздражал печальный вид Фазилат. Громко, по-хозяйски стуча сапогами, играя плетью, заходил в дом, и не дай бог – она не встретит его с улыбкой, а еще хуже – обронит слезу. Мгновенно выходил из себя, бледнел, командовал:
– Кончай траур, ханум! Сейчас, может быть, в эту самую минуту, тысячи джигитов гибнут на войне. Тысячи молодых женщин остаются вдовами. А мы с тобой целы и невредимы, живем в тепле и уюте. Надо благодарить судьбу, ханум. Каждый день – на вес золота! Дорожить этим золотом надо. А ну, подавай на стол. Своею нежной ручкой налей-ка вина в пиалу. Улыбнись! Вот так, ханум.
Фазилат все больше молчала, подчинялась без ропота. Она боялась Бурибаева. Он был для нее действительно бури – волк. Не только что ронять при нем слезы – обиду высказать не смела, когда по неделям не приходил. Порой ей представлялось – все это мрачный, нескончаемый сон, блуждает она во мгле и не может найти просвета…
Наступил январь сорок третьего. Кишлак утонул в глубоком снегу, дома стали как бы ниже, улицы уже. На весь колхоз лишь в одном месте – в правлении – было радио, да и там громкоговоритель оживал раз в сутки, и то на час. Газеты приходили раз в неделю. Но стоило хоть двоим встретиться, разговор сразу заходил о фронте. У всех на устах было одно слово: Сталинград!..
Фазилат сидела в холодной конторе, стучала озябшими пальцами на счетах. За окном промелькнула стайка мальчишек. Дверь шумно хлопнула, и ребята ватагой ввалились в комнату. Впереди – Атакузы. В руках– газета «Кзыл Узбекистан», в глазах – восторг. Но когда Фазилат встретилась с ним взглядом, она увидела в глазах его отчаянный мальчишеский гнев.
– Вот! – Атакузы покрутил газетой над головой. – Джаббар-ака жив! Джаббар-ака – Герой Советского Союза! Посмотрите сюда – весь Ташкент встречал его! Девушки красивее, чем вы, в сто раз и лучше в сто раз встретили его с цветами!
Атакузы бросил газету на стол перед Фазилат и, боднув головой стоявших в дверях друзей, выскочил на улицу. Фазилат не могла двинуться. Она не отрывала глаз от газеты.
Атакузы говорил правду. В газете она увидела снимок: толпа девушек с цветами встречала выходящего из вагона Джаббара, а над снимком – крупные буквы: «Узбекский народ приветствует своего сына-героя!..»
Вечером в сумерках явился Бурибаев – слегка во хмелю. Походка нетвердая, беспокойные глаза так и бегали.
Фазилат проплакала весь день и теперь лежала на кровати без сил, неподвижно уставившись в потолок. Джамал Бурибаев ворвался с вихрем холода, спросил, еще не сняв полушубка:
– Выходит, уже слышала, ханум?
Вместо ответа она прижала платок к глазам. Наполнив комнату снежной пылью, Бурибаев скинул с себя полушубок, швырнул на него бобровую ушанку, изо всей силы топнул:
– Хватит реветь! Не затевай траура, пока я жив! Плачь после моей смерти. А теперь поговорим о похоронке…
– Похоронка? Вы же сами забрали ее у меня…
– А ты слушай! – Бурибаев заложил руки за спину, прошелся по комнате. – Таких случаев, когда приходит похоронка, а потом человек оказывается в живых, – сколько угодно. Ничего не поделаешь – война! Этот герой, говорят, приехал в отпуск. Если заявится сюда, запомни: ты не знаешь меня, а я тебя! Только до его отъезда, а потом будет порядок. Если же что узнал и пристанет с расспросами, отвечай: вышла за меня по любви! Полюбила, ясно? А насчет похоронки – не помнишь, куда сунула. Может, даже сожгла. Ты поняла меня?
Фазилат с горя онемела. Прижавшись к стене в углу постели, она смотрела на него расширенными огромными глазами. При его последних словах не выдержала – зарыдала.
Бурибаев молча стоял над ней. Сквозь слезы Фазилат видела плотно сжатые кулаки и странно прыгающую ногу в блестящем сапоге. Трус! В эту минуту она не боялась Бурибаева. Хотела, ждала – пусть бы повалил ее, начал бить. Пусть душит, растопчет вот этими начищенными хромовыми сапогами. Но Бурибаев вдруг разжал кулаки, прогнал гнев с лица. Он не кричал, не командовал, как обычно. Нагнулся, поправил ее рассыпавшиеся волосы, осторожно погладил их. Фазилат вздрогнула и невольно, будто ее коснулась змея, отодвинулась в сторону. Он и тут не вышел из себя. Тихо сказал:
– Не бойся, дорогая! Все это ненадолго. Приходится поступать так, пока этот человек не уедет обратно. А потом… потом все встанет на свое место. Я официально оформлю наш брак. Заберу тебя в город. Ты же знаешь, я не могу без тебя. Одна только просьба: не забудь того, что я сказал, – ты ко мне пришла по любви. И все. Иначе нам будет плохо. Особенно тебе. Я-то мужчина, как-нибудь выкручусь, но ты – о себе подумай. Нам надо действовать с умом. – Бурибаев робко, нерешительно погладил плечи Фазилат, надел полушубок и вышел.
Прошел час, не больше. В дверь снова постучали. Особым чутьем, присущим лишь женщине, Фазилат, еще не тронувшись с места, поняла – Джаббар! И не обманулась. На пороге, чуть не доставая фуражкой до притолоки, в шинели с золотыми погонами, стоял Джаббар! А за ним – верный Атакузы.
Смуглое лицо, ввалившиеся щеки и странно спокойные, прищуренные глаза – Джаббар не гневался, не укорял. Он испытующе и, как ей показалось, брезгливо смотрел на нее. Она пошатнулась, а может, и упала – не помнит. Потом оказалось, сидит на кровати, а Джаббар все так же беспощадно смотрит на нее.
– Я все знаю, – Джаббар отвернулся к оледенелому окну. – Вы, значит, три месяца не получали моих писем?
«Четыре! Не три, четыре месяца не получала!»
Фазилат не помнит, то ли выкрикнула эти слова, то ли они лишь в мыслях пронеслись. Скорее всего, молчала. Почему же иначе Джаббар так и не оторвал взгляда от затянутого ледяным узором окна? Глухо сдерживая себя, сказал:
– Я выясню причину. Завтра же выясню. Знаете, не было дня, когда бы я не писал вам!
– А я? А мои письма?
– Нет, не получал. И это тоже узнаю. Но не в письмах дело. Говорят, вы получили извещение о моей смерти? Где оно?
Вместо ответа Фазилат бессильно упала на колени, простонала:
– Похоронка!.. Он только что говорил про нее.
– Кто «он»? Бурибаев?
– Да…
– Вы ему отдали похоронку?
– Он сам взял. Давно. Может, порвал, сжег. Да вы же… Вы же ничего не знаете… – Фазилат упала ничком прижалась лицом к ковру, хотела заглушить плач.
Джаббар молчал. Потом она услышала одно лишь слово:
– Ладно…
Раздались чугунно-тяжелые шаги, и кончилось, все кончилось…
Целую ночь и весь следующий день Фазилат пролежала дома, уставившись в потолок. Вечером не зажигала лампу. В поздний час амаки постучал в дверь.
– Фазилат, где ты, детка моя? Почему не зажигаешь свет? – Ощупью пробравшись в комнату, амаки засветил лампу. – Что с тобой, детка? Вставай, оденься. Пойдем к нам. Тетушка твоя приготовила ужин, ждет тебя.
Фазилат молча поднялась, молча надела свое, еще со студенческих лет, пальто и послушно пошла за амаки.
О амаки, этот амаки!..
На улице ее ждали двуконные сани Джамала Бурибаева.
Фазилат двигалась как заведенная. Амаки сел впереди, она сзади и тут вдруг увидела за углом в темноте двух всадников.
– Товарищ Бурибаев! На минутку! – раздалось оттуда, из мрака. Джаббар! Это был Джаббар. Амаки узнал его – взмахнул плеткой, изо всей силы стегнул коней. Оставляя за собой снежный вихрь, сани помчались вперед.
Когда Фазилат вошла в дом амаки, Джамал Бурибаев был уже там. Большую гостиную оевещала тридцатилинейная лампа-молния. Но углы тонули в темноте. Посреди комнаты на маленьком столике-хантахте стояла початая бутылка водки, рядом – две кукурузные лепешки, на тарелке яблоки и гранаты.
Из неосвещенного угла гостиной навстречу Фазилат нетерпеливо выступил Бурибаев. Подоспевший амаки жестом отозвал его в сторону. С минуту они пошептались во мраке коридора. Бурибаев вернулся в гостиную, торопливо накинул на себя сброшенный на кровать полушубок и, застегивая ремень, сказал:
– Вот что, ханум! Этот самый Джаббар, оказывается, побывал сегодня в районе. Проверял насчет почты. Возможно, завтра тебя вызовут туда. Прошу – отвёчай, как условились, ты…
Он замолчал на полуслове. С грохотом распахнулась дРерь, и на пороге вырос Джаббар.
Амаки ринулся было из дому. Джаббар движением пальца остановил его, всем телом загородил дверь. А сам не сводил глаз, глядел в темный угол, куда затравленным зверем отступил Бурибаев.
– А, товарищ начальник! Мы вас ищем целый день, а вы, оказывается, здесь пропадаете…
Из темного угла – глухой голос Бурибаева:
– Если у вас дело ко мне, пожалуйста, в исполком…
– Мы и здесь можем потолковать. Где мои письма, которые я писал с фронта?
– Странный вы человек! Откуда мне знать про ваши письма!
– Вот как? Значит, не знаете? Наверное, скажете, и к извещению о смерти моей не причастны? Кто сочинил похоронку?
Бурибаев пытался что-то сказать.
– Стой! Не перебивай меня, прохвост! Я… мы сражаемся на фронте, кровь свою проливаем за Родину, за народ, а ты!.. Такие сволочи, как ты, здесь, в тылу, творят пакостные дела! – Джаббар нагнул голову, молодым бычком пошел на Бурибаева.
Бурибаев, перебирая руками по стене, стал медленно отходить вбок. Вдруг схватил со стола бутылку и со всего размаха бросил ее под потолок – в лампу, кинулся к окну, ногой вышиб раму и под градом посыпавшегося стекла прыгнул в проем. Джаббар, опрокинувший в темноте столик-хантахту, успел, должно быть, ухватить беглеца за полу полушубка. С шумом и треском Бурибаев рухнул в темень сада.
– Стой, подлец!
Яркие звезды в черноте окна на миг заслонила широкая фигура Джаббара и он исчез во тьме.
– Стой, стрелять буду!
Тяжелый топот бегущих людей, два резких пистолетных выстрела…
Слезливый стон амаки – последнее, что услышала Фазилат. Она, будто раненная теми выстрелами, упала на ковер.
Сколько прошло времени, не знает. В желтом свете керосиновой лампы увидела упавшего на колени амаки, он дрожал, как в ознобе. Против него над опрокинутым столиком стоял Джаббар. Услышала, как ей показалось, издалека тяжелые, как удары молота, слова Джаббара:
– Увернулся, гадина, от пули. Удрал! По всему видно, законченный гад. Ну, а вы… как же вы-то, раис! Как могли?
– О, сынок! Вы не знаете!..
– Знаю! Трясетесь за свою голову. Да цена-то велика. Подумайте, как взглянете в глаза людям после войны.
Может быть, он услышал тихий стон Фазилат. На нее не посмотрел, только сказал:
– Ладно, будьте здоровы! Будьте здоровы, Фазилатхон!
Его последние слова. На следующий день Фазилат узнала, что он уехал на фронт и к родителям в Ташкент не заглянул…
Всю неделю Фазилат не выходила из дома амаки. На седьмой день в сумерки явился Бурибаев. Вместо полушубка на нем была шинель, вместо бобровой шапки – фуражка. Он заметно сдал, осунулся.
Долго не рассиживался, наспех выпил пиалу чая и заспешил.
– Я отправляюсь на фронт, – подошел к Фазилат, с того памятного дня она не вставала с постели. – Не знаю… если в чем виноват, то только в том, что полюбил тебя. Искуплю вину своей кровью. Так я им сказал – в райкоме обсуждали наше с тобой дело. Видишь, еду на фронт. Будем живы, может, еще и увидимся…
Да, так уж несовершенен, оказывается, этот мир. Немного времени прошло, услыхала она – погиб Джаббар. Похоронка пришла на этот раз в Ташкент, к его родителям. Погиб смертью храбрых в ожесточенных боях на подступах к Харькову. Так, говорили, было написано. На этот раз «черное письмо» оказалось правдой. А Джамал Бурибаев?.. Он вернулся летом сорок пятого. На плечах – погоны старшего лейтенанта, на груди ордена и медали, планка-нашивка – два раза был ранен. Пришел, по-геройски выставив грудь…
А у нее был первенец. Родились один за другим еще двое детей. Первенький-то погиб, бедняжка, попал под машину. Ради детей терпела унижения, обиды. А потом сколько лет несла нелегкую долю брошенной женщины. Жена не жена, вдова не вдова. А он, тот, кто принес ей столько горя и унижения, он всегда на коне. Вот и сейчас– главный гость Атакузы, главный сват, ему – все почести. И сын Кадырджан, дай бог, чтобы голова его была крепка, как камень, – заодно с отцом, нет в нем ни гордости, ни сострадания к матери. Зато дочь!.. Дай бог ей долгой жизни, выросла честной, отзывчивой. Чуткая душа! И девушка гордая. Неужели у дочки жизнь будет такой же горькой, как и у матери… Как отвести беду? К кому пойти?
3
Сон не придет – поняла Фазилат и поднялась с постели. Ей было душно. Прошлась по двору, но и двор показался тесным. Набросив на голову платок, вышла на улицу…
Перевалило за полночь. Чуткая к ночным звукам тишина повисла над безлюдной улицей, легкий шелест листвы тополей да тихий говор воды, бегущей по арыку, не мешали ночному покою. Лишь изредка нарушал его лай собак. Погас свет в домах. Но одно окно светилось. По ту сторону улицы, немного левее двора Фазилат, в одном из окон горел свет. Это домла не спит. Беседует с доцентом? А может, как и она, сидит один, растревожен стычкой в саду?
Фазилат будто кто-то за руку повел. Перешла улицу и в густой тени деревьев медленно приблизилась к освещенному окну.
Оно было раскрыто. Прямо перед ним, за широким письменным столом, сидел домла. Положил локти на цветную карту, расстеленную вместо скатерти. Что-то писал, обложенный большими папками и стопками бумаги. Нет, он только держал ручку, уставился в темноту – весь во власти своих, видно, невеселых дум.
Настольная лампа высветила глубокие борозды на просторном выпуклом лбу, резкие складки у большого мясистого носа, сетку мелких морщин в углах задумчиво-усталых глаз. Громадная лобастая голова домлы всегда приводила Фазилат в трепет, но сейчас он-показался ей таким одиноким и грустным, что не сдержала жалости, сама не заметила, как тихо всхлипнула.
Домла встрепенулся, будто вспугнутая большая птица, широко раскрыл глубоко запавшие глаза:
– Кто это там?
– Я, отец, Фазилат…
– Фазилат? – переспросил старик, отодвигая в сторону настольную лампу. – Какая Фазилат?
– Та самая… – Фазилат хотела сказать: «Та самая, несчастная Фазилат», но, не удержав себя, громко зарыдала…
На широком морщинистом лице старика отразилось удивление, потом сменилось растерянностью и смятением.
– А, Фазилат… – Он замигал ничего не видящими в темноте глазами, привстал с места. – Что случилось? Опять этот глупец? Скандалист?
Фазилат не ответила. Она боролась с собой, пыталась удержать всхлипы, душившие ее. Опершись руками о стол, Нормурад-ата всем телом подался вперед. Он только теперь увидел за окном женщину, она припала к стволу тополя, обняв его.
– Что случилось? Говорите же в конце концов!
Фазилат вытерла концом платка слезы.
– Простите, простите, ради аллаха… – и снова не сдержалась, заплакала.
Домла молча глядел в темноту. В лице его все больше проступала нерешительность, а потом и сострадание.
– А ну, зайдите-ка, сюда. Пожалуйста…
Фазилат не знала, куда скрыться от стыда и раскаяния. Уже хотела бежать, но тут открылась дверь, смутно замаячила в чуть освещенном проеме фигура старика.
– Где вы? Фазилатхон! Ну-ка, идите сюда, идите…
Прикрывая концом платка губы, пошла за домлой.
Старик, натыкаясь на груды книг, провел ее в свой кабинет.
– Сюда, сюда… Пожалуйста…
Фазилат осторожно присела на край стула у самых дверей.
Беспорядок в доме, сиротливо жалкий вид самого домлы снова сжал ей горло.
– Так что же? Опять приходил Хайдар?
Фазилат молчала.
Лохматые седые брови старика сошлись на переносице, лицо сделалось сурово-холодным.
– Стоите ночью у меня под окнами, плачете… Просите простить. Если собрались вспоминать прошлое, – не надо.
– Да, да, не надо! – горячо подтвердила Фазилат. – Я вас понимаю. Вы не думайте, я не затем пришла, не оправдываться… Сама не знаю, случайно. Захотелось немножко пройтись. Вижу – горит свет в окне. Подошла, увидела вас и…
– И не надо… – шепнул домла. Опять неуверенность на миг отняла у него силу.
– Я понимаю, что не надо. И все же… все же я виновата перед вами, перед вашим сыном, навсегда виновата…
Тяжелая черная рука Нормурада Шамурадова сжалась в кулак, он хотел крикнуть: «Хватит, ни к чему все это!» И тут вдруг вспомнились строки из письма старушки: «Сыночек, родненький, не сердись ты на отца. Вернешься живым и здоровым – соединишься с возлюбленной. Лишь бы голова твоя была как камень крепкой». Пальцы домлы сами собой распрямились.
– Ладно, доченька, не надо трогать старую рану, не мучь ни себя, ни меня…
– Я же не хотела трогать… – осторожно стала оправдываться Фазилат. – Видит бог, не хотел-a. Только вот… Если б вы знали, как все было. Если б знали!
– А я знаю, доченька…
– Нет, не знаете вы, отец! Не знаете! – И такая боль, такая тоска послышалась в отчаянном крике женщины, что старик замолчал.
Долго в эту ночь не ложился домла – все слушал путаную горячую исповедь Фазилат. Вот уж никогда не думал, что придется снова услышать ту горькую и нечистую историю, да еще из уст самой Фазилатхон. Он всегда закрывал уши, не желая знать подробностей. Боялся, что, узнав, еще больше возненавидит виновницу их беды. А вот слушает. Ни разу не перебил, не переспросил ни разу. Сердце ныло, иногда только стискивал зубы, чувствовал, что задыхается от гнева. Но не на эту рано поседевшую женщину с горестным лицом был направлен его гнев. «Будущий сват» – вот кто заставил его дрожать, сжимать кулаки. Откормленный гусак! Она же… Домле захотелось обласкать, погладить поседевшие волосы. Успокоить хотя бы добрым словом… Но опять вспомнил Бурибаева, его козлиный голос. Оцепенев, застыл, уставился куда-то вдаль, сквозь стену. Только губами шевелил.
– Попался бы ты мне под руку… В двадцатом… А ты-то что молчала? Учительница! Простила ему? Почему не поехала сразу в райком?..
– Так он же…
– Он же!.. В обком почему не кинулась? В Ташкент! К ногтю, к ногтю их надо, таких!.. – это в нем уже бушевал красный конник двадцатых годов.
– Отец… Как кинешься? Кто он и кто я…
Она смотрела на него удивленными, покорными глазами. Такими знакомыми грустными глазами, напоминающими одинокий огонек в ночной степи.
И перед домлой вновь почему-то возникла Гульсара. Отчетливо увидел – сидит на берегу арыка. А он, гневный, переполненный своей великой правдой, грозно сжимает кулаки. Гульсара испуганно и покорно смотрит на него, кротко, без слов валится на кустики базилика…
Домла обхватил голову руками и вдруг тихо затрясся всем телом…
Много слез видела Фазилат. Плакали, бывало, и мужчины в годы войны. Но профессор Нормурад Шамурадов, такой суровый, один вид его приводил в трепет… Плач домлы пугал и хватал за душу. Фазилат вскочила с места, заметалась, хотела подать воды, но домла вдруг очнулся, торопливо провел платком по глазам, сердито кашлянув, хрипло и как-то неуверенно, непонятно заговорил:
– Сколько лет прожили с ней… Сам тоже хорош… Лучше всех… Нет, не мне трогать людские раны…
– Я совсем не хотела трогать. Просто то, что делает ваш племянник, переполнило сердце…
– А что он делает?.. О чем вы говорите?
– Я маленький человек. Хоть и завклубом. Но вот он, Атакузы-ака, зачем призвал сюда этого человека? Величает сватом, превозносит до небес. А нас с дочкой и за людей не считает. Неужели он забыл, как все было?
Домла поглаживал мягкий седой пух на висках и молчал. «О, доченька, доченька! Разве только с вами? Со мной, со своим дядей, перестал он считаться… Что делать, доченька, что делать?»
Сегодня утром домла выехал из лесничества с твердым намерением поговорить с Атакузы – спокойно, по душам, как отец с сыном. Теперь для такого разговора появилась дополнительная причина. Они – домла, Прохор и Уразкул – написали письмо в защиту Минг бу-лака. Написали, когда удалось успокоить разбушевавшегося Уразкула.
Сначала старики долго спорили: куда адресовать письмо? Прохор предлагал не размениваться на мелочи, направить прямо в Москву. Уразкул спустился чуть пониже, предложил подать жалобу в Ташкент. Домла же объяснил, что начинать полагается с низшей инстанции, уговорил их сначала обратиться в райком. И письмо сочинил так, чтобы не очень больно задело Атакузы.
В сущности, письмо было не очень уж обидным для Атакузы. Они ратовали лишь за то, чтобы сохранить это чудо природы, Минг булак, и с этой целью рекомендовали перенести строительство животноводческого комплекса чуть подальше. Даже указали подходящее место. И все-таки домла чувствовал себя так, будто занес над головой близкого человека камчу. А все потому, что знал: вряд ли Атакузы правильно поймет его поступок. Оттого и хотел поговорить поскорее с племянником. Отослали письмо, и домла помрачнел, места себе не находил. Все три дня, что жил у Прохора, промучился, а сегодня утром попросил отвезти его в кишлак. Прощание с Уразкулом вышло натянутым, и домла твердо решил вернуть его сыну дом. Ехали на мотоцикле Прохора. По дороге попросил свернуть в степь. Если решил поговорить, думал домла, то надо говорить, имея полное представление обо всех делах Атакузы. И правильно поступил. Стало ясно, Атакузы замыслил в степи грандиозное дело. И городок строился продуманно – удобный будет для жизни и красивый. И поля толково распланировал, обсадил деревьями против степных ветров. Хлопок уже начинал цвести… И перед Прохором не стыдно. Как бы ни ошибался племянник, а если глаза есть, смотри: работать этот раис умеет, мыслит широко! Одно все же огорчило домлу: дренажи строили не закрытые, уже проверенные жизнью, а прокладывали по старинке открытые канавы. Видно, экономили средства. И вот уже они во многих местах засыпаны песком, засолились. Правда, на полях у Атакузы белесые пятна выступили не везде. Зато в соседних совхозах земля местами совсем белая, будто припорошена легким снегом. Было очевидно, воды недостает, и берут для полива сильно засоленные воды из коллекторов. Надо бы приехать сюда вместе с Хайдаром, подумал домла, посмотрели бы вместе на эти поля, поговорили бы. Может, и отойдет у парня душа. В конце концов, не враги же они.
И так захотелось домле поскорее, не откладывая, поговорить с Атакузы, развеять все недоразумения, что еще по дороге решил: «Поеду прямо к нему домой». Но у двора племянника стояли машины, – видно, принимал гостей. Пришлось отложить разговор. Прохор подвез домлу к его дому, тут же простился и укатил, тарахтя прогоревшим глушителем мотоцикла. Потирая затекшие ноги, домла двинулся к калитке. Рядом, во дворе племянника, дружно, раскатисто захохотали. Ворота распахнулись, и оттуда вывалилась во главе с хозяином оживленная толпа гостей. Люди солидные, представительные, гладкие, лоснящиеся лица выражали довольство, губы блестели от плова. Атакузы вел под руку Джамала Бурибаева.
Нормурад-ата заторопился открыть калитку и никак не мог попасть ключом в замок. Ушей достиг дребезжащий, будто визг немазаных колес, смех Бурибаева:
– Такой грех не возьму на душу! Кхе-хе-хе! Буду, конечно, буду на свадьбе, раис!
– Вместе с супругой, Джамал Бурибаевич, обязательно! – гремел Атакузы. – А всякие суды-пересуды побоку, дорогой сват. Жизнь ведь! А в жизни чего только не бывает. Я дам телеграмму домле Мирабидову. Приезжайте вместе.
– Благодарю, Атакузы-ака, благодарю. Ну, будьте здоровы!
– Нет, нет, я провожу вас до города. Вовсе не потому, что вы начальник управления. Свата поеду провожать. Ха-ха-ха!..
Домла вдруг ощутил – как он устал! Еле доплелся до своей комнаты, бросился на диван…








