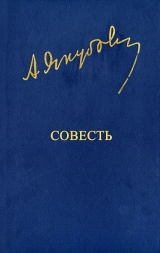
Текст книги "Совесть"
Автор книги: Адыл Якубов
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 41 страниц)
Словно гора с плеч свалилась – такое чувство облегчения испытал Али Кушчи, когда вышел из пещерного жилища Уста Тимура. Они проговорили долго; оказывается, близился рассвет, о чем судить можно было и по бледности звезд на небе – ветер разогнал облака, – и по звукам, что раздавались в кишлаке, – петушиным крикам, собачьему лаю, рыданию ослов, – звукам наступающего утра.
Возвращались Али Кушчи и Каландар тем же путем, что и пришли, и с прежними предосторожностями. Не напрасными, потому что, когда они почти уже дошли до обсерватории, Каландар вдруг резко остановился, повернулся к мавляне и толкнул его в тень чинары.
Кто-то бродил вдоль оврага, бормоча:
– О аллах, о всемогущий…
Каландар, намеренно громко ступая, вышел вперед.
– Эй, Шакал! Что ты тут делаешь, кого вынюхиваешь?
Дервиш что-то невнятно пробормотал в ответ.
– Запомни, Шакал, если ты шакал, то я – тигр. Будешь за мной следить, вырву твой косой глаз и заставлю тебя же его проглотить. Понял меня?
Каландар подождал, пока дервиш, чуть прихрамывая, отойдет подальше. Вернулся под чинару.
– Осторожность и осторожность, мавляна. Святой шейх ставит соглядатая за соглядатаем следить…
10
Уже два дня в одной из угловых комнат Кок-сарая терзается размышлениями Мирза Улугбек. Выходить отсюда ему запрещено.
Чуть ли не полвека проведя в Кок-сарае, Улугбек и не подозревал о существовании этой комнаты – холодной и сумрачной. Свет падал сюда из узкой щели сверху прямым, нерассеивающимся лучом. Холодное дыхание стен чуть задерживали ковры. Узнику – хотя его так не называли – дана была пара одеял. Кормить кормили хорошо: на столике вон они, шашлык остывший, хлеб, фрукты, в изящной фарфоровой чаше вино. Не те, кто посадил его сюда, повинны в том, что Улугбек голоден, тому причиной подозрительность самого повелителя… бывшего повелителя. Он так и не притронулся к пище, за двое суток пил только воду, сделал пару глотков – и все.
От голода и бессонницы мысли, конечно, путаются. И остается одно – лежать на одеяле посреди комнаты да смотреть на отверстие в потолке.
Чего только не передумал Улугбек, лежа на этом тюремном одеяле. Вся жизнь прошла перед ним – от счастливых лет детства до нынешнего безысходного положения, близкого, видно, к концу, к смерти. Ведь и на убийство может решиться его сын, престололюбивый и жестокосердый.
Вот ему, Улугбеку, уже за пятьдесят, из них почти сорок лет был он первым человеком в государстве, правителем, но спроси-ка его, что такое счастье, в чем оно и какую отраду узнал он, придя в сей бренный мир, спроси, и не ответит мудрец и ученый, султан и поэт Улугбек. Жизнь венценосцев похожа на дворцы, построенные по их повелению: издали переливаются теплыми красками, горят на солнце, ослепляя людей, а внутри – вроде этой комнаты – холод, мрак, сырость. И безлюдье.
Или интриги
Сжирают друг друга люди, будто хищные звери. Гнездо заговоров и склок этот Кок-сарай! Единственное для Улугбека утешение души – наука, единственная радость – иное безлюдье, когда уходил он из Кок-сарая в обсерваторию, сидел там в уединении с астролябией в руках, наблюдал за бездонным небом, полным звезд, за его чарующей красотой.
Всевышний лишил его теперь и этого единственного утешения.
И снова, снова вспоминал Улугбек о деде, эмире Тимуре. Бури проносились после кончины Тимура над Хорасаном и Мавераннахром. Почему? Да потому, что возмездие за пролитый океан крови неизбежно. Неотвратимо. Если не настигает оно того, кто пролил эту кровь – а сам Тимур умер как раз перед исполнением своей цели: завоевать Китай, единственную великую державу Востока, что еще не была вытоптана его конницей, – то потомков карает. Потомки Тимура резали друг друга беспощадно, жестоко, злее хищных зверей. Это ли не кара, не возмездие? Тысячи и тысячи детей остались сиротами, тысячи и тысячи женщин вдовами после походов потрясателя вселенной – и не из-за этого ли резня среди тех, кто наследовал Тимуру, не из-за этого ли разваливается его необъятная держава и новые реки крови льются в яростных братоубийственных войнах?
Совесть Улугбека может быть спокойна. Сорок лет он правил Мавераннахром, завоевательных походов не предпринимал, ну разве что в юности и для того, чтобы не распалось государство, а не для того, чтоб расширилось. И в Хорасан ходил на закате жизни в целях обороны, иначе раскололось бы государство, съели бы Тимуровы родичи друг друга. А без него… что было бы без Улугбека, захвати власть эти бешеные племянники из Герата? Что станет с Мавераннахром и Хорасаном теперь… без него?
Вчера он передал Абдул-Латифу два послания, просил– просил! – позвать на беседу. Он хотел сказать сыну, что сам, сам отречется, по своей воле, в согласии с законом, который такие случаи предусматривал, ведь для народа важно, что власть передана, а не отнята у законного владельца, это должен понимать будущий правитель. А просить – просить! – Улугбек хотел одного? чтобы остаток дней ему позволили провести в занятиях наукой. И еще хотел Улугбек дать сыну отцовский наказ, как править страной: все-таки сорок лет, опыт! Он хотел предостеречь сына от неверных слуг, доказать, что быть справедливым и человечным не только угодно богу, но и попросту выгодно для правителя.
Оба послания остались без ответа.
Смерти Улугбек не боялся. Все смертны. Все приходит рано или поздно к своему концу, к исчезновению. За душу сына, коль посмеет тот склониться к мысли об убийстве отца, вот за что боялся Улугбек. Каким бы подлым мятежником ни был Абдул-Латиф, он ведь его, Улугбека, отпрыск, сын его! Люди проклянут отцеубийцу, всевышний не прощает такого греха…
Скрипнула дверь. Улугбек открыл глаза.
Страж вошел первым, потом пропустил повара-ба-каула. Кормить султана еще кормят. Бакаул на тяжелом серебряном подносе нес миску шурпы, чайник, две v румяные лепешки.
Поклонившись, толстяк бакаул поставил поднос на столик, не торопясь собрал остывший шашлык. Медлительность его движений поневоле привлекла внимание, и, когда Улугбек посмотрел на повара, тот странно помахал рукой над лепешкой, словно мух от нее отгонял, подмигнул при этом и, пятясь, отошел назад. Улугбек ничего не понял. Проводил повара взглядом до двери, а тот покачал головой и уже у самой двери приложил палец к губам.
Ушел.
Страж загремел снаружи сапогами, устраиваясь перед дверью поудобнее.
Что хотел сказать старый повар, слуга Улугбека? О чем-нибудь предупреждал? Видно, какая-то новая беда ожидает бывшего властелина.
Вкусный запах свежего хлеба вызывал головокружение. Султан проглотил слюну. Взял лепешку, разломил– будь что будет, отравят так отравят – и застыл от удивления; из разломанной половины лепешки торчала свернутая бумажка.
Незнакомец прежде всего познакомил Улугбека с тем, что происходит в городе. Светопреставление – так назвал он происходящее. Вчера в соборной мечети высшее духовенство объявило Улугбека врагом ислама. Правителем Мавераннахра провозглашен Абдул-Латиф, и теперь будут чеканить монету с его именем. Шах-заде взял под стражу многих благородных, а также некоторых эмиров и воинов Мирзы Улугбека. Иные уже казнены.
Автор записки, лицо, видимо, обо всем хорошо осведомленное, сообщал и о намерениях Абдул-Латифа относительно отца: предполагалось отправить его паломником в Мекку для замаливания грехов и последующего возможного возвращения в лоно истинной веры. Паломничество, только иного свойства, чем обычный хадж, – принудительное. Говорят, что в мечети во время проповеди к ногам Абдул-Латифа пал некий «правоверный мусульманин», Саид Аббас, и потребовал у «законного повелителя» отмщения за якобы невинно казненного Улугбеком отца своего. Бездоказательный иск нечестивца никто не решился отклонить, никто, кроме верховного казия Ходжи Мискина, коего протест потонул в яростном реве остальных улемов. Если иску Саида Аббаса будет дан ход, жизнь повелителя, и без того находящаяся под угрозой, повиснет на волоске. Вот почему, писал незнакомец, надо бежать, и, коль скоро Мирза Улугбек будет с этим согласен, пусть даст знать бакаулу. Тот усыпит стражу и – буде аллах позволит– выведет повелителя на волю потайным ходом.
«Западня, истинная западня!» – подумал Улугбек. О потайном ходе знал не только он сам и, как выясняется из записки, бакаул, но и шах-заде. Тот уже, ясное дело, поставил своих воинов около выхода из подземелий. Улугбек пойдет вслед за бакаулом и попадет прямо в их руки!
Улугбек прошелся по комнате. Взгляд его упал на разломанный хлеб. И снова подумалось: «Отрава!» Все, все отравлено – и хлеб, и мясо, и вино в фарфоровой чаше. Чего проще, отравить его, убрать так легко с дороги. «Ну, а разве теперь мне не все равно? Не лучше ль умереть от яда, чем от рук палача по навету какого-то Саида Аббаса? Не лучше ли пасть по навету, но здесь кончить дни свои, чем расстаться с родиной, замаливать, скитаясь на чужбине, грехи, в которые сам не веришь, вызывая к себе ненависть и насмешки фанатиков, и все равно умереть, потому что ни этой ненависти, ни тем более отдаленья от родины не выдержать?!»
Что будет, то и будет! Пусть отрава… И все-таки кто написал эту записку? Ведь дело рискованное, если это не западня. Али Кушчи, мавляна Мухиддин? Ну нет, такие дела не под силу людям науки. На такой риск может решиться лишь воин. Как Бобо Хусейн… Наверное, он… Так что же, попробовать бежать?.. Нет, он не будет пытаться бежать. Он правитель Мавераннахра. Он может отдать власть, но спасаться бегством?.. Да и куда он может убежать, он, кто сорок лет был на глазах всех и каждого в стране… «Мне ничего не нужно, Абдул-Ла-тиф! – мысленно обратился Улугбек к сыну. – Бери, все бери. Все твое. Только не опозорь в веках ни меня, ни себя позором черным!»
В комнате стало совсем темно. Снопик света, падавший сверху, погас. Сквозь отверстие в потолке, маленькое, величиной с ладонь, проглянули звезды.
– О боже мой, – прошептал Улугбек.
Да что это с ним? Он не угадал этих звезд, он, астроном, что знал каждую, как свой палец… Какое же это созвездие? Кажется, Дубби акбар, или нет? Глаза его потускнели или, чего доброго, он тронулся разумом?
Мысли узника путались.
Улугбек, удрученный, собирался заснуть, но тут раскрылась дверь и в комнату вошли два воина, оба с обнаженными саблями. По серьгам в ушах Улугбек узнал уроженцев Балха. Какой-то незнакомый смуглокожий есаул появился вслед за воинами, отвесил небрежный поклон, слегка склонив голову в темно-зеленой чалме, и молча указал рукой на дверь.
Улугбек сдержал гнев, хотя непочтительность чужестранца была нарочитой. Узник накинул на себя шубу, вышел вслед за воинами.
Кромешная тьма наполнила дворы Кок-сарая; сторожевые башни, гарем, дворцовые постройки – все безмолвствовало. Только в самом крайнем окошке одного из домов гарема чуть пробивался свет.
Перед глазами Улугбека возникло видение – красавица невольница с печальными васильковыми глазами, его последняя радость, последнее прибежище сердца… Любое существо стремится от холода к теплу – так и Улугбек, когда не знал, куда деть себя от тоски, от мучительных раздумий, стремился к этой кроткой девушке с печальными глазами и, завидев застенчивую ее улыбку, горящие смущением щеки, словно сбрасывал груз прожитых лет и тяжесть забот. Он с удовольствием слушал ее слова, радостно убеждался в том, что его тяга к ней отзывается и в ее сердце. Последняя, предзакатная любовь, ниспосланная для того, чтобы утешить его, последнее солнышко, способное согреть его душу, – даст ли всевышний возможность хотя бы еще один раз увидеть это солнышко? Мирза Улугбек заставил себя оторвать взгляд от окна…
Приемная зала была ярко освещена. В креслах с высокими спинками, расставленных вдоль стен, восседали служители веры, все одинаково одетые: поверх суконного золотистого халата покрывала из белого шелка, у всех белоснежные чалмы на головах. Некоторые из улемов, завидя вошедшего. Улугбека, по привычке торопливо встали, но под горящим гневным взглядом шейха Низа-миддина Хомуша – он сидел в углу палаты – с той же поспешностью попадали в кресла.
Сановников не было. «Марофаа, – догадался Улугбек. – Религиозный суд. Но тогда почему нет шейх-уль-ислама Бурханиддина и почтенного верховного казия Ходжи Мискина? Неужели и на них осмелился поднять руку Абдул-Латиф?»
Шейх Низамиддин погладил свою белую холеную – каждый волосок блестит – бороду. Приподнял руку, призывая к вниманию.
– Раб аллаха Мухаммад Тарагай! – начал он, намеренно не произнося титула Улугбека. – Улемы Самарканда, служители истинной веры, мы собрались сюда, чтобы сделать объявление о высочайшей воле нашего повелителя Мирзы Абдул-Латифа, а также довести до сведения вашего фетву – решение улемов.
– А где сам наследник? Где мой сын? – перебил Улугбек.
Шейх откинулся назад.
– Наш благодетель и защитник престола счел грехом для себя лицезрение того, кто был властелином-вероотступником.
Улугбек побледнел, но заставил себя иронически улыбнуться. Сложив на груди руки, он почти надменно взглянул на шейха. Султан Улугбек был готов к бою.
– Раб аллаха! – воскликнул Улугбек, тоже намеренно не назвав титула шейха. – Кто из слуг аллаха вероотступник, а кто верует в него всем сердцем, про то не смертному знать, а только ему самому, всевышнему! Решать за аллаха то, что может решить лишь сам создатель, – не тягчайший ли грех против нашей истинной веры?
Сидящие в зале, словно по команде, повернули головы к шейху. Как он отобьет этот выпад? Шейх снова поднял руку и торжествующе потряс четками из темного жемчуга.
– Напротив, напротив! Назвать своими именами добро и зло, назвать вероотступником вероотступника, того, кто сбивает мусульман с праведного пути, – это не только не грех, но богоугодный поступок. Лишь невежда, погрязший в грехах, или хуже того…
– Лишь невежда не знает, что написано в коране, – опять перебил его Улугбек. – Там же сказано: все хорошее и все плохое – все от аллаха! И раз это так, то в чем нарушил я заповеди аллаха?
Гул возмущения промчался вдоль стен, улемы повскакали с мест.
– Проклятие гонителю истинно верующих!
Шейх призвал к спокойствию тем же торжественным жестом руки. Но в красивых, засверкавших глазах его пылал плохо скрытый гнев. Он пригнулся, впился взглядом в султана.
– Самовольное толкование корана – нет тяжелее греха!.. О слепота, о самомнение человеческое! Безбожник спорит о боге вместо того, чтобы просить об отпущении грехов!.. Эй, раб аллаха! Вспомни-ка эту суру из священной книги: все, что содеяно аллахом – и милость, и щедрость, и муки, и страдания, – все, все справедливо, и нет у аллаха долга перед своими рабами!..
– Не мешает вспомнить и другую суру: «Дарю знание рабам своим для того, чтобы…»
– Довольно! Хватит кощунствовать!
– И в самом деле, – шейх развел руками, показывая, что больше сдерживать возмущения собравшихся улемов он не в силах, – и в самом деле… Для того ли пришли мы во дворец, чтобы спорить с вероотступником о канонах веры?
Спазма ярости схватила Улугбека за горло, не дала свободно вздохнуть. С усилием сдержался. Перекрывая шум, громко произнес:
– Чтобы спорить о канонах веры, надо быть просвещенным человеком. На этот же суд, на эту лживую богопротивную сходку собрались не мудрые улемы, а темные души, недалекие умом и…
Зал задрожал от диких воплей: «Осквернитель веры!», «Да будет проклят вероотступник!», «Будь проклят!», «Во веки веков!» В таком шуме нельзя было расслышать тонкого скрипа одной половины двустворчатой двери, что вела во внутренние покои, – она чуть приоткрылась и тут же снова закрылась.
Шейх Низамиддин Хомуш поплевал по сторонам в знак того, что отгоняет злых духов. Властно закричал:
– Раб гордыни! Ты, возгордившись, сбил с пути истинного многих мусульман. Ты научил народ развратной жизни, бражничеству, стихам и пляскам. Ты открыл медресе и заставил учиться – о аллах, только чему?! – и мужчин, и женщин… Неужели этих грехов мало?..
– Но почему это грех, достопочтеннейший шейх? Нет ничего дурного в радостях жизни, если они умеренны. А уж тем более в учении. Ибо сказано: учиться знанию есть долг каждого мусульманина и каждой мусульманки… В коране, как известно, сказано…
– Нет в коране такого утверждения, нет!.. Не знаю!.. Довольно!..
– Нет в коране, есть в хадисах. А там, вы знаете, собраны изречения пророка. – Улугбек уже откровенно смеялся. – Или, о святой шейх, слова пророка перестали быть законом для мусульман?
Шум внезапно смолк. И все улемы вновь повернулись к шейху. Тот резко пристукнул посохом, сжав хризолитовую ручку так, что побелели пальцы, выпрямился и, судорожно дергаясь всем телом, закричал как мог громко:
– Заклинаю… заклинаю прахом деда твоего, великого эмира Тимура, прахом отца твоего, Хакани Саида Мирзы Шахруха – проси всевышнего о прощении тебе грехов, или…
– Вам, вам надо о том просить! – Улугбек сделал шаг вперед. – Мои грехи рассудит аллах, а вот почему вы вместо того, чтоб сидеть у себя в «Мазари шериф» и славить, славить аллаха – вот ваше богоугодное дело… почему вы вместо смиренной молитвы вмешиваетесь в дела, вам не подсудные, в дела государства?.. Это вы, вы живете в блуде и роскоши… Вы алчете власти, вы плетете заговоры, вы желаете встать над законным правителем страны! Султан – тень аллаха на земле! Хоть это изречение корана вам ведомо? Ведомо, но не хотите с ним примириться. Вот он, ваш великий грех!
Твердыми шагами Улугбек направился к двери: он-то видел, как она приоткрывалась, догадался, кто за нею. Вид султана был страшен, бледное как алебастр, лицо, горящие глаза, весь словно стрела, готовая сорваться с тетивы. Улугбек пошел прямо на улемов, что толпились возле двери, и ни один не посмел преградить ему дорогу. С силой толкнул он дверь, правая половинка ее ударилась о стену и снова захлопнулась, и тогда Улугбек рванул ее на себя, прошел в салямхану и притворил дверь за собой.
Абдул-Латиф едва успел отскочить от двери к трону.
Рядом с троном в глубоком ярко-красном бархатном кресле Улугбек увидел ишана Убайдуллу Ходжу Ахрара.
Круглая золотая люстра посылала вниз лучи более десятка свечей, в боковых же нишах свечи не горели, при таком верхнем освещении лицо шах-заде казалось бесцветно-серым – какая-то безжизненная маска. Глубоко запавшие глаза, тонкие пальцы дрожали, выдавая смятение. Ишан Ходжа Ахрар был, напротив, воплощением спокойствия. Белая накидка поверх рыжего одеяния шейхов – джуббы – плавно стелилась по его полной широкой фигуре, спокойно, даже уютно устроившейся в кресле; конец чалмы, свисая на грудь, терялся в завитках черной, без единого седого волоса бороды, размеренно-спокойно двигались короткопалые руки, перебирая четки, губы шевелились – ишан молился, неторопливо, будто один у себя дома.
«И этот ворон успел прилететь. Верховный ишан из Шаша, давний мой «друг», – подумал Улугбек. Вслух же сказал:
– Простите, святейший, я хотел бы поговорить с сыном.
Ишан не прервал молитвы, не изменил позы. Но какую-то тень его взгляда перехватил Абдул-Латиф. Вздрогнув, шах-заде буркнул:
– В беседе обязательно должен принять участие мой пир, святейший ишан.
– Нет! – резко сказал Улугбек. – Я хочу говорить с тобой наедине, только наедине. Или ты отказываешь отцу в последнем его желании?!
Ишан оперся о подлокотники кресла, молча встал. Неторопливо направился к выходу. Полное лицо его дышало невозмутимостью, толстые пальцы по-прежнему перебирали четки – во всем этом чувствовалась властная сила, все это внушало: «Будь смелей, независимей, шах-заде!»
Ишан открыл дверь – и словно гул пчелиного улья донесся из приемной залы, дверь закрылась – снова стало тихо.
Улугбек облегченно вздохнул. Подошел к трону, провел рукой по обивке сиденья. Сел в кресло, которое только что занимал ишан. Глаза Абдул-Латифа напряженно следили за отцом, безжизненное лицо-маска оставалось недвижимым. Улугбек вдруг на миг ощутил жалость к сыну, отцовское желание уберечь его от зла нахлынуло на сердце. Надо найти, найти первое слово.
Гордость Тимурова внука не позволяла расслабиться, дать волю жалости.
Тишина угнетала обоих. Комната словно потемнела. Потемнели стены в нежно переливающихся узорах, потемнели ярко освещенные орнаменты на потолке, огненные ковры на полу, канделябры и свечи. Или это ему кажется оттого, что буря утихает в душе?
Абдул-Латиф вдруг подошел к трону, демонстративно уселся на него.
Пусть так. Он больше не хотел владеть этим троном. Но, смотри, как неожиданно изменилось лицо сына! То ли сам трон, это вожделенное сиденье властителя, придал ему силу, то ли что другое перевернуло душу, но взгляд Абдул-Латифа сразу приобрел твердость, в прищуре глаз – жестокость и решимость. Совсем как прадед, эмир Тимур! Правда, в облике деда на троне было больше спокойствия, а этот сидит на краешке и, кажется, разыгрывает спокойствие. Но все-таки не маска уже и нет знаков растерянности.
Улугбек оторвал взгляд от лица сына.
О, как меняется человек, когда садится на трон! Будто ты уже и не смертный, который, придет срок, уйдет. Будто и впрямь тебя уже все любят, а не делают вид, что любят, и будто не было до тебя тысяч и тысяч измен. Да что говорить, самому эмиру Тимуру изменяли!.. Вот он сидит, отпрыск Тимура, правнук его, важный, надутый, старается казаться страшным и несокрушимым и не знает, что все это призрак, сон…
Э-э, Мухаммад Тарагай, что это ты так безжалостно судишь о том, кто сидит рядом с тобой, но выше тебя? А тебя самого не лишало ума-разума это золотое сиденье, не опьяняла возможность властвовать над подобными себе? Никогда, никогда? Не лги самому себе, Мухаммад Тарагай… И не забывай, что сын твой – вон там, на троне! Говорят, только конь снесет удар коня. Дай-ка лучше наставление сыну, слуга божий, не гордись собой, не проклинай его. Надо пожелать ему не плохого, а хорошего, как ты и хотел сделать!
Мирза Улугбек, подавив свою гордость, как только мог душевно сказал Абдул-Латифу:
– Шахзодаи дувонбахт![28] Ты был наследником моего престола. Призови всевышний меня к себе, ты занял бы мое место на этом троне. Ныне, по милости аллаха, ты занял его при живом еще отце. По милости аллаха и по моей воле…
Шах-заде впился в поручни трона.
– Хвала вам, благодетель! Но все же вернее будет сказать, что трон этот достался мне против вашей воли. По милости аллаха, это верно. И благодаря моей смелости, благодаря моей сабле, отец мой!
«Вот он, беркут!» Улугбек плотно сжал губы. Отцовское желание предохранить сына от бед улетучилось, будто свеча погасла от дуновения резкого ветра. «Склоненную голову меч не сечет, так говорят. И приличия ради можно было бы не топтать моего достоинства. Но этот… стервятник…»
– Ты еще не овладел всем Мавераннахром, а мнишь, что перевернул вселенную. И знай, не в силе сила. На любую большую силу всегда находится другая, еще большая. Рано или поздно, но находится.
Шах-заде стал совсем белым.
– Почему это не овладел всем Мавераннахром? Народ страны весь под моей пятой!
– «Под пятой», – передразнил сына Улугбек. – Гордец несмышленый! Были повелители посильнее тебя, и они считали, будто эта земля под их пятой. Земля наша псе земля, а они где? Мавераннахр стоит на веки вечные, поставленный аллахом.
На тонких губах наследника зазмеилась ехидная улыбка – такая же, что была у старой ненавистницы Улугбека Гаухаршод-бегим. Гератская ухмылка, зловещая и коварная… Впрочем, ни при чем тут гератская ухмылка. Трон, трон портит, развращает, ослепляет людей. Знает ли этот заносчивый венцелюбёц, что сказал когда-то мудрый Омар Хайям?
Бессмертных нет! Как много сильных в мире этом
Уже ушло… И мы простимся с белым светом.
– Что шепчете, отец? Благословение покорному сыну?
– Благословение мое тебе не нужно, как видно. А скажу я тебе вот что, сын. Не будет тебе счастья на этом троне… Никому он не приносил счастья, даже эмиру Тимуру. Запомни это хорошенько.
Абдул-Латиф встал, желая кончить тягостную встречу.
– Если в том цель беседы, наставления вашего, то не стану утруждать ни себя, ни вас ее продолжением. Если хотите что-то еще сказать, говорите, а если нет, – голос Абдул-Латифа угрожающе понизился, – если нет…
– Погоди, повелитель… Есть у меня одно-единствен-ное пожелание, которое и осталось мне высказать. Мое последнее пожелание… Ты хочешь изгнать меня из пределов Мавераннахра, да? Так лучше казни! Слышишь, осуди на смерть!
Комок подкатил к горлу. Улугбек замолчал.
Молчал и Абдул-Латиф. Наморщил лоб. Отвернулся от отца. Плечи опустились. Показалось, что он тоже чуть не плачет.
– Сын мой, – мягко обратился к шах-заде Улугбек. – Сын мой, скажи…
Абдул-Латиф молчал.
«Видно, думает, что в одни ножны нельзя спрятать две сабли. Да не хочу я быть саблей, не хочу, глупый. Лучше мне ослепнуть, чем видеть, как сын размышляет о том, чтобы убрать отца со своей дороги, да как получше, понадежнее».
– Сын мой, ты должен понять меня.
– Простите, отец, – заговорил наконец Абдул-Латиф, – но я не могу пойти против фетвы, вынесенной почтенными улемами. Говорят же, фетва улемов – что печать аллаха!
– Разве улемы – пророки, чтобы передавать нам, простым смертным, наказы всевышнего?.. Слово повелителя – закон для подданных, в том числе и улемов. Будешь их бояться – потеряешь трон!.. Пусть он твой, пусть власть, слава, почести – все тебе. Мне малое нужно – жить на родной земле и заниматься любимым делом в обсерватории своей. Куска хлеба, одного кумгана воды на день мне будет достаточно. Не бойся, я не буду сражаться за то, чтобы снова сесть на этот зло приносящий трон. Я хочу в оставшееся мне время закончить каталог звезд, дописать книги свои…
Шах-заде вдруг круто повернулся, заговорил так яростно, что кончики редких усов ощетинились, губы задрожали:
– Обсерватория, каталог звезд!.. Все ваши мудар-рисы – безбожники, вероотступники! Мне не раз говорили об этом истинные служители веры, которых вы унижали… За это, за это аллах покарал вас, лишил престола! А вы вместо покаяния – опять про обсерваторию?! – Абдул-Латиф повернул лицо в сторону Мекки. – О, великий аллах! Ты слышишь его слова, ты видишь, сколь закоснел сей раб твой в грехе, поддавшись гордыне, желая раскрыть тайны, которые ты счел недозволенными для разгадки, о, великий аллах, молю тебя, прости раба твоею грешного.
И Абдул-Латиф закрыл глаза, зашептал молитву.
Улугбек, пораженный, смотрел на сына. Он знал, что наследник фанатичен, ему говорили, что в Балхе, где правил Абдул-Латиф, притесняли людей знания, но чтобы его сын до такой степени был темен! И жесток, и лицемерен!
– Шах-заде, – Улугбек опустил глаза, чтобы скрыть боль и гнев, – кого настигнет проклятие или прощение, о том судить не нам, смертным…
– Да, да, всевышний знает, все знает. Невинного не тронет, но, кто поднимет меч против истинной веры – будь он нищий или самый могучий шах! – того аллах покарает так… – Абдул-Латиф сжал кулаки, голос его срывался на крик, – того он… того я… Это исчадие адово, источник ереси, обсерваторию – в пепел! Сожгу дотла!.. И хватит, хватит разговоров. Какой вы мне отец? Где ваша щедрость?.. Я… я ли не выказал храбрости, я ли щадил себя в битве при Тарнобе, – шах-заде не в силах уже сдержаться, выплескивал истинное, не скрытое приличием отношение к отцу, к родне. – Не я ли?.. А слава и добыча кому достались?.. Любимчику вашему Абдул-Азизу!
– Что ты говоришь?
«О аллах! Такой вот сумасшедший на троне Маверан-нахра! Несчастная страна!»
– Что ты говоришь?! Ведь Абдул-Азиз родной твой брат!
– Брат? Благодарю вас за такого братца… Благодарю… за такого отца! Кто взял мое золото из замка Ихтиериддина, золото, завещанное мне прадедом? Кто? Благодетель отец!.. А-а-а… Всему есть предел, терпению моему тоже… Ну, отвечайте, где золото Сахибки-рана Тимура, где?
Улугбек отпрянул.
– О каком золоте ты говоришь?
– A-а, будто не знаете? О том золоте, о тех драгоценностях, что эмир Тимур привез из Египта, Дамаска, Багдада! Где золотые индийские статуэтки? Передали? Своему любимчику передали, Абдул-Азизу, или безбожному Али Кушчи? Где он? Я его… я ему…
Взгляд Абдул-Латифа – взгляд безумца. Шах-заде почти спрыгнул с трона и пошел вперед, свирепо глядя на отца. Улугбек, отступая, свалил кресло. Грохот, видно, привел Абдул-Латифа в чувство.
– Где же он, ваш Али Кушчи? – уже несколько спокойнее спросил шах-заде, остановившись как вкопанный.
«Не знаешь. К счастью, не знаешь, иначе не кричал бы так, как только что кричал».
– Не ведаю о нем…
– Я не верю, ни одному вашему слову не верю… Зачем звали к себе Али Кушчи перед походом, в самую последнюю ночь? Что передали ему?
Улугбек унте полностью овладел собой.
– Твои соглядатаи видели, как Али Кушчи приходил в этот дворец, так спроси у них, что я передал тогда Али Кушчи.
– Я знаю, что! Я хочу слышать от вас.
– Я пришел не за этим, – Улугбек выпрямился и посмотрел сыну прямо в глаза. «Не знаешь, иначе не так разговаривал бы со мной, беркут». – Я пришел дать тебе отцовское наставление… Оказалось, не оно тебе нужно, а золото. Золото, не тебе принадлежащее! Как и то, что добыто в битве при Тарнобе, – Улугбек властно вскинул руку, видя, что шах-заде хочет его перебить. – Издавна повелось: отцовское слово – закон для сыновей. Ты можешь не посчитаться с этим. Хочешь, выгони меня на чужбину, хочешь, казни, ты и на такое, вижу, способен. Все в твоих руках, потому что сила сейчас у тебя. Но что эта сила против отцовского проклятия, ты об этом не думал?.. Так знай: если тронешь обсерваторию, если тронешь моих ученых, моих учителей и моих учеников, знай, прокляну на веки веков! И еще помни: ничто в мире не проходит без следа, ни один низкий поступок не остается ненаказанным, ни одна несправедливость неотмщенной… У меня нет больше слов для тебя. Зови теперь своего есаула!
Лицо Абдул-Латифа мелко-мелко дрожало. Он хотел было что-то сказать, но не сказал. Посмотрел на отца с нескрываемой ненавистью, отвернулся от него, помолчал минуту, будто колеблясь, крикнул:
– Есаул!
11
Сидя на осле, Али Кушчи свесился на сторону; в одной руке он держал поводья шагавших сзади четырех верблюдов, другою похлопывал осла по шее, понуждая его двигаться побыстрей. Но это плохо удавалось. Замыкающий их караван Мирам Чалаби, семнадцатилетний талиб, краса и гордость медресе Улугбека, качался в такт неторопливым шагам своего «иноходца», который четко держал дистанцию по отношению к впереди идущему собрату.
Самарканд Али Кушчи с учеником покинули вчера в полночь. Путь лежал к Ургутским горам, все время вдоль высохшего ручья. Ехали до рассвета, утром остановились на привал в ореховой роще. Целый день продолжался этот привал: попадаться на глаза людям не следовало. С заходом солнца отправились дальше: по расчетам мавляны, можно было достичь Драконовой пещеры под утро, если всю ночь провести в движении.








