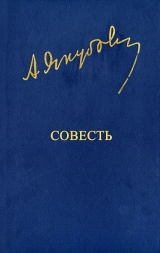
Текст книги "Совесть"
Автор книги: Адыл Якубов
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 41 страниц)
– О сын мой, дорогой мой… О аллах, благодарю тебя за эту радость – за свидание с моим сыном, – Улугбек силился говорить, как обычно, спокойно, но голос дрожал и на ресницах блестели слезы.
Али Кушчи прижался лицом к лицу устода.
– Учитель, как я рад, как я рад…
За время, прошедшее после их ночной встречи в Кок-сарае, Улугбек сильно сдал. Али Кушчи показалось, что лицо учителя покрылось множеством новых морщин – глубоких, глубоких морщин, – а одежда паломника старила Улугбека еще сильнее. Только глаза были те же: бездонные, проницательные, полные боли, которая волновала сердце, и знакомой отцовской теплоты, притягивающей к устоду самые холодные души.
Сердцем уловив их состояние, Каландар взял коней под уздцы и отошел к Мухаммаду Хисраву, который вместе со спутниками остановился поодаль.
Улугбек, как бы смущаясь, вытер слезы концом чалмы, сказал:
– Ну, как с книгами?..
Али Кушчи коротко рассказал, где спрятаны книги.
– Драконова пещера? – лицо Улугбека посветлело. – Помшо, помню. А кто еще знает о месте, которое скрывает наши книги? – спросил Улугбек, подчеркнув в вопросе слово «наши».
– Мой талиб Мирам Чалаби, да вот теперь надо будет раскрыть тайну перед Каландаром Карнаки.
Помолчав, устод спросил:
– А помог ли чем мавляна Мухиддин?
Али Кушчи хотел было сказать правду о неблагодарном, трусливом шагирде, но потом подумал, что не стоит ни Улугбеку приносить лишних огорчений, ни Мухиддина чернить, хоть было бы и поделом, как-никак двадцать лет вместе провели в одном медресе.
– Помогал… кое-чем…
Прикусив кончики усов, Улугбек понимающе кивнул головой.
Они расставались недолго, но трудно. Тяжко было на душе. Хотелось внушить друг другу надежду, но в чем она могла заключаться, где было искать ее?
– Сын мой Али! Я покидаю тебя, покидаю этот любимый край… Ты опора моя, я благодарю аллаха за милость, которую он явил, послав тебя мне в дни невзгод… Береги себя, скройся от ищеек и палачей… Бог весть, увижу ли я вновь нашу землю. Бог весть, что ждет меня на чужбине… Но если сбудутся мои надежды… и я… окажусь в медресе Каира или Багдада… если удастся продолжить свои научные занятия, то книги, сохраненные тобой… коли я не приду за ними и ты не придешь ко мне с ними… тогда я пришлю, может быть, человека к тебе, надежного своего человека… Жди. Да сохранит тебя всевышний, сын мой!
– А золото, устод?
– О золоте не говори… Да сохранит тебя всевышний, Али, да сохранит…
15
Словно оживленный хорошей баней, став после встречи с Али Кушчи легким, подвижным, снова уверенным в себе, скакал Улугбек по дороге, ведущей к Кешу… Коль есть такие ученики, жизнь, право, не прожита напрасно и не пропадут, не пропадут ни сорокалетний труд собирания духовных сокровищ, ни собственные творения.
Но такое состояние духа, как это с ним теперь нередко бывало, продержалось недолго. В голову снова полезли мысли о бренности всего сущего, а более всего тяжелые и, увы, правдоподобные предположения, что все вокруг себя он видит в последний раз: и эти задумчивые поля с осенним шелком паутинок над ними, и обнажившиеся сады с желтыми коврами палых листьев понизу, и эти бурые косогоры в полыни и ковыле, и горы вдали, что закрылись белесым туманом. И уже не благодарение аллаху рождалось в его душе, а мольба униженная о том, чтобы всевышний ниспослал ему терпение и мужество.
С вершины одного из холмов, по которым вилась дорога, Улугбек увидел сзади себя двух вихрем скачущих воинов; впереди есаул, судя по украшению на шлеме, он размахивал копьем и, видимо, кричал, стараясь, чтобы Улугбек его заметил и остановился; впереди же себя, на холме пониже того, на котором Улугбек придержал коня, маячила еще одна фигура всадника – воина ли, отсюда не разглядеть было, но стоял тот всадник лицом к движению паломников. «Похоже на засаду», – подумал Улугбек, и сердце его дрогнуло от тревожного предчувствия, а потом заныло так же сильно, как и при расставании с дворцом. Поводья, которые он натянул изо всех сил, не дали ему упасть.
Боль прошла так же быстро, как и наступила, но предчувствие неотвратимой беды не покинуло Улугбека.
Подскакали воины. Есаул, человек с монгольским разрезом глаз, резко осадил своего боевого карабаира, приложил руку к груди, поклонился в седле. Второй заученно повторил его движения.
– Да будет счастливым путь, избранный вами, повелитель… Пусть аллах дарует вам вечную жизнь!
В улыбке есаула было притворство, в глазах его Улугбек уловил и холод и насмешку, столь не вязавшуюся с пышно-почтительными словами. Улугбек сделал вид, что принял приветствие всерьез:
– Да услышит вас аллах, сыны мои… Что скажете еще? Затем ли скакали вы из Самарканда, чтобы пожелать мне удачного паломничества?
Есаул снова поклонился.
– Еще я принес вам привет от луноликого вашего сына, благословенного шах-заде, что молится о своем отце и благополучии его.
– Спасибо и ему… что же он велел передать мне?
– Наш повелитель приказал, чтобы мы проводили вас с почетом, как подобает человеку вашего сана и вашей известности.
Улугбек выпрямился, прямо, глаза в глаза посмотрел на есаула.
– Мухаммад Тарагай не для того отправляется в святую Мекку, чтобы возвратиться потом снова на трон, поэтому султанские почести ему теперь ни к чему… Коли за этим скакал, то вернись и передай мои слова шах-заде!
Лицо есаула выразило крайнюю степень восхищения и одновременно сожаления, что невозможно выполнить сказанное таким достойным человеком, каков собеседник есаула.
– Хвала вашей скромности, ваш покорный слуга восхищен вами… Но луноликий наш повелитель, ваш сын и престолонаследник строжайше напутствовал нас – не дело, если мудрый и благороднейший покинет Мавераннахр подобно какому-нибудь нищему. Венценосец дарует вам пищу и одежду, целый караван из трех верблюдов, прибыть они должны на рассвете… А пока мы любезно просим вас отдохнуть и переночевать вон там в кишлаке, – и есаул, подобрав ремень плетки, ткнул кнутовищем в сторону маленького кишлака, видневшегося слева от дороги, среди холмов.
Вместо ответа на приглашение Улугбек снова стал всматриваться во всадника, неподвижно стоявшего впереди; что-то было в нем знакомое, но слишком далеко тот находился, чтобы разглядеть его.
– Это не эмир Джандар?
– Эмир Джандар? – переспросил есаул, опять нехорошо заулыбавшись. – Что делать эмиру одному на пустынной караванной дороге? – И повернул коня к маленькому кишлаку, месту их ночлега.
«На вопрос не ответил и враз потерял всю свою при-торную вежливость… Что еще понадобилось Абдул-Латифу от меня?»

Улугбек медленно поехал вслед за есаулом. Перед глазами маячили далекие горы. Снова пришли мысли о неизбежности смерти, о близости ее, только теперь успокоительные мысли. «Зачем дрожишь, Мухаммад Тарагай? Боишься потерять голову? Но много ли она стоит ныне – без трона, без собольей шапки, без знаков султанского отличия твоего от других людей?.. Кто как не ты говорил, что лучше скорее умереть здесь, на родимой земле, чем позже на чужбине?»
По обыкновению своему, он подтрунивал над собой, над своими страхами, но предчувствие близкого конца все сгущалось в душе и лишь в самом кишлаке, когда увидел он тонкий синий дымок над дворами, услышал блеяние и мычание овец и коров, вернувшихся с пастбищ, и плач детворы, и покрикивания мужчин, когда ощутил запах свежевыпеченного хлеба, душа его чуть успокоилась.
«Будь что будет, – решил он. – Надо поесть, поспать хорошо перед завтрашней дальней дорогой, если аллах позволит пойти по ней».
Разместились все они – Улугбек, хаджа Хисрав, воины – в первом, стоящем на краю кишлака доме. Жильцов отсюда, видно, выгнали – ни в комнатах, ни во дворе не было никого. Поклажу Улугбека занесли в дом, потом увели куда-то их коней. Сами воины решили ночевать во дворе.
Чтобы успокоиться, Улугбек стал устраивать себе поуютнее ночлег: перенес хурджуны поглубже в комнату, зажег светильник в нише. Вместе с Хисравом разжег огонь в предназначенном для него месте – пригодился хворост, принесенный со двора.
Подходило время вечерней, предзакатной молитвы – намазгар. Улугбек пошел к выходу для того, чтобы во дворе совершить омовение.
Вдруг резко и громко хлопнула дверь на террасе. Через мгновение распахнулась дверь в комнату и на пороге появился великан в черном чекмене с огромным туркменским тельпеком на голове. «Саид Аббас!» – вспомнил вдруг Улугбек и отскочил к стене.
– А, вот ты где! – закричал черный и, словно стервятник, кинулся к Улугбеку.
Сначала Улугбек изловчился и, собрав все силы, отбросил от себя Саида Аббаса, но тот вновь вцепился в него, норовя схватить за горло. Опять распахнулась дверь.
– На помощь!
Но есаул с монгольскими глазами не стал помогать султану; ударом ноги он свалил его и вместе с Саидом Аббасом упал сверху на Улугбека. «Где хаджа? Чего они хотят, эти изверги?» – успел подумать Улугбек.
А хаджа лежал в углу, забился под чекмень, свернулся в клубок.
От острой боли где-то под сердцем Улугбек едва не потерял сознание. Ему заломили руки за спину, пиная ногами, поволокли из комнаты. «Как барана жертвенного… Где ты, Али? Зачем я отпустил тебя?» Боль все нарастала, тело уже не чувствовало ударов – болело внутри, сердце болело.
Улугбека бросили во дворе, на миг оставили в покое.
За это мгновение он услышал стук копыт (кто-то въехал во двор), и привиделось ему бездонное небо, звезды в разрывах черных, быстро проносящихся туч. А еще широкая-широкая степь, теплый вечер в степи, фигура деда, припадающего на левую ногу. А еще Сарай-мульк-ханум, белые, нежные пальцы ее в перстнях, голос ласковый, вроде журчащего ручья: «Не хочешь спать, стригунок мой, тогда полюбуйся на звезды. Это милосердные ангелы парят в небе, славят создателя. Полюбуйся, стригунок мой, полюбуйся…»
Сжав зубы от боли, Улугбек попытался читать молитву, но не смог сосредоточиться. Он приоткрыл глаза, и последнее, что увидел в своей жизни, был Саид Аббас, в яростном замахе вознесший над ним, полуживым-полу-мертвым уже, кривую саблю.
Последнее, что успел подумать Улугбек, было: «За что, создатель?»
И еще: «Прощай, Али, сын мой…»
Часть вторая
1
Мавляна Мухиддин охвачен предчувствиями тяжкими, неясными и потому особенно устрашающими.
После хуфтана – последней молитвы, свершаемой правоверными перед заходом солнца, мавляна вознамерился было прилечь. Но стук в дверь поднял его с постели. Наспех одевшись, Мухиддин со свечой в руке пошел открывать. Замирая от страха, приподнял засов: на пороге стоял отец, Ходжа Салахиддин. Он тоже держал свечу, но одет был совсем иначе, нежели сын, – в белой чалме поверх остроконечной тюбетейки, в златотканом халате, будто собрался на некое торжество. Только вид у Ходжи Салахиддина был не обычный торжественно спокойный, а такой, словно ювелир торопился на пожар. Он задул свечу, быстро прошел в комнату, но на почетное место не сел, а, стоя, кивнул сыну – закрой дверь! Мавляна набросил цепочку, молча взглянул на отца: колючие глаза Салахиддина приказали подойти ближе. Мухиддин почувствовал холодную дрожь.
– Твой любимый учитель… Мирза Улугбек, сын Шахруха, покинул сей бренный мир, – прошептал ювелир внятно и многозначительно.
Серебряный подсвечник беззвучно упал на тонкий шелковый ковер: мавляне Мухиддину недостало сил удержать его. Отец быстро нагнулся, схватил горящую свечу, поднес ее к бледному лицу сына.
– Ты понял, что я сказал?
– Когда это случилось? – тоже шепотом спросил мавляна.
– Вчера ночью… Его обезглавили!
– Кто?
– Кто?! – Ходжа Салахиддин рассмеялся ядовито. – Кто в силах был это сделать, тот и сделал… – Его же отпрыск кровный, шах-заде Абдул-Латиф!
– О, милосердный аллах!
– Теперь жди, пойдет резня! – ювелир сказал это убежденно и уже не приглушая голоса. Словно еще больше запугивал сына. – Теперь, говорю я, все родственники, все близкие бывшего властителя, все его учителя-нечестивцы и шагирды его, все, все теперь испытают на себе гнев победителя шах-заде, всех он покарает, в темницы упрячет, в изгнание рассеет!
– За что же, отец?
– «За что же»? – Ходжа Салахиддин передразнил робкий шепот сына. – Вы же ученый муж, о мавляна, и не догадываетесь, за что? А разве когда-нибудь было иначе? Старый халат не для плеч нового владельца. Да и зачем он ему?.. Многих, многих шах-заде покарает, иные и обезглавлены будут, подобно покойному Мирзе Улугбеку.
Мавляна Мухиддин едва стоял на ногах – не будь здесь отца, который по-прежнему не садился и не приглашал сына сесть, он бросился бы на постель, зарылся бы в подушки: не видеть ничего, не слышать про все эти ужасы!
Мавляна закрыл глаза, зашептал молитву, поднеся руки к лицу.
Салахиддин-заргар чуть-чуть смягчился.
– Тысячу и тысячу благодарностей аллаху за то, что надоумил меня не порвать с шейхом Низамидднном Хомушем. Шейх был и остался моим пиром. А поверил бы и я… как ты, этому безбожному султану… не знаю, что спасло бы нас теперь… Я сейчас… да, да, на ночь глядя, отправлюсь к светлейшему шейху. Надеюсь, что и тебя позовут. И ты пойдешь! И бросишься к его ногам, умоляя о прощении грехов. Плакать должен и каяться, говорить, что шайтан сбил тебя с пути. И что уповаешь на милость аллаха! Понял, что я сказал?.. Не стой, как пень, отвечай!
– Понял, благословенный…
– И скажешь еще, что давно отошел от всех мирских дел, от научных занятий, от сего бренного мира отошел… тайно, в душе, да боялся в том признаться еретику султану…
– Благословенный, нужно ли такое? Ведь от повелителя – да пребудет душа его в райском саду! – мы видели только добро…
– Много добра видел?! Ну, тогда поднимись на минарет соборной мечети и кричи о том на весь Самарканд! – Салахиддин-заргар сжал кулаки, точно собирался ударить несогласного. – Видел добро? Безмозглый! А притеснения их? А Абдул-Азиз, да будет уготован ему ад?! Иль Хуршида не твоя дочь, это дитя, вымоленное мной у аллаха, светоч моих глаз, бутон моего цветника?
Мухиддин отвел взгляд от горящих яростью глаз отца. Медленно шевеля губами, произнес:
– Повелитель был в неведении о злодейских планах шах-заде.
– «Был в неведении»!.. Это ты в неведении! Тайны вселенной они познали, – издевательски рассмеялся старик. – Ничего вы не познали! И жизнь ты знаешь, мудрейший из мудрых, меньше темного простолюдина… Так запоминай, что говорят неглупые люди: завтра начнется резня и первой скатится твоя голова! Среди иных безбожных голов – твоя первой скатится, и дом твой будет первым предан огню! Первым!
Сын покачнулся, с трудом удержался на ногах, схватившись за спинку кресла. Ходжа Салахиддин поддержал его под локоть, усадил. Из ниши стенной вынул чайник и пиалу. Налил чаю Мухиддину. Тот, стуча зубами о край пиалы, сделал несколько глотков. Отец, остыв, пристальнее вглядывался в лицо сына.
– Прости меня, если так тяжелы оказались для тебя мои слова. Но думаю я не о себе – о тебе, о доме твоем, о семье… Над нашим домом черные тучи… Ты говоришь: вы видели хорошее. Верно, видели и такое от наследников эмира Тимура – вот уж чья душа пусть возрадуется в раю! – видели мы всякое. И плохое тоже. А начнет шах-заде разыскивать людей, близких к отцу своему, найдутся доброхоты, укажут на тебя первого, на нас с тобой… Ты же не ребенок, думай как взрослый!
Мавляна Мухиддин сидел, подавленный, недвижный. В слабом свете свечи лицо его казалось безжизненным. Ходжа Салахиддин скрыл тревогу за привычной суровостью и решительностью:
– Ну, я пошел к пиру… Если он вызовет тебя – утром ли, ночью ли, тут же прибудешь и скажешь шейху все, что надо. Так, как я тебе велел. И запомни: у нас нет другого выхода!
Нарочито четкими шагами Салахиддин-заргар направился к двери.
Еле доплелся до постели мавляна Мухиддин после ухода отца, разбитый и обессиленный, свалился на ложе. Не мог заснуть всю ночь. Стоило закрыть глаза – ив воображении представал устод Улугбек, закрывающий голову руками от занесенной над нею сабли… Голова устода, залитая кровью, катилась в пыли и прахе по земле, вращая глазами и что-то шепча, казалось, обращаясь к нему, Мухиддину.
Тогда вскакивал мавляна с ложа – в ужасе, еле сдерживаясь, чтобы не закричать. И ходил, ходил по комнате до полного изнеможения. Но стоило лечь в постель, и снова видения преследовали его. Он и клял себя за слабость, за готовность сделать так, как велел отец, и убеждал в том, что именно так надо поступить, что устода уже нет в живых и, стало быть, нельзя счесть изменой ему слова «раскаяния», которые Мухиддин должен был сказать шейху.
Он вконец измучился и потому, когда на рассвете за ним пришел, наконец, от Низамиддина Хомуша посыльный, испытал даже некоторое облегчение.
2
Бомдод – первая молитва правоверных, на раннем рассвете.
Каландар после нее опять завернулся в старую кошму и улегся на супе: можно было еще подремать. Вскоре, однако, его разбудили. Он открыл глаза и увидел загадочную ухмылку Шакала.
– А, косой! Чего тебе?
– Мне? Золота! – Шакал тихо засмеялся. – Мне золота, а светлейшему шейху Низамиддину Хомушу тебя. Собирай манатки и спеши к шейху, дервиш!
Разминая затекшие ноги, Каландар не без смятения думал о том, что неспроста его разыскивал и разыскал-таки шейх, неспроста…
Всю ночь дул ветер, накрапывал дождь, а утром стало спокойно, свежо и чисто. Только холодно. И на безоблачном небе, быстро светлевшем, угасали последние неяркие звезды, – будто от холода.
В городе было пустынно, ворота и калитки под замками, и не из-за раннего часа, а, казалось Каландару, из-за черной беды, что уже несколько дней висела, распластав тяжелые крылья, над Самаркандом. Лишь по дороге на «Мазари шериф» попалось несколько открытых мастерских – кузнецов да жестянщиков, – и как приятен их стук и грохот, когда вокруг тревожное молчание!
Мюриды Низамиддина Хомуша провели Каландара во внутренний двор сразу же. Каландар не успел даже определить по запаху, что варилось под чинарами в огромных чугунных котлах. Не задержался Каландар и во внутреннем дворе, с трех сторон окруженном пышно украшенными террасами; лишь минуту-другую любовался знакомым мраморным водоемом, серебристыми его фонтанчиками, игрой воды, лившейся в отводное русло, выложенное цветными плитками, и тут же мюрид позвал его в светло-бирюзовую прихожую, а оттуда, отворив резную дверь, во внутренние покои.
Каландар, на миг задержав дыхание, перешагнул порог… Новое дело! В комнате, в почетном ее углу, по левую сторону от шейха, сидел на куче одеял старый ювелир Ходжа Салахиддин! На белой чалме, на златотканом халате, на маленькой фарфоровой пиале, в которую он как раз в этот миг наливал чай, играли красные блики от туркменских ковров, что расстелены были по полу и развешаны по стенам комнаты. Узнал ли Салахиддин-заргар Каландара, неизвестно, на приветствие дервиша молча кивнул – руки были заняты пиалой. Шейх принял пиалу и тоже лишь кивком поздоровался с Каландаром; сделал глоток, отвел пиалу от губ.
– Присядь, дервиш!
Почтительно сложив руки на груди, Каландар опустился на колени там, где стоял, неподалеку от порога. На сей раз шейх не пригласил его подойти к скатерти.
– Какие вести принес нам из средоточия нечестивости? Что там происходит? Говори, дервиш.
Каландар слегка пошевелился, не переменив позы.
– Все спокойно, мой пир…
– Спокойно, говоришь? Гм… А что узнал, что выведал про золото эмира Тимура, спрятанное там еретиками?
– Святой шейх, о том не ведаю…
– Голову подними, дервиш, смотри в глаза мне!
Каландар выдержал взгляд шейха.
– Говорю правду… По велению вашему смиренный слуга ваш неделю провел у ворот обсерватории, денно и нощно присматривал за ней…
– И что же?
– Не заметил ни одной живой души, мой пир.
– А где был ночью третьего дня?
«Все знает!.. Знает?.. Или хочет поймать меня, запугать?»
– Той ночью… холодной, святой шейх… ваш слуга решил пойти к табунщикам, и ручью, обогреться у костра… И часу не прошло, как я вернулся.
– Так, так… – шейх резко, почти неприязненно отбросил за спину длинный конец чалмы. – А книги, рукописи еретические, бесстыдные картины, все ли там на месте?
«Нет, ничего он не знает… И о делах Али Кушчи не осведомлен».
– Должны быть там, мой пир. Куда им деться, если и муха не проникнет без вашего разрешения в обсерваторию?
– Та-а-ак… А тот., ученик неправедного султана… как его… из памяти выскочило имя нечестивца…
– Али Кушчи, – подыграл Салахиддин-заргар. – Мавляна Али Кушчи, мой пир.
– Да, да… Али Кушчи… он где?
Каландару на миг опять показалось, что шейх знает все и лишь притворяется незнающим.
– Я неделю сидел у ворот. Этого человека не видел…
– Хвала тебе, дервиш, хвала, око мое!.. Золото на месте, еретические книги на месте, нечестивый шагирд нечестивого султана тоже, видать, на месте… Только на каком месте? И твое место где, дервиш?!
Шейх побледнел. Приподнявшись, сунул руку под подушку, подложенную сбоку, вытащил трещотку, схожую с веретеном. На ее звук приоткрылась дверь, и показался знакомый Каландару мюрид.
– Здесь ли мавляна Мухиддин? Если здесь, пусть войдет!
Каландар искоса глянул на ювелира. Старик перехватил взгляд, но ни единый мускул на лице его не дрогнул.
Бесшумно отворив дверь, вошел мавляна Мухиддин. Невнятно прошептал приветствие, на цыпочках прошагал до места, указанного ему шейхом, сел – покорно, беззвучно. У Каландара Карнаки гулко забилось сердце. Он побоялся посмотреть на мавляну – некогда одного из двух наставников своих в медресе; он смутно догадывался, что вот сейчас и произойдет то ужасное, ради чего позвал их сюда этот лис, этот жестокосердый хитрый шейх.
– Мавляна Мухиддин! Вам надлежит сейчас вот вместе с этим дервишем пойти в крамольное гнездо, – шейх не отказал себе в удовольствии усмехнуться, – в хорошо вам обоим известное крамольное гнездо… в рассадник нечестия и безверия…
Каландар видел, как под ударами слов шейха задрожали тонкие пальцы рук, скрещенных на груди мавляны поверх серого чекменя, как все ниже и ниже опускалась долу большая белая чалма, как все покорнее и раболепнее становилась поза.
– …Так вот, вы, мавляна, пойдете немедля в это гнездо… а почему вы молчите, мавляна?
Чуть встрепенулся мавляна Мухиддин.
– Ваши слова – закон для истинных мусульман, святой шейх.
– Ну, так вот… запоминайте, запоминайте, мавляна… Исчадие ереси, называемое обсерваторией Улугбека, равно как и медресе его, должно быть стерто с лица земли. Нам ведомо, что вы причастны, мавляна, к делам неправедным. Однако заблуждение слуг тех, кто назван тенями аллаха на земле, можно искупить, коли аллах соизволит, и… мы надеемся, что вы, мавляна, богоугодными делами своими искупите грех прежних заблуждений!.. – Шейх приподнялся на подушках, подался чуть вперед. – Так вот, запомните, ни одна из еретических книг не должна исчезнуть оттуда, куда вы отправитесь! Все, все они, эти книги, не в духе нашей истинной веры, все рукописи, все бесстыдные, развратные картины – все это должно сжечь! Вы, мавляна, знаете эти книги, надо полагать, лучше многих. Идите вместе с этим дервишем, идите и все осмотрите: на месте ли эти книги, не спрятаны ли они какими-нибудь учениками султана-нечестивца… Ясно ли сказал я, мавляна?
– Ясно, – прошептал Мухиддин.
– И еще об одной тайне я осведомлен, – продолжал шейх. – Вероотступник Мирза Улугбек спрятал в гнезде своем сокровища великого, победоносного эмира Тимура – да возрадуется душа его в райских садах! Они в руках нечестивца Али Кушчи… Передайте сподвижнику своему Али Кушчи… – при слове «сподвижник» шейх глянул на Мухиддина и Салахиддина-заргара с усмешкой, – передайте ему: пусть не упрямится, а придет к нам за отпущением грехов, пусть молит аллаха о снисхождении, о прощении. Участь учителя его, Мирзы Улугбека, что возведен был на трон, но и сброшен с него, ибо избрал путь непокорства аллаху, да послужит для Али Кушчи уроком! Пусть знает, что благословенному шах-заде все о нем известно и что терпение повелителя не безгранично!..
Поднимаясь с одеял, мавляна Мухиддин почувствовал устремленный на него взгляд Каландара Карнаки: худое, болезненно-бледное лицо наставника вспыхнуло, даже кончики больших ушей, не прикрытых тюрбаном, покраснели. «Испугался меня или стыдно стало?» – спросил себя Каландар, пятясь и кланяясь и давая возможность мавляне выйти первому.
3
Не думал, не гадал мавляна Мухиддин встретиться с Каландаром Карнаки. Да еще где? У суфийского[31] шейха, большого человека в ордене накшбендиев. Благо еще, стал Каландар дервишем, человеком, что отвернулся от бренного мира и выбрал в удел покорство нищего и зоркость соглядатая, послушного тому же шейху. Иначе совсем было бы невмоготу отвечать на вопросы пресветлого шейха перед лицом третьего человека!.. А теперь новая забота – встреча с Али Кушчи! Как посмотреть в глаза Али, как передать благоразумные советы шейха?
Три всадника ждали мавляну Мухиддина у ворот. Только помогут ли они в его деле?
Мухиддин знал Али Кушчи. Если тот уж дал слово… если что-то решил… упрямство ослиное проявит тогда в исполнении намеченного. Не раз говорили они с повелителем-устодом про разум, да будет ли теперь разумен мавляна Али? Может, зловещий конец устода заставит и его подумать о разумном решении?
Хорошо, если так… Хорошо бы!..
Так и повторял всю дорогу до обсерватории мавляна Мухиддин: «Хорошо бы, хорошо бы», – а при виде высокого портала, дверей, ведущих туда, где прошла счастливейшая – что скрывать? – счастливейшая четверть века его жизни, эти слова словно вылетели из головы. Смыло их волной страха перед предстоящим свиданием.
Ворота, к несчастью, открыл сам Али Кушчи. Темная феска прикрывала темя, длинный темный чекмень, несмотря на холод, распахнут на груди. Видно было: гостей таких не ожидал. Молча посмотрел на всадников, на Калцндара, на мавляну Мухиддина. Потом опять на всадников-воинов и на съежившегося в седле «сподвижника». Понял, кажется, зачем все они пожаловали сюда, усмехнулся.
– Добро пожаловать, дорогой мавляна!
Мухиддин, все еще сидя в седле, пробормотал, краснея:
– Светлейший шейх Низамиддин Хомуш повелел мне осмотреть книгохранилище, проверить сохранность книг…
– А я не знал, что вы теперь на службе у светлейшего шейха, – Али Кушчи насмешливо сощурился. – Но осмотреть книги можно, только слезши с коня, почтенный мавляна… И еще: вы приехали проверить книги, а для чего приехали ко мне эти славные воины?
Воин, рябоватый лицом и явно гордящийся длинным султаном на своем шлеме, насупился и важно ответил:
– Отныне мы будем стеречь это вместилище злых духов!
– Понятно: воины будут стеречь обсерваторию. А ты, дервиш?
Каландар приосанился, как то сделал только что рябой воин, сказал громко, выразительно:
– А я тут затем, чтобы сжечь эти греховные книги, написанные нечестивцами! Бросить их в костер!
– Несчастный, кто сказал тебе, что хранимые здесь книги греховны, что их написали нечестивые люди?
– Пусть вам скажет о том мавляна Мухиддин, он лучше знает, чем я!
«Молодец, Каландар, право, молодец! – мысленно одобрил находчивость дервиша Али-Кушчи. – Что теперь скажет этот трус?» Вслух же Али-Кушчи воскликнул:
– Как?! Вы, мавляна, привели сюда воинов, чтобы сжечь книги, сровнять с землей храм науки, в котором сами изучали науку о звездах и преподавали ее другим? Я не ослышался, мавляна? Этот безумец говорит правду?..
Мавляна Мухиддин – лицо белое, без кровинки – потоптался минуту-другую, съежась, будто от холода, потом расправил плечи, желая придать долговязой фигуре своей достойный вид, и двинулся к обсерватории, загребая ногами. Прежде чем протянуть руку к литым кольцам двустворчатой двери, снова остановился, постоял нерешительно перед входом; губы его непроизвольно зашептали что-то молитвенное.
Да, мавляна Али прав: почти четверть века, долгую четверть века он, Мухиддин, поднимался по мраморным ступеням в просторные помещения обсерватории, тихие, полусумрачные, и зимой и летом. прохладные… Почти четверть века провел он рядом с секстантом и чудесными приборами, обращенными к небесной выси, у полок с бесчисленными книгами, и нельзя было остаться спокойным сейчас, вспомнив об этой долгой четверти века. Взглянул на столь хорошо знакомую блестящую дугу секстанта, что уходила вниз, на отверстие в овальном потолке, откуда на чудо-секстант падали лучи звездного света, и сердце мавляны Мухиддина облила невыразимая горечь.
Было время, когда глаза его при помощи чудесных инструментов, придуманных самим устодом, сосредоточенно всматривались в вечное небо, и забывал он тогда о тревогах и заботах мира поднебесного, преходящего, и сердце его полнилось великим восторгом от изумления перед тем, что открывалось ему, Мухиддину, и от способности своей вести беседу, долгую и тихую, с беспредельной вселенной, со звездами, мерцающими и вспыхивающими в бездонном пространстве, с таинственными – ему казалось, божественными – силами, которые придавали стройность и смысл всему, что видели глаза. Теперь он лишен таких счастливых минут и часов, теперь он исполнитель поручения, что недостойно мавляны, теперь в сердце его страдание и презрение к себе. О аллах! За какие грехи ниспослано тобой такое наказание?
Еще сильнее охватила его сердце печаль в книгохранилище. Оно выглядело так же, как раньше, когда посещал библиотеку повелитель-устод: от свечей, стоявших в нишах, исходил теплый, неяркий свет; блестело серебро подсвечников. На столике, выдвинутом перед полукружием кресел, сложены кипы книг, отобранных для неотложной работы, в углу на высоко-спинном кресле посверкивали златотканый халат и тигровая шкура, темным пятном поверх нее – бархатная шапочка устода, словно только что вышел он отсюда и вот-вот вернется, сядет в любимое кресло, покрытое шкурой тигра, и, обратив лицо к своим верным шагирдам, поведет, как обычно, спокойно-степенную беседу о тайнах вселенной. Мухиддину померещилось, будто он и впрямь слышит глуховатый голос устода.
Превозмогая озноб страха и раскаяния в том, что ему сейчас предстояло делать, мавляна Мухиддин стал медленно шагать вдоль полок, сопровождаемый холодным и неотступным взглядом Али Кушчи, который остался стоять у дверей в библиотеку – неподвижная фигура, опирающаяся спиной о стену, сложенные на груди руки, нескрываемое презрение к «сподвижнику». Мухиддин не притрагивался к книгам и рукописям; ему не надо было ни пересчитывать их, ни поднимать взора вверх, к полкам под самым потолком (может, их переставили туда, самые редкие произведения?): сразу же обнаружил он, что наиболее ценные книги и рукописи исчезли. Вот угол, где с особым тщанием хранились книги и рукописи мудрецов и поэтов Мавераннахра, вместо завернутых в шелк знаменитых этих редкостей, здесь стоят другие книги… Он же знает все книгохранилище, можно сказать, наизусть!.. Вот особая полка, скрытая шелковой занавесью, – полка рукописей самого устода.








