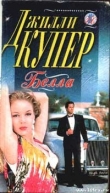Текст книги "Вспомни обо мне (СИ)"
Автор книги: QueenFM
Жанры:
Фанфик
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 31 страниц)
– Звучит ещё хуже…
– Согласен. Но даже это ещё не всё. Я не уверен, что смогу удалить опухоль целиком, а если этого не сделать, то операция в принципе перестаёт иметь всякий смысл. Но даже успешная в этом плане операция – ещё далеко не победа. Затем тебе предстоит длительный курс «химии» и лучевой терапии. И только от их успешности зависят прогнозы на будущее. Однако гарантий онкологи не дают никому и никогда. И меньше всего мне хотелось бы, чтобы через всё это тебе пришлось пройти в совершенно обездвиженном состоянии.
Доктор Мейсон замолчал и посмотрел мне в глаза. Не знаю, что он прочел в них, но его руки крепко сжали мою ладонь, а во взгляде промелькнули боль и сожаление.
– Прости, наверное, я излишне откровенен с тобой, но мне хочется, чтобы ты понял меня. Я в принципе не имею права браться за эту операцию, однако не думай, будто меня волнует осуждение коллег. Для меня важно лишь то, чтобы ты понимал – ДЕЙСТВИТЕЛЬНО понимал, – на что идешь, и какой ад, вероятно, ждет тебя впереди. Ведь обратного пути уже не будет.
– Если я откажусь, вы сочтёте меня трусом? – спросил я, стараясь хоть как-то осмыслить всё то, что сейчас услышал.
Я попытался представить себе, на что будет похоже мое существование, если я в одночасье стану говорящим и мыслящим бревном с глазами… и не смог. Это было выше моих сил, выходило далеко за рамки моего разума. Ясно было одно: в этом случае я, не раздумывая, предпочел бы смерть, пусть и мучительную. Но ведь даже самый благоприятный исход навсегда усадит меня в инвалидную коляску. Готов ли я к этому? Конечно нет! Однако есть ли у меня выбор? Есть, но можно ли это действительно назвать выбором? Вряд ли…
– Нет, Эдвард, ну что ты! – покачал головой Мейсон, и печальная улыбка чуть коснулась его губ. – Это только твоё решение, и ты имеешь на него право. Именно поэтому я счёл необходимым поговорить с тобой наедине: не хотел, чтобы семья «давила» на тебя. В своей практике я постоянно сталкиваюсь со сложными ситуациями, требующими принятия трудных решений. И на моей памяти родные ещё ни разу не отказались от проведения операции. Сами пациенты – да, но не их близкие, особенно родители. Те всегда готовы пойти на любой риск, принять любые последствия, лишь бы продлить своим детям жизнь пусть даже всего на несколько месяцев – порой, страшных месяцев, когда лучшим решением было бы отпустить.
– Моим родителям и Элис будет непросто отпустить меня.
Перед моим мысленным взором предстала в одночасье постаревшая мама, рыдающий, словно ребёнок, отец и сестра, отчаянно сжимающая мою руку.
– Да, им потребуется много времени… очень много времени.
– Как можно больше времени… – прошептал я и вдруг ясно понял, как поступить: я должен пойти на это ради них… должен! – Я согласен на операцию.
– Хорошо, – доктор Мейсон кивнул. Я попытался прочесть на его лице одобрение или же осуждение, но не смог.
– Ведь всегда же есть шанс умереть быстро и безболезненно от потери крови прямо на операционном столе, – вымученно улыбнувшись, глупо попытался пошутить я.
– На твоём месте я не стал бы слишком на это рассчитывать, – не приняв моего шутливого тона, на полном серьезе ответил он. – У нас всегда наготове уйма донорской крови. Главное, чтобы мне в принципе удалось остановить кровотечение. Так или иначе, но всё решится завтра.
– Уже завтра? – я почувствовал, как холодные липкие щупальца паники скручивают мой живот в тугой узел, пробираясь всё выше и выше в попытке добраться до горла.
– Да, – подтвердил Мейсон. – Все необходимые анализы у нас есть, поэтому не вижу смысла откладывать операцию. В данном случае время играет против нас, и любой день промедления может оказаться роковым.
Ободряюще похлопав меня по руке, доктор поднялся со стула и улыбнулся:
– Пойду расскажу твоим о нашей беседе, а ты отдыхай.
– Как вы думаете, я принял правильное решение или нет? – не удержавшись, выпалил я, когда Мейсон уже почти вышел из палаты.
– Я отвечу на твой вопрос после операции, – немного подумав, отозвался он и осторожно прикрыл за собой дверь.
Я остался один, заключенный в кокон оглушительной тишины.
За последние дни я столько раз думал, что вот сейчас только что испытал самый отчаянный страх и самую яростную боль, которые только могут выпасть на долю человека. Но всякий раз оказывалось, что я жестоко ошибался: новый день приносил всё новые страхи и боль, во сто крат превосходящие вчерашние. Однако все они меркли в сравнении с тем, что я испытывал сейчас.
Мысли о предстоящей операции разрушительным вихрем кружили в голове, рождая картинки моего будущего – одну страшнее другой.
Завтра, завтра, завтра… возможно, я умру уже завтра…
Но я не хотел умирать! Я хотел жить – просто жить, никому не мешая и не прося у Бога слишком много, лишь дом, работу и, конечно же, любовь Беллы – всего этого мне с лихвой хватило бы для счастья! Но судьба решила иначе, и спорить с ней бесполезно: всё будет так, как должно быть, и никак иначе. Боже, дай мне сил принять это!
Кровать подо мной будто горела огнем – совершенно невозможно было и дальше продолжать лежать на ней. Меня колотило, а кожа пылала, словно в лихорадке.
Я выдернул из руки катетер и в недоумении уставился на кровь, брызнувшую из ранки. Кровь… операция… много крови… смерть…
К горлу подступила тошнота, голова закружилась, но я крепко стиснул зубы и заставил себя подняться.
Первые шаги дались мне с огромным трудом, но уже через несколько минут я метался по палате, как безумный, от одной стены к другой и обратно. Ещё час назад у меня не было сил даже на то, чтобы просто пошевелить пальцем, а сейчас я двигался и двигался, не останавливаясь ни на секунду, не чувствуя ни боли, ни усталости – только неутолимую жажду движения. Я ходил из угла в угол, словно пытался насытиться упоительным ощущением движения на целую жизнь вперед. Боже, если бы только это действительно было возможно!
С каждым шагом в голове всё отчетливее звучала беспощадная мысль: «Как бы ни закончилась завтрашняя операция, сейчас мои ноги в последний раз ощущают под собой пол, а я в последний раз чувствую, что у меня есть ноги».
***
Я плыл в чёрной пустоте,
Я обретал покой,
Свет в конце тоннеля,
Как магнит, тянул к себе дух мой.
Свет был ярче тысяч солнц,
Я понял – это Бог,
Не бездушный идол,
А живой сверкающий поток.
Свет заставил вспомнить всех,
С кем дрался и грешил,
Он заставил вспомнить
Каждый шаг бунтующей души.
«Не хочешь, не верь мне», гр. Ария
Наркоз всё глубже и глубже затягивает меня в непроглядную мглу, грозящую стать моим последним пристанищем…
Тяжелый туман, стелющийся, словно плотный молочный шлейф, захватывает в свои обманчиво мягкие лапы всё вокруг. Сквозь его пелену я не могу рассмотреть ничего – только белесый беспросветный путь, по которому блуждаю уже долгое время. Иногда на перекрестках этого странного лабиринта в полотне тумана появляется едва различимый просвет, подобный окну, заиндевевшему от инея. Я замираю, вглядываюсь, пытаясь разогнать незримую помеху и отчетливо увидеть происходящее по ту сторону реальности.
Я – всего лишь сторонний наблюдатель мгновений собственной ускользающей сквозь пальцы жизни. Сейчас я пристально вглядываюсь в лица родителей, склонившихся над моей колыбелью. Я помню её, потому что она до сих пор стоит на чердаке нашего дома в Форксе, на перекладинах остались отпечатки моих зубов – мама, смеясь, рассказывала: как только у меня прорезался первый зуб, моим любимым занятием стало их целенаправленное уничтожение.
Я с упоением всматриваюсь в лицо ещё совсем молодой мамы, искрящееся любовь к своим новорожденным детям. На руках отца безмятежно посапывает Элис. Родители воркуют, склонившись надо мной, а я, упакованный, как рождественский подарок, во всё голубое, кряхчу, сучу ножками и пытаюсь улыбаться, будто понимая, как любим ими.
Картинка медленно растворяется, туман уплотняется, и я вынужден двигаться дальше, гонимый вперед слепой надеждой на то, что вновь увижу просвет в молочной пелене. И мгла не разочаровывает меня: картинки появляются и исчезают, наполняя и опустошая меня одновременно.
Вот я, девятилетний мальчишка, очертя голову кидаюсь на малолетних хулиганов. Они прижимают Элис к стене и пытаются отобрать у неё деньги, выданные родителями на покупку сладостей. Один из них хватается за цепочку моей сестры, подаренную бабушкой, и резко дергает вниз – цепочка рвется, и Элис вскрикивает от боли и обиды. Их больше, они сильнее, но этот факт не заставляет меня остановиться даже на мгновение. Они разбивают мое лицо в кровь, но деньги и, главное, цепочка, остаются при Элис, а значит, я всё сделал правильно и жалеть мне не о чем – жгучая боль и безнадежно испорченная одежда не в счёт.
Больнее всего видеть моменты моей жизни с Изабеллой. Вот нам по одиннадцать лет, и я ещё не знаю кто эта красивая девочка, похожая на изящную фарфоровую статуэтку. Она спотыкается и падает, я протягиваю ей руку, и её ладошка скользит в мою – мягкая, теплая! Девочка смущенно улыбается, глядя в мои глаза, что-то бормоча в знак благодарности, но я не слышу слов, утопая в весенней зелени её глаз.
Туман дарит воспоминание за воспоминанием: наше первое свидание, трепет первого поцелуя, нежность первой ночи, окутанная мороком, опутанная лаской, потерявшаяся в словах… Болезненно прекрасные мгновения, бережно сохраненные душой до единой секунды, до каждого вздоха и поцелуя, прикосновения и запаха, мимолетно и затаенно! Сердце сжимается в воспоминаниях, плачет от боли потери и поет от счастья, что всё это было в моей жизни!
Молочная пелена медленно, вальяжно и ленно расступается передо мной, неведомая мне сила подталкивает вперед, почти силком уводя все дальше и дальше от Беллы. Больше не видно ничего – только белесый путь и голоса, мелодии звуков из прошлого.
Я смутно слышу давно умершую бабушку, которая тихим, бесцветным голосом напевает колыбельную – я почти не помню слов, в памяти остался лишь голос и ощущение её рук: они хрупкие, кожа тонкая, будто старый иссушенный пергамент. Бабушка всегда была маленькой и незаметной, даже в этом лабиринте воспоминаний она – всего лишь тень, которая зовет меня, коря, что забыл её. Хочу пойти на зов, но вдруг издалека раздается встревоженный голос матери: «Нет, нет, тебе нельзя, Эдвард, тебе нельзя к ней, твое время еще не пришло. Маленький, слышишь? Нельзя, иди, ты должен идти дальше!» Мамин голос испуган, я слышу дрожь в каждом звуке.
Силой заставляю идти себя вперед, затыкаю уши, чтобы страдальческий плач бабушки не терзал меня. Страх, страх, он исподтишка протягивает ко мне свои обманчиво мягкие лапы, как кошка, спрятавшая когти, но готовая ими ударить в любой момент. Страх гонит меня всё дальше и дальше, дальше!
Молочный шлейф тумана становится всё темнее, гуще и тяжелее! Я чувствую его плечами – тяжело, так тяжело дышать, ещё тяжелее идти, сердце уже почти не бьется, оно лишь тягостно отбивает едва ощутимые удары, сердце задыхается в моей груди. Невнятная злая сила тянет меня к земле, туман сгущается, готовясь поглотить меня. Он навевает успокоение и легкость, обещая: больше никакой боли и слез, никаких лекарств и капельниц – только нега и покой. Покой. Долгожданный и недостижимый! Покой. Я почти согласен.
Внезапно сквозь туман до меня долетает голос Элис, бесцеремонно нарушающий подступивший ко мне покой: «Ты не умрешь, Эдвард! Пообещай мне, что вернешься ко мне, не оставишь меня одну! Пообещай!» – словно заклинание шепчет она. И я пообещал – пообещал ей перед самой операцией… Прости меня, Элис! Прости, но мне не подняться: земное притяжение слишком велико – мне не справиться одному! Слезы текут по щекам, но я знаю: это последние слёзы в моей жизни.
Вдруг чья-то сильная, горячая рука крепко сжимает мне плечо, вырывая из цепких лап вечного покоя, – отец! В далеком детстве он всегда с готовностью подхватывал меня и ставил на ноги, стоило только упасть.
Я с трудом, но всё же отрываюсь от земли, поднимаюсь, однако не знаю куда идти дальше: кругом непроглядная, вязкая, как трясина, темнота.
Всплеск воды… откуда здесь вода? Снова всплеск. Всплеск, всплеск, и я чувствую удушливо-влажный запах болотных лилий, к нему присоединяется едва ощутимый свежий аромат утренней росы, что бывает в первые дни лета: она замирает на нежных салатовых стеблях диких цветов, дрожа и переливаясь в первых лучах солнца. Вода, Боже, вода! Где-то в этой темноте есть вода! Я иду на звук, ускоряя шаг быстрее и быстрее. Снова всплеск.
Сквозь всплески слышатся музыкальные переливы звуков, складывающиеся в самый родной и нежный голос – Белла. Моя Белла! Я уже бегу, задыхаясь, сердце бешено колотится, но мне так легко, свободно: её голос всё ближе!
Тьма постепенно рассеивается, и я оказываюсь на берегу реки, хватаюсь за поручень моста, перекинутого от берега к берегу, пытаясь отдышаться. Белла зовет меня, её голос звенит колокольчиком – она уже так близко! Из последних сил делаю шаг на шаткий мост – старые прогнившие доски скрипят, вода под ними шумит, в её мрачной темноте царственно-белые лилии источают свой аромат, маня к себе, похожие на ундин, завлекающих в свои смертельные объятия моряков. Белла зовет меня с другой стороны моста – я иду к тебе, слышишь, родная, иду! Шаг, ещё один шаг. Света всё больше и больше, но мост такой бесконечный! Господи, как далеко, как долго!
Вдруг, почти ослепленный внезапной вспышкой света, понимаю: я у цели! Нежный голос совсем близко, я вижу силуэт Беллы – прекрасная хрупкая девочка, моё сердце, душа и дыхание. Она протягивает руки, ласково шепча: «Как ты долго, как долго, я истосковалась по тебе, а тебя всё нет». Сердце готово вырваться из груди, ноги сами несут меня в объятия любимой! Она светится, как искрящийся солнечный луч, в каштановых локонах пляшут огоньки, глаза сияют, а губы шепчут: «Эдвард, мой Эдвард!» Я падаю к её ногам, судорожно цепляясь за них, прижимаюсь к ним крепко, до боли, а руки любимой нежно гладят меня.
– Белла… – выдыхаю я.
========== Глава 24. Сколько будет ещё боли, сколько? ==========
…Я замолчал и притих.
Сырой бетон под щекой
Не даст мне забыть
Про вечность холодов
И бесполезность снов
В которых я летал.
Крик перелетных птиц
По нервам сотней спиц
Напомнит что я знал.
Сколько было уже боли.
Сколько. Горько.
Каждый день так странно горько,
Но только роли не изменишь, и только.
Сколько будет еще боли?
Сколько?
«Сколько?», гр. Lumen
Его разум и тело вместе представляли настоящий справочник боли.
Стивен Кинг «Сияние»
Больно, Господи, как же больно! Болело всё, что только могло болеть, начиная от кожи на голове и заканчивая кончиками пальцев рук. Но сильнее всего болела спина: раскаленные прутья раз за разом вонзались в нее, ломая, обжигая, пронзая насквозь. В голове беспрестанно раздавался гул, похожий на пароходный гудок, – я уже почти оглох, звуки доносились до меня словно через толщу воды. Эта же самая вода давила сверху пятитонным грузом. Глаза ломило даже от приглушенного света реанимации. К горлу то и дело подступала горячая волна тошноты.
Но в этих страданиях прослеживался и один положительный момент: я всё ещё был здесь, я всё ещё был жив.
– Потерпи, Эдвард, сейчас станет легче, – голос доктора Мейсона разорвал порочный круг багрового тумана полузабытья и боли.
Я открыл глаза и попытался сфокусировать на нём взгляд – не сразу, но мне это удалось. Через катетер, воткнутый мне в руку, доктор ввёл очередную дозу обезболивающих.
Мейсон сел рядом со мной и взял меня за руку. Не знаю, сколько времени он так просидел, но, когда я стал постепенно проваливаться в спокойный и здоровый сон, тот всё ещё оставался со мной.
Следующий раз я увидел доктора Мейсона только через два дня, уже находясь в обычной палате. Он улыбался, излучая волны уверенности и спокойствия.
– Как ты себя чувствуешь?
– Не знаю, трудно сказать, – мне совсем не хотелось портить его хорошее настроение своими жалобами.
– Выглядишь гораздо лучше, чем два дня назад.
– Так странно вдруг перестать чувствовать свои ноги, – всё-таки не смог сдержаться я. – Но вместе с тем они ведь есть: я их вижу, могу дотронуться до них. Это не укладывается в голове, как какой-то сюрреалистичный кошмар! – я честно старался, чтобы мой голос оставался ровным, но в нём всё равно проскальзывали истеричные нотки отчаяния.
– Прошло слишком мало времени, потом станет легче. В конечном итоге, человек привыкает ко всему, – совершенно убежденно проговорил доктор, как обычно, опускаясь на стул возле моей кровати. – Многое зависит от того, как к этому относиться. Если молодой человек оказывается в инвалидном кресле после несчастного случая – это его трагедия, с какой стороны ни посмотри. Для тебя же инвалидная коляска – это первый шаг к победе. Главное, продолжай и дальше идти в этом направлении, как бы ни было трудно. А двигаться по жизни вперед можно, и сидя в инвалидном кресле, уж поверь мне, сынок! – Мейсон ненадолго замолчал, а потом широко улыбнулся и даже подмигнул мне. – Но ведь мы сделали это! А? Мы молодцы! Мы выиграли этот бой с минимальными потерями. Если тебе кажется, что сейчас я весь сияю от гордости, то тебе это не кажется: так оно и есть! Все нейрохирурги грешат этим… Но какая это была гонка! Видел бы ты лицо старшего ординатора, когда из поврежденной артерии во все стороны брызнул фонтан крови! Несколько страшных минут даже я был уверен, что это конец… Прости, если пугаю тебя, обычно я никогда не рассказываю пациентам такие подробности. Но тебе говорю всё это не просто так. Я хочу, чтобы ты встряхнулся и наконец осознал самое важное: даже потеряв в три раза больше крови, чем циркулировало в твоём организме, ты выжил! Ты смог, а значит, и с остальным справишься! Ну же, улыбнись! Хотя бы этой своей вымученной улыбочкой.
Я без труда выполнил приказ доктора, ведь, глядя на него, бурлящего энергией, не улыбаться было невозможно. Как невозможно было не чувствовать острого желания жить – жить хотя как-нибудь, хоть сколько-нибудь!
– Вот так-то лучше! – одобрительно закивал он. – Я хочу видеть твой боевой настрой на победу: без него дальше делать нечего. И, кстати, не только я так считаю, но и химиотерапевт с онкологом. Я сегодня говорил с ними – у них на тебя грандиозные планы, а значит, они верят в возможный успех, что случается с ними крайне редко, уж я-то знаю, – лицо Мейсона помрачнело, но он тут же вновь встряхнулся. – Есть ещё одна тема, которую я хотел обсудить с тобой, хотя она и не в моей компетенции. Несмотря на паралич ног, ты остался мужчиной, – его бровь выразительно изогнулась под немыслимым углом.
– Вы имеете в виду секс, или я что-то неправильно понимаю? – рассмеялся я. – Думаете, это может меня сейчас интересовать?
– Сейчас – нет, но когда-нибудь обязательно будет. Секс – важная часть нашей жизни, и я рад, что ты не будешь его лишен. Однако я хочу поговорить немного о другом. Химиотерапия, как правило, делает людей бесплодными. Поэтому, если ты собираешься стать отцом, тебе нужно принять необходимые меры уже сейчас.
Я уставился на него в полнейшем недоумении, решив, что он предлагает мне сегодня же «заделать» кому-нибудь ребенка.
– Я говорю о том, чтобы заморозить сперму на будущее, – видя мою растерянность, пояснил Мейсон.
– Не думаю, что… – пробормотал я, чувствуя, как краснеют щеки от дурацкого смущения.
– А тут не надо думать, – хохотнул он. – Берешь парочку порно-журналов – и вперед! Не прямо сейчас, конечно, но перед началом «химии» – обязательно. Я уже говорил об этом с твоими родителями – Эсми явно не готова отказаться от мечты понянчиться с твоими детишками.
Я рассмеялся, понимая, что доктор Мейсон пытается поднять мне настроение, и был безмерно благодарен ему за это и за всё остальное. В моих глазах он был всемогущим чудотворцем – почти Богом.
– Спасибо вам за всё, что вы сделали для меня и продолжаете делать, – я чувствовал, как на глаза наворачиваются слезы, но даже не пытался остановить их. – Я навсегда останусь у вас в неоплатном долгу.
– Твоя жизнь станет для меня лучшей наградой – другой мне и не надо. Поэтому живи, сынок, просто живи!
Уже почти захлебываясь слезами и чувствуя на душе такое приятное и неожиданное облегчение, я кивнул и впервые поверил в то, что у меня есть реальный шанс выжить.
***
Следующий год обернулся всеми семью кругами ада для меня, для родителей и для Элис. Сестра, оставив на время учёбу и Джаспера, практически поселилась в больнице. Я умолял её вернуться в Россию, убеждая, что хотя бы один из нас должен продолжать жить дальше, но та осталась непреклонна в своём решении – мой маленький упрямый «ураганчик», который, впрочем, очень скоро превратился в едва ощутимое дуновение ветра.
Когда я ещё не утратил способности мыслить связно, меня беспокоило, что через Джаспера и Эммета Элис может узнать правду о нашем «расставании» с Беллой. Однако очень быстро выяснилось: дружба Джаса и Эммета, не выдержав проверки временем и расстоянием, постепенно сошла на нет, и за последний год они не обменялись ни единым сообщением.
Был ли я рад, что можно не опасаться разоблачения? Да, безусловно. Но вместе с тем глупо было бы отрицать то чувство разочарования, что больно ужалило меня. Я не передумал относительно правильности своего решения, но определенные сомнения всё же стали одолевать меня. Особенно теперь, когда смерть уже не так крепко сжимала в своих объятиях. Однако с началом «химии» и лучевой терапии от этих сомнений не осталось даже призрачного следа.
Я заранее понимал, что меня ждёт долгий и трудный путь, но не представлял, насколько тяжёлым и бесконечным – бесконечно тяжелым! – он будет. Я оказался не готов к этому: к такому невозможно подготовиться. В какой-то момент я с ужасом понял, что если не болезнь, то её лечение уж точно сотрёт меня с лица земли, уничтожит – уже уничтожало!
Моё тело, отравленное ядом, разрушалось клетка за клеткой мучительно медленно, бесконечно медленно, как в самой изощренной пытке, словно кто-то невидимый вытягивал из меня все жили, выпивал жизненные соки.
Поначалу я старался держаться, хотя бы при родителях и Элис, чтобы не пугать их, и без того надломленных, ещё больше, но с каждым днём, с каждым часом это становилось всё труднее, невозможнее, забирало остатки сил. Я распадался на части, облетал, как покореженный дуб с наступлением холодов, и не мог собрать себя воедино.
Лёжа на полу больничного туалета в луже собственной блевотины, я прижимался щекой к ледяному кафелю и думал только об одном: «Как хорошо, что Белла не видит всего этого! Белла… Белла… моя Белла, как ты нужна мне… как нужна!»
Именно в тот момент я впервые сорвался, потеряв остатки самообладания, а вместе с ним и своё человеческое обличье. Я заскулил – сначала тихо, жалобно, потом всё громче и громче, пока скулеж не перешел в вой. Я лежал и выл до тех пор, пока рыдающая навзрыд Элис ни стала поднимать меня с пола, пытаясь усадить обратно в инвалидное кресло. Её руки крепко вцепились в меня и тянули, тянули вверх – Боже, какие же тонкие, почти прозрачные у неё стали руки! И в этом была моя вина… Я ненавидел себя за то, что сделал с теми, кого любил больше всего на свете!
– Оставь, просто оставь меня… – задыхаясь, шипел я, – уходи, прошу тебя, уходи…
И сестра вняла моей мольбе: она ушла… но лишь за тем, чтобы тут же вернуться вместе с отцом.
Сильные и надежные руки Карлайла встряхнули меня, обхватили и крепко прижали к отцовской груди.
– Держись, сынок! Ты должен держаться, если хочешь жить! – шептал он, укачивая меня прямо там, сидя на холодном полу больничного туалета. – Ведь ты же хочешь жить? Конечно, ты хочешь жить! Хочешь, Эдвард! Ради меня, ради мамы! Ради всех нас!
И я хотел жить! Вернее, я ЗНАЛ, что хочу, но не чувствовал в себе этого желания, не находил его: оно скукожилось под гнетом обреченной усталости, стало маленьким и незначительным – как ни старался, я не мог ухватиться за него.
Это был мой первый срыв, но далеко не последний.
Никогда не забуду, как в порыве неконтролируемого отчаяния, хватаясь за мамины руки и крепко сжимая их, исступленно шептал потрескавшимися в кровь губами:
– Помоги мне, мамочка, помоги! Пожалуйста, сделай хоть что-нибудь! Хоть что-нибудь, мама! Я так больше не могу, не могу, не могу! Пожалуйста, мамочка, пожалуйста! Я больше не хочу, ничего не хочу, слышишь, мама?! Ну, пожалуйста, останови всё это! Прошу тебя!
– Что, сыночек? Скажи, что мне сделать?! – У Эсми уже не осталось сил на рыдания: она беззвучно плакала, кусая губы и раскачиваясь взад-вперёд, почти обезумев от горя. – Я бы сделала всё что угодно, если бы только знала, как помочь тебе, сынок, как унять твои страдания! Но я не знаю, мой милый, не знаю! Я забрала бы их себе, если бы могла! Прости меня, мой ангел! Прости меня, если можешь!
И только ночами, когда я проваливался в тяжелый сон, становилось немного легче. Там, во сне, я снова и снова звал Беллу и – о чудо! – она откликалась на мой призыв. Я слышал её голос – столь родной, столь желанный, необходимый мне, как воздух! Моя девочка говорила мне о своей любви, говорила, что не забыла и никогда не забудет. Она умоляла меня вернуться, потому что я ей нужен, нужен как никогда прежде!
Даже сквозь расстояния моя Белла по-прежнему была со мной. Отчасти благодаря этому я не сошел с ума в тот страшный год боли и распада.
***
Лето 2004 года
– Как ты, сынок, осваиваешься потихоньку? – зайдя ко мне в комнату, осторожно спросил отец.
Вот уже неделю я был дома. Родителям пришлось основательно тут всё переделать под потребности инвалида-колясочника, так что в бытовом плане особых затруднений я не испытывал.
Они изо всех старались предугадать любое моё желание, с чрезмерным усердием кидались исполнять любую просьбу, в разговоре со мной тщательно подбирали и взвешивали каждое слово, будто я был старинной хрупкой вазой, готовой дать трещину даже от малейшего неосторожного прикосновения.
– Мне нужно съездить в Лос-Анджелес: истекает срок аренды квартиры, – отец говорил медленно, словно нехотя, как гонец, приносящий дурную весть. – Я хотел спросить: как быть с вещами? Может, ты хочешь что-то оттуда забрать?
Я молчал, потрясенный чередой прекрасных, но таких болезненных воспоминаний, замелькавших перед моим мысленным взором. Дом – мой настоящий дом, наш с Беллой уютный мирок, в которым мы были так наивно и безмятежно счастливы. Дом, где до сих пор жила наша любовь.
Да и что я мог сказать отцу? «Верни мне моё сердце – оно осталось где-то там… Может быть, в шкафу на третьей полке слева»?
Внезапно в памяти всплыл старинный комод – мой последний подарок Белле. Интересно, забрала ли она его? Нет, вряд ли. Скорее всего, предпочла забыть о нём раз и навсегда… как и обо мне…
– А мы можем привезти оттуда комод? – как можно равнодушнее спросил я.
– Комод? – озадаченно переспросил отец. – Да, конечно, если он тебе нужен. Не думаю, что с этим могут возникнуть какие-то проблемы.
– Я поеду вместе с тобой! – на одном дыхании выпалил я.
– Эдвард, сынок, мне кажется, это неудачная мысль, – Карлайл присел передо мной на корточки и заглянул в глаза. – Ты ещё не готов к таким долгим и трудным поездкам.
– Позволь мне самому это решать, – получилось гораздо резче, чем хотелось.
За прошедший год моя нервная система сильно пошатнулась: я начал «заводиться» с полоборота, мог нагрубить на пустом месте – во мне затаилась какая-то беспричинная необъяснимая злоба, только и ждущая малейшего повода, чтобы тут же выплеснуться наружу. Я пытался бороться с этим, но пока выходило неважно.
– Да, конечно, ты можешь поехать, если хочешь. Я и не думал запрещать тебе, всего лишь хотел предупредить, что будет непросто.
– Я справлюсь.
Оказавшись в аэропорту, я сразу понял, что отец был прав: эта поездка действительно станет для меня настоящей пыткой, но не в физическом плане.
Впервые после операции попав в людное место, я оказался не готов к тому, как окружающие реагировали на меня. Я чувствовал на себе десятки любопытных пристальных взглядов, буквально впивающихся мне в кожу, словно пиявки. Но стоило мне только повернуть голову в сторону уставившегося на меня человека, как тот поспешно отворачивался, усиленно делая вид, будто меня вовсе не существует.
И всё же мне удалось перехватить несколько взглядов – помимо любопытства в них отчетливо читалось омерзение, граничащее с ужасом. Я был им глубоко противен, и всё же они не могли не смотреть на меня – ничто так не притягивает и не отталкивает одновременно, как уродство… разве что ещё смерть.
И я – лысый, катастрофически худой парень-инвалид с болезненно бледной кожей и багрово-синими кругами вокруг глаз – был для окружающих живым воплощением самой смерти, ярким подтверждением того, насколько беспощадной может быть болезнь, досадным напоминанием, что никто из них не вечен.
Как же мне хотелось тогда исчезнуть, раствориться, стать невидимым! Я сжался в комок и сполз ниже, непроизвольно стремясь стать как можно меньше.
Девушка за стойкой регистрации растянула губы в жалком подобие дежурной улыбки и старательно избегала смотреть мне в глаза, а когда при передаче документов наши пальцы на мгновение соприкоснулись, вздрогнула всем телом и поспешно отдёрнула руку, явно опасаясь подцепить опасную болезнь, словно я был прокажённым.
Впервые в жизни я почувствовал на себе, что значит быть изгоем общества, в котором нет места слабым, больным или даже просто не таким, как все.
***
Так бесконечна морская гладь,
Как одиночество моё.
Здесь от себя мне не убежать
И не забыться сладким сном.
У этой жизни нет новых берегов,
И ветер рвёт остатки парусов.
Я здесь, где стынет свет и покой!
Я снова здесь, я слышу имя твоё.
Из вечности лет летит забытый голос,
Чтобы упасть с ночных небес холодным огнём.
«Я здесь», гр. Кипелов
– Всё-таки сначала надо было поехать в гостиницу и отдохнуть, – отец с тревогой поглядывал на меня, отпирая дверь, в которую я уже и не надеялся когда-либо вновь войти.
– Я не поеду в гостиницу. – Я сжал в кулаки трясущиеся от волнения руки. – Хочу остаться здесь. Один.
– Но, Эдвард, – на лице Карлайла отразилось явное замешательство, – здесь же ничего не приспособлено… для тебя.
– Я справлюсь, – твёрдо произнес я фразу, успевшую порядком набить мне оскомину за последние две недели.
Не говоря ни слова, отец вложил мне в руку ключи от уже отпертой квартиры и так же молча двинулся в сторону лифта, позволив себе лишь однажды, обернувшись, кинуть в мою сторону обеспокоенный взгляд.
И я действительно верил, что справлюсь, – верил ровно до тех пор, пока ни пересек родного порога. Я и подумать не мог, насколько болезненным окажется для меня возвращение в наш с Беллой дом.